XXIII. Первая любовь
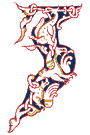 атянулась наша повесть. Такая длинная история о таком маленьком человеке. Пора ее кончать. А для заключительной главы все же кратко пересмотрим прошлое Егорки, которому, быть может, суждена долгая и полная еще более пестрых приключений жизнь. Без преувеличения и без ненужных, унижающих человека преуменьшений, примем эту жизнь так, как она здесь рассказана, как жизнь одного из сынов простого и все-таки великого народа. Ведь о народе и был наш главный сказ.
атянулась наша повесть. Такая длинная история о таком маленьком человеке. Пора ее кончать. А для заключительной главы все же кратко пересмотрим прошлое Егорки, которому, быть может, суждена долгая и полная еще более пестрых приключений жизнь. Без преувеличения и без ненужных, унижающих человека преуменьшений, примем эту жизнь так, как она здесь рассказана, как жизнь одного из сынов простого и все-таки великого народа. Ведь о народе и был наш главный сказ.
Мы видели, как, еще в руках матери, впервые увидел Егорка небо, не в звездах, нет, а в весенней луже. И как он его увидел? Увидел таким, каким должно быть или оказалось Царствие Божие на земле, ни больше, ни меньше. И его первою любовью была мать с ее твердынею любви к ребенку.
Мы видели, как он увидел и всем своим малолетним существом приник к земле, босыми ногами прошел по родной пашне и как, еще бессознательно, взял от нее плодородную любовь и мудрость простоты.
Мы не можем отрицать, что из нищеты своего детства он выносит силу терпения, богатство впечатлений и признание души народной. И первая его любовь, любовь к матери, оплодотворяется любовью к Богу; любовь простая, без сомнений и мучительства вопросом: быть или не быть? Душа его, несмотря на юность, раскрылась, как простой полевой цветок, лишенный поливки и ухода садовода; раскрылась для утренней росы и для дождя, и для губительного зноя, и все-таки, в грозе и буре, природной стихии, цветок этот выжил, удержался корешком за землю, хотя и растерял лепестки, развеял ветер его невидимые семена.
Мы видели Егорку еще до того, как его стали звать Егором, в его вольной и невольной, но неустанной борьбе с препятствиями на пути и лицом к лицу со смертью. И все это он перенес без ропота, но с благодарностью судьбе и Богу, потому, что сама жизнь оказалась его практической школой. Но он не возненавидел и оранжерейно вскормленных и заботливо, по системам выученных современников. Но возлюбил их без зависти. Причудливыми, ничуть не для него одного приготовленными путями, он пробивался через темные бездорожья жизни, через толпы себе подобных, простых и невежественных людей и даже не знал, куда и для чего ведет его стихия жизни? В пространстве и во времени он был потерян, как былинка среди бесконечных трав и бурьяна в его родных горах и степях, или как сухое, вырванное из земли перекати-поле, силой ветра он был гоним под серым осенним небом, пока случайный кустик зацепит его и задержит до первого снегопада. Но придет весна, придавленное к земле перекати-поле прорастет зеленою травой, само врастет каким-то стебельком, возникнет тонкой былинкой, поклонится соседним цветочкам. Своя жизнь и не своя - общая со всеми растущими вокруг и около.
Несмотря на свою всегдашнюю подтянутость, все же вырастал неловкий, неуклюжий в робости, стыдливый, долгие годы чужой среди чужих, наивный среди циников, невежда среди знающих все искушенья. И все больше и все чаще удивлялся обнаженности просвещенного бесстыдства. Сам стыдился своей стыдливости и не умел ценить своей простой крестьянской чистоты
Вот исполнилось ему восемнадцать лет... Идет девятнадцатый. Как-то сами собой развернулись плечи, все рубахи вдруг стали узки, и в рукавах, и в вороте. Как ни стрижет волосы, они все равно овсяною "брунью" вьются, и сквозь серебристый пушок на щеках пробивается нежная розовая кровь румянцем. И изобрел себе забаву - из песни научился желанию: оседлать коня быстрого и помчатся, полететь в дальнюю сторону... Ну, дальность не такая дальняя, а только бы покрасоваться, соколом мимо купеческого, либо мимо поповского дома пронестись...
И даже не знал, что люди потешаются над ним за глупые его наряды: то рубаху шелковую, цвета неба, то широкие лиловые штаны из бархата, то какой-нибудь особенный азям из верблюжьей шерсти. Думает, что все это кого-то помрачает, а оно наоборот: и Маничка поповская смеется-заливается, и та, за сорок верст в большом селе, купеческая Аннушка, рассказывает, где придется о забавном молодом цыгане...
- Кто такой? - спрашивают у нее.
- Да кажется, писцом у мирового судьи служит...
А мировой судья смешного парня все еще обтесывал. Учил, как надо одеваться, как дамам кланяться. То к батюшке проездом завезет его, то к учительнице, медвежонком позабавиться. Краснеет парень, а это всех смешит. Заехали к отцу Петру, на Маничку взглянуть. Но парень женихом себя еще не чувствует. Нет у него храбрости в глаза веселой Манички смотреть: ведь она та самая, из-за которой он когда-то в грехе перед отцом Петром каялся. А Маничка чудесная: все тоже рдеет, голосок, как колокольчик под дугой в лунную снежную ночь, улыбка - чистое, святое целомудрие. Но глупостью какой-то пристыдил себя: не то хотел сказать нечто ученое, не то какую-то обмолвку допустил, так что вышло грубо - так себя пристыдил в глазах всего застолья, что больше сам не захотел глаза показывать...
Но вот, на Пасху выщелкнулся в черный сюртук... Именно в сюртук - с белой манишкой и с широким черным галстуком, а сюртук новехонький и длинный - и на этот раз не в седле, конечно, а на паре выездных судейских лошадей, - коренник-то был даже иноходцем - разлетелся в то село, которое за сорок верст, к заутрене... А Аннушка-то в церкви и не появлялась. Староверкой она оказалась.
И вот... И вот... Неописуемо было отчаянье молодого искателя... Чего он ищет? Почему-то куда-то рвется ретивое, и нет душе ни сна , ни покоя?.. А Аннушка все больше и невидимо волнует. Как у Манички, он не видал еще и глаз ее. Только видал, краем глаз своих, когда проносился на коне мимо дома, что вышла из ворот и пошла к лавке со связкою ключей стройная и юная и с длинной черной косой... С тех пор вот и задумался детина. И чем больше желал повстречать и познакомиться, тем сильнее брала робость...
Но как-то, видимо сама судьба устроила совершенно невозможное событие. В купеческом доме, во второй половине, почему-то было суждено судье и, значит, его письмоводителю остановиться, как бы на квартире. Суд в этом селе длился целую неделю. И сам судья, как сердцеведец, взял и ввел юнца в купеческую семью. Ввел, познакомил, поболтал и ушел к себе, заниматься делами.
Но разве можно описать волнение восемнадцатилетнего ребенка, который просто обалдел от Аннушкиной красоты. Да разве смел он когда-нибудь мечтать, чтобы вот такая могла за него выйти замуж?.. Полюбить?.. Нет, он хотел лишь одного: чтобы она не смотрела на него, когда он на нее смотрит... А он смотрел, смотрел, без всякой совести, забывши обо всех...
Он знал, как записывать показания свидетелей и потерпевших по самым серьезным уголовным делам. Судья поручал ему важные бумаги составлять. Но вот описать Аннушкину косу, одну только косу, как она падает на спину, то сползает на одно плечо, то перекидывается на грудь, когда Аннушка наклоняется поднять упавший платок, - описать это не хватит ни сил, ни уменья, ни смелости... Потом целое огромное показание можно написать об Аннушкином голосе, который исходит из ее губ, чуточку припухлых, чуточку смеющихся, немножко бледных, но таких святых, таких чистых, что оттого и голос такой баюкающий: вот так взял бы, упал к ее ногам и слушал бы, и так уснул бы до смерти. Голос этот, как-то переливается от песни в плясовую: то запоет, как свирель, то застучит под самым сердцем таким мягким, быстрым, шутливым "трепака"... Нет, описать тут вообще ничего нельзя, потому что человек привыкший хорошо писать протоколы и постановления о заключении подсудимых под стражу, согласитесь, не может же причинять неприятности девушке, которая, буквально, отняла всякое желание не только писать, но и говорить... Даже дышать при ней нужно украдкой, чтобы самому не слышать своего дыхания. И все это случилось в одночасье, пока он сидел за столом и делал вид, что кушает. Какое уж там кушать? Разве можно при ней чавкать ртом?
Боже, как он потерял свой стыд в те дни! Все способы находил убежать из временной судейской канцелярии... Вдруг, ни с того ни с сего, появится в купеческой квартире... Знал, что может все сам испортить, все сломать в себе самом, но справиться не мог. И главное, говорить не мог. Язык костенел, а если произносил два-три слова, то непременно самых глупых... Аннушка смеется с придыханием и ничуть не стесняется. Не говорит, а поет.
Но повезло ему чертовски, наконец. Судья приехал с ним в одном тарантасе.. а тут перед отъездом подъехал становой пристав. Им подали первую тройку, а письмоводителю с делами подали пару отдельно, и пара эта на счастье запоздала. Судья с приставом уехали, а он остался и опять, теперь уж с целью попрощаться, вошел в купеческую квартиру. Все были на кухне, ужинали. Аннушка им подавала, а потом сказала матери:
- Мама, ты кисель сама разлей. - и повела непрошеного гостя в горницу.
Там было темно. Она зажгла лампу, и слышно было, как в темноте коса ее скользнула по стеклянному абажуру и как потом при огне, сверкнули ровные, мелкие Аннушкины зубы... Она повернулась к нему, шагнула ближе, и голос ее как-то хрустнул внутренним, подавленным смешком:
- Ну, чего тебе от меня надо?
Вдруг такой простою, такой доверчивою шуткой прозвучали эти слова. Это было так неожиданно, и так просто, и так по родному, что он окончательно потерялся и не знал, что ей сказать. Должно быть, он был очень жалок, очень юн, очень глуп и все-таки бесконечно мил для нее сразу, что она взяла за отворот его верблюжьего, какого-то необычайного азяма и, тряхнувши, приблизила его лицо к своим глазам...
И вот... Этого невозможно рассказать словами...
Он в самом деле перестал дышать, так как взгляд ее, глаза ее и близость смеющегося лица настолько ошеломили его, что он похолодел и побледнел... Должно быть, это так было ей дорого и так понятно, что голос ее вдруг задрожал, и в нем, еще через улыбку, еще через шутку, звучали уже слезы...
- Ну, что ты?.. Что ты?.. Испугался?..
Потом она вдруг замолчала и долгим, долгим взглядом рассматривала это нежное и чистое, в пушку, лицо со вздернутым носом, с белокурыми кудерьками на висках...
Потом она прочла какие-то стихи, немного, может быть, лишь восьмистишье, которого он не запомнил, так как все, что с ним происходило, было выше всякой поэзии, глубже всех трагедий.
Раньше, когда он не смел мечтать о поцелуе, он все же в тайне помышлял о нем, как о предельном счастье, а теперь ему и в голову не приходило, чтобы взять ее за плечи, привлечь и спрятать свое лицо хотя бы в растрепавшейся косе. Нет, он как-то сразу был поднят на самую вершину обожания и сразу вырос, и сразу затих, и сразу понял нечто более трагическое, нежели страх когда-либо потерять это счастье. Он просто сразу, тут же, без раздумий, в одну минуту убедил себя, что он никогда не должен прикасаться к ней, потому что он ее не стоит...
Но зато сама Аннушка, ни здесь, ни в комнате, а около повозки, когда она проводила его к позванивавшей колокольчиками паре лошадей, опять же за отвороты взяла, притянула его лицо к своему и, не боясь, что кто-нибудь увидит, медленно и несмело, как бы ожидая его поцелуя, прикоснулась к его губам, а потом толкнула его от себя и сказала:
- Ты глупый, мой мальчик!
И ждала, когда повозка тронется... Даже привстала на приступку и со смехом заглянула еще раз в лицо его, когда он уже сел в повозку. Как девочка, которую кто-то обидел, он старался спрятать слезы, которые вдруг покатились, покатились... Она это увидела, перегнулась внутрь повозки и губами припала к его влажным глазам, выпивая его слезы и повторяла дрогнувшим, таким глубоким, задохнувшимся голосом:
- Милый мой!.. Милый!..
И слезы их смешались вместе.
Была осень... Была ночь, дождливая и темная... Колокольцы звенели острою тоской в душе вдруг возмужалого девятнадцатилетнего парня. Он отъезжал от Аннушки, три месяца спустя, в третий и в последний раз. На этот раз она так же выходила провожать его и так же целовала, но он знал, что это был последний раз... Она выходила замуж за серьезного, за взрослого... За настоящего мужчину... За станового пристава... Теперь он увозил от нее запах ее платья, запах волос ее, ибо на этот раз она целовала его долго, в комнате, и он упивался ее поцелуями, упивался глубиной и чернотою ее глаз, а сам все-таки целовать не смел...
В душе своей он увозил под звон колокольцев еще грохотавшую весеннюю грозу, и было грустно, грустно на всю жизнь, что Аннушка навсегда, на всю жизнь, покрыла поцелуями его залитое слезами лицо...
Прошли годы... Нет, не годы, а целые тысячелетия... Глаза его увидели весь мир... Весь мир в грозе и буре, в огне великих войн и в кровавом море революций... И смерть не раз грозила погасить его глаза... Он вырос, он многое познал, он многое и многих возлюбил и испытал хмель непрочной славы. И если скоро Высший Судия предъявит к нему обвинение во многих согрешениях и, испытывая его, скажет:
- Не было у тебя ничего святого на земле!
Он заспорит с Богом. Он скажет смело:
- Нет, я возлюбил Тебя, Господи, своей первою любовью! И первую любовь свою не оскорбил даже помышлением!..
И еще скажет он Судие своему:
- Возьми, Господи, мой разум, мою память, мой слух и все иные Твои блага, но оставь мне по ту сторону жизни глаза мои - дивный и извечный дар Твой. Ибо глазами возлюбил я и благословил всю мудрость творения Твоего... Глазами я увидел небо на земле.
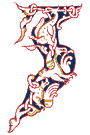 атянулась наша повесть. Такая длинная история о таком маленьком человеке. Пора ее кончать. А для заключительной главы все же кратко пересмотрим прошлое Егорки, которому, быть может, суждена долгая и полная еще более пестрых приключений жизнь. Без преувеличения и без ненужных, унижающих человека преуменьшений, примем эту жизнь так, как она здесь рассказана, как жизнь одного из сынов простого и все-таки великого народа. Ведь о народе и был наш главный сказ.
атянулась наша повесть. Такая длинная история о таком маленьком человеке. Пора ее кончать. А для заключительной главы все же кратко пересмотрим прошлое Егорки, которому, быть может, суждена долгая и полная еще более пестрых приключений жизнь. Без преувеличения и без ненужных, унижающих человека преуменьшений, примем эту жизнь так, как она здесь рассказана, как жизнь одного из сынов простого и все-таки великого народа. Ведь о народе и был наш главный сказ.