XIX. Егоркино счастье
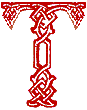 ак вот, Егорка закрепился в Семипалатинске, областном, значит - губернском городе. Если бы позади этого города не было соснового бора, широкой полосой уходящих вглубь Бельагачских равнин, желтые пески давно бы погребли эту одноэтажную деревянную столицу прииртышской Киргизии.
ак вот, Егорка закрепился в Семипалатинске, областном, значит - губернском городе. Если бы позади этого города не было соснового бора, широкой полосой уходящих вглубь Бельагачских равнин, желтые пески давно бы погребли эту одноэтажную деревянную столицу прииртышской Киргизии.
Восточный облик города определяли не только вонзившиеся в небо острые минареты и караваны верблюдов, тянувшихся по узким песчаным улицам или лежавших живыми, шерстистыми "барханами" на площадях базаров, но и само население, которое было азиатским. Среди опрятных татар и изысканных бухарцев и сартов, отличавшихся особой белизною лиц и чернотою шелковых бород, чернолицые монголо-видные киргизы преобладали. Здесь было много и прочих кочевых народов, частью ставших оседлыми, а большей частью мимо проходивших, как пески пустыни. И среди всей этой массы разноликой Азии, русские лица, русские одежды и дома почти терялись. Только казачья, западная часть города хранила твердые черты станичного уклада и утверждала здесь прародительскую Русь. Но те немногие высокие, белокаменные казенные здания в центре города, большой белый собор в одном конце города и серый корпус губернской тюрьмы в другом, занимали командные посты и были порукою в том, что невидимая рука Великороссии была здесь правящей и уверенно-хозяйской.
Вблизи от казенных зданий разросся торговый центр с несколькими магазинами; между этим центром и широко раскинутым базаром строился новый каменный собор.
Егорка, как-то проходя мимо, увидел, как десятки его сверстников на особых деревянных станках, которые нацеплялись на их хрупкие плечи, носили кирпичи наверх. По шесть, по восемь, а некоторые и по десять кирпичей накладывали на станки и, и согнутые тяжестью малыши, как вереницы муравьев тянулись по извилистым деревянным лестницам наверх загроможденной лесами постройки.
Это был наглядный урок для Егорки. Некоторые мальчики были меньше и слабей его и все-таки таскали кирпичи. И он так может, если, не дай Бог, его прогонят с легкой работы - мытья бутылок в подвале аптеки Ансеева. Нет, он теперь не потеряется в этом большом городе. Он будет таскать кирпичи.
И он старался закрепиться тем, что мыл бутылки чище, быстрее, делал все, что скажут, быстро и охотно. Большое это было счастье - иметь работу, готовый сытый харч, теплый уголок для ночлега и три рубля жалования в месяц.
большой это был город для Егорки, большими казались ему все дома в сравнении с убогими избушками родного села: все было большое, все восторгало и все-таки пугало. Один он тут, одинешенек. Дядя Василий только раз приходил на минутку. Да сам однажды в воскресенье ходил он к тетке Акулине. Далеко это, по пескам идти.
Первый месяц мытья бутылок подходил к концу. Егорка волновался и ждал, верил и не верил: неужто, в самом деле, он получит сполна и сразу - три рубля, нет - больше: триста копеек!
В его коморке под лестницей было темно днем так же, как и ночью, так что утром трудно было не проспать. Но он не просыпал.
Встав рано, он бесшумно одевался, на цыпочках прокрадывался к выходу на широкий двор и возле кухни умывался из висящего на цепочке рукомойника. Утирался во дворе, а причесываться и помолиться шел опять в свою каморку. Там было после утреннего света еще темнее, но он привык, на ощупь знал, где что лежит, приводил себя в порядок и снова выходил в ограду и ждал на кухонном крылечке, пока его не окрикнут на завтрак. Там его приветствовал улыбкой Тютюбай. Если в кухне трое: Герасим, его жена Ксюша - Аксинья то ж - и Егорка, а Тютюбай уносил свой завтрак и обед в каретник, а если приходилось есть на кухне, то за общий стол он не садился. Егорка понимал: он не крещеный.
Лицо у Ксюши за этот месяц еще гуще усеялось веснушками, но это ничего, улыбка ее была так же ласкова. Новый фартучек, который она сшила для Егорки, казался ему еще дороже, потому что она два раза приходила в подвал, чтобы примерить фартучек по росту и по поясу, хотя Герасим и берег ее и часто повторял:
- Не прыгай, ты же в тягостях!
Герасим не скрывал тревоги за жену, но не скрывал и радости:
- Еще до Троицы "оно" какое-то там явится: "точь в точь - либо сын, либо дочь!"
Раз в неделю, по субботам, Егорка из своей каморки слышал многоголосый шум и говор в доме, часто далеко за полночь. Это значило, что у хозяина собирались, как говорил Герасим, "компания политических". Ели, пили, играли в карты, кричали на разных языках. Егорка многого не слышал, многого не понимал, но от Тютюбая узнавал, что эти политические - "джаксы", что значит: добрые. Кучер развозит их по домам и говорит о них с почтением, которое Герасим объясняет по-своему:
- Да они ему на водку хорошо дают!
Однажды Егорка и сам узнал, что политические люди добрые. Один из них, старый и хромой пан Панкевич, обычно уезжал домой с Тютюбаем. Но случилось так, что Тютюбая не было: он на полукровках увез куда-то старую барыню. И Егорка с успехом, на охотничьих дрожках, отвез хромого барина.
- А ну, добре, хлопчик! - сказал пан Панкевич, когда сошел с экипажа, и протянул Егорке нечто блестящее. Это была серебряная монета - двадцать копеек. И это было как раз накануне получения им жалования, когда его письмо родителям было уже написано, а на конверт и марки денег не было. И вот - двадцать копеек серебром! Егорка понимал, что если бы пан Панкевич и ничего не дал - он его плохим бы не считал, но чтобы дать двадцать "ни за что" - надо быть хорошим.
В работе Егорка старался. Теперь он умел уже закупоривать бутылки пробками, закреплять их, наклеивать этикетки, укладывать бутылки в ящики.
Просто и неожиданно, за три дня до срока, получил Егорка первое жалование. Герасим Иваныч принес деньги, оказывается к обеду, да забыл в кармане и передал их только за ужином. Егорка взял сложенную вчетверо зелененькую новенькую трехрублевку и не решился развернуть и рассмотреть ее как следует. Стеснялся при других. Только у себя в каморке, в темноте, где ему не позволяли зажигать ни лампы, ни свечки, развернул, погладил рукой - хрустит, гладенькая, пахнет обновой.
Только на другой день утром, на заднем крыльце, рассмотрел, и ни за что не назвал бы это бумажкой. В ней было что-то красивое: орлы и радуга, а цифра "три" была полна какой-то тайны. Нарисовано: три, а в ней три-иста копеек!
Разделил это на вещи. На базаре видел новую рубашку, с узором по воротнику - двадцать пять копеек. Штаны новые висели - хорошие - шестьдесят копеек. От рубля останется еще пятнадцать копеек. Пояс лакированный можно купить. Как раз рубль выходит, вот какой он - "рубль серебром". Останется еще двести копеек - родителям к Пасхе. И вдруг испугался. Сапоги-то он чужие донашивает. Нельзя!.. Стараться надо, работать хорошо, чтобы не просыпать. А эти все - отцу и матери! Нельзя себе! Нельзя!
Днем Егорка заметался. Три рубля еще одну ночь проспали у него под подушкой, а днем он их оставил в своей каморке, спрятал так хитро, что вечером сам забыл, где положил, потому что несколько раз менял места. надо скорее их послать отцу.
Письмо написал в подвале, украдкой, своим карандашом и на своей бумаге на листке из старой тетрадки. Но не было конверта.
Герасим Иваныч за обедом спросил:
- Ну, как, обновы к Пасхе будем покупать?
Егорка не сразу понял.
- Аль деньги в банк положишь?
Егорка понял и ответил деловито:
- Отцу я должен послать.
- Должен? - удивился Герасим. - Все три рубля?
- Ну, а как же? Там нужды большие. Только вот конверта нету. - и Егорка достал из кармана штанов помятое письмо.
Герасим Иваныч сходил наверх. Конверт, перо и чернила попросил у Рафаила Марковича.
Герасим Иваныч хмурился. У Егорки всего две рубашки, да и те дырявые. Аксинья недавно выстирала одну, и сама пришла в подвал, чтобы заодно другую выстирать и починить. Егорка снял рубашку, застыдился, и потом сидел в подвале в одном фартучке, с медным крестиком на шее, который держался на пожелтевшей тонкой ниточке. И вот этот самый Егорка посылает все свои деньги отцу!
С удивлением смотрел Герасим на Егорку, когда тот писал пером адрес на конверте. Завидно было видеть, как такой "курнос", "аршин с шапкой", может выводить на бумаге штучки-закорючки, да так быстро, что твой сельский писарь. Герасиму уже под тридцать, а так не может. Знает цифры, может печатное по складам прочесть, подписать свое имя, а так не может. Прямо удивительно! Настолько было удивительно, что не поверил Герасим Иваныч, что письмо дойдет. Боялся он за Егоркины деньги. Взял конверт, в который были вложены деньги и письмо, подул на влажную надпись и сказал:
- А ну-тко, слышь, пойду я, покажу Рафаилу Марковичу, что ты тут накуролесил?
Ушел наверх и долго не возвращался. Егорка мыл бутылки, волновался, слушал. Но вот послышались шаги на лестнице. Герасим спускался в подвал.
- Пойдем! - коротко, но твердо приказал Герасим.
Егорка оторопел. Как будто что-то совершил нехорошее и должен дать ответ там, наверху, куда ему до сих пор все пути были заказаны. Даже по коридору до аптечных комнат не решался приближаться. На ступеньках подвальной лестницы он нагнулся и при помощи пальцев высморкал нос, но вытереть руку о чистый фартук не посмел. Вытер о штаны, как это делал его отец.
Когда они шли по коридору, свет из окна с улицы больно ударил его по глазам, а когда вошли в саму аптеку, то свет уже лился из всех окон. Егорка прищурился и не сразу разглядел стоявшего спиной к нему молодого человека. До сих пор ему не приходилось близко видеть Рафаила Марковича. Когда тот повернул к нему свое румяное, с черными усиками, лицо, Егорка широко раскрыл глаза. Так вот он какой Рафаил Маркович, помощник провизора! Если бы не усики - подумал бы, что перед ним стоит красная девица в мужской одежде. Волосы длинные, почти до плеч, лицо белое, брови тонкие, ресницы длинные. Большие карие глаза немножко косили, и оттого взгляд его казался грустным. Подкручивая черные усики, Рафаил Маркович взял с прилавка Егоркино письмо и показывая Егорке, тронул его белокурые вихры на голове и спросил:
- Ты это сам писал?
- Сам, - еле слышно и виновато сказал Егорка и опять прищурил глаза. После подвала, больно светло было в аптеке.
- Ну, так ты хорошо пишешь! - сказал Рафаил Маркович и потрепал тем же письмом Егоркино плечо.
Очень понравился Егорке помощник провизора. Не потому, что похвалил за письмо, а просто потому, что сразу показался он ему хорошим, а главное, красивы были у него глаза - чуть с прикосью, красивы той же самой грустью, какая была у Егоркиной матери, когда она пела "задумные" песни.
- Ну, отправляй письмо! - сказал Рафаил Маркович и заглянул в незапечатанный конверт, не выпали бы деньги. Егорка даже позабыл, что деньги были в конверте.
Письмо с тремя рублями поехало на почту на охотничьих дрожках. Герасим Иваныч хотел сам видеть, что письмо будет сдано правильно и под расписку, без ошибки и сомнения. Он лично знал начальника почтовой конторы, бритого старичка с черной узкой повязкой через левый глаз. Начальник бывал у Ансеева с политическими, играл в карты. Герасим угощал его лимонадом. Обходя других чиновников, Герасим прямо подошел к начальнику, что то прошептал ему. Тот посмотрел на Егорку одним глазом и сам написал а конверте: "Денежное, со вложением - трех рублей". Сам разогрел над горящею, оплывшей свечкой красный сургуч, наложил на обратной стороне конверта пять печатей и сам выписал расписку.
Широко разлился Иртыш. В синей дымке апрельского тепла просыпались степи. Над городом днем и ночью проносились стаи диких птиц и разлетались по лугам и озерам. Весна стояла светлая, без длительных дождей. Зазвенели пустыри и задворки в городе. Распускались первые листочки в садике с беседкой у Ансеева.
В Великий четверг, за завтраком, Герасим Иваныч сказал Аксинье:
- Ксюша! После обеда барыня сама со мной поедет на базар и в кондитерскую Арбузова. Ты с ней не спорь. Что скажет, то и будем делать. К ним разговляться все политические соберутся. Мы с Егорушкой тебе поможем! - так и сказал впервые: с Егорушкой. До слез сугревно.
Начались приготовления к Пасхе. Аксинья, Герасим Иваныч, Егорка, Тютюбай - все измотались в хлопотах. Напекли, нажарили, навезли цветов, начистили посуду и серебро, нагладили скатертей, вынесли ковры из дома, выхлопали, вновь внесли, разостлали. Накрасили груды яиц. Куличи, торты, мазурки, "баум-кухены" (особые, немецким способом выпеченные высокие, как готические колоколенки, самые вкусные торты с пустотой внутри), - все это в субботу было бережно расставлено на столах вперемежку с жаренным поросенком, гусем, окороком, с душистыми гиацинтами в центре, с батареей легких и крепких вин, наливок, водки вдоль стола. Еще ночью десятки гостей, прямо от заутрени, а многие и из своих домов и квартир, придут и будут наслаждаться всем, что на столе у гостеприимного, бывшего богатого помещика Ансеева.
Старая барыня, обычно скупая и сварливая, на Рождество и на Пасху разоряла сына, но сама уезжала к заутрене в собор и оставалась там до окончания литургии. Для освящения же куличей, яиц и сырной пасхи, посылала в ближайшую церковь Герасима, чтобы к разговенью сын имел все освященное. Ансеев в церковь ходить ленился, но куличи и пасхи обожал и угощал всех, кого он знал и кого не знал. Друзья политические приводили с собой изголодавшихся дворян, недоучившихся студентов и всех, кто "стригся под Бакунина". Оргия кончалась до возвращения старой барыни из собора, и лишь некоторые гости, не в меру выпившие и неспособные к передвижению, спали, где придется. Герасим называл эти собрания "тарарамом", потому что в доме был полный хаос, как после погрома. Сам Ансеев, зная все это заранее, пил мало, комнату матери запирал, оберегая от случайного вторжения, а свою предоставлял гостям. Сам же уезжал, с рассветом, на охоту, наказав Герасиму:
- Смотри, пожалуйста, чтобы пожару не наделали!
Герасиму, Тютюбаю, Ксюше и Егорке, конечно, было не до праздника.
Аптека в этот день была закрыта. Рафаил Макарович имел в эту неделю два выходных дня: субботу и воскресенье.
Для Егорки не было ни времени, ни случая пойти к заутрене, да и не в чем было идти в церковь. Штанишки с дырками на коленках в будни закрывались фартуком, а в праздники он редко выходил на улицу. Поэтому и к дяде с теткой не ходил. В часы редкого праздничного досуга он забирался в каретник, садился в свободный экипаж и, чувствуя себя удобно спрятанным, жадно читал книжку с картинками - Андрюшка Зырянов еще дома дал за всякие услуги - о Робинзоне Крузо. Ой, как хотелось ему всю книжку до конца прочесть, но читать не удавалось, да и не хорошо было прятаться. Иногда его кличут, а он, зачитавшись, не слышит, будто не хочет откликаться. Читает, прислушивается и не все понимает. Надо снова перечитывать.
Вечером в Страстную Субботу вышло вот так: Герасим Иваныч наготовил две корзины с пасхами и куличами для освящения у заутрени. Сказал Егорке:
- Ты мне поможешь пасхи святить.
Егорка начистил поношенные, много раз чиненные сапоги. Попросил у Тютюбая нитку и иголку, зачинил дырки на штанах. Рубашка была чистая. Но только что он явился в кухню, чтобы нести корзины, Ксюша сердито приказала:
- Ну-тко, снимай штаны. Вот тебе новые.
И на ходу бросила ему новенькие. Пахло от обновы праздником и счастьем. И только что он нарядился в новые штаны, вошел Герасим и подал ему сверточек: рубашка, как раз такая, желтоватая, с вышивкой по вороту и на груди, которую он сам мечтал купить за двадцать пять копеек. Только эта побольше, наверное, дороже.
Когда Герасим, без фартука, в новом пиджаке, в брюках "навыпуск" и в новом картузе и Егорка вышли из ворот, у парадного подъезда стоял блестящий фаэтон, запряженный парою начищенных, наряженных в лучшей сбруе полукровок. Тютюбай ходил вокруг лошадей, поправляя их гривы и хвосты. Длинный для его роста кучерский кафтан волочился по земле. Все было готово для торжественного выезда старой барыни в собор. Одетую в пышные, шуршащие шелка старенькую мать Ансеев сам, под руку, выведет и проводит до собора. Он побудет у заутрени только до крестного хода. Он не богомольный. Вернувшись домой он будет встречать и угощать гостей. Тютюбай, доставив барина домой, будет носиться по городу до самого утра, привозить и увозить этих знатных дам, нарядных барышень и почтенных стариков. Только к окончанию литургии Тютюбай снова поедет к собору, из которого старушку выведет и усадит в коляску сам потомственный, почетный польский пан Панкевич.
Так, направляясь с корзинами в другую, ближайшую, церковь, объяснил Егорке Герасим Иваныч. Он же рассказал о церкви, в которую они шли:
- Это называется Плещеевская церковь. Купец Федор Петрович Плещеев выстроил.
Голос Герасима хрустнул в полу усмешке, когда он повторил ходившую по городу шутку:
- Это тот самый купец, который для этой церкви из Москвы, по телеграфу, выписал резонанс.
Егорка не понял. Едва ли и Герасим понимал смысл шутки, тем более, что толпа идущих в церковь сгущалась, говор народа нарастал по мере приближения к церкви. Все что-то несли, все были радостно взволнованы, и в темноте ночи уже ликовало торжество из торжеств.
Новым с головы до ног, и новым изнутри, почуял себя Егорка, когда они подходили к храму, вокруг которого горели и дымили жировые плошки и который величавой белизною возвышался на крутом берегу, над бушующей внизу рекою.
В непрерывный шум широко разлившегося Иртыша врывались голоса: мужские, женские, детские. Люди подходили со всех сторон, все новые, нарядные. От женщин и девушек веял душистый ветерок. Их голоса звучали нежной, материнской песней. Только мать Егорки могла сейчас разделить с ним то, что он переживал. Только она могла понять, что значит торжество из торжеств.
Впервые видел Егорка такое количество корзин, подносов, узелков. Куличи, сырные пасхи, тарелки со сливочным маслом в виде узорчатых крестов, но тут же раскрытые пакеты с простыми булочками. Стало быть, и беднота принесла сюда, что имела - все это стояло длинными рядами на особой площадке вдоль церковной ограды, по которой, на каждом столбике, горели плошки.
Поставив свои корзины в ряд с другими, Герасим сказал Егорке:
- Ну, вот, побудь тут, а я пойду куплю свечки.
- И мне купите, Герасим Иваныч!
И Егорка сунул в руку Герасима монетку, которая в руке Егорки согрелась и была тепленькая.
- Это что же, от письма родителям осталось?
- Так точно!
- Значит, все, что было!
Егорка весело пожал плечами и потер ладони рук, как будто очищая их от пыли. Дескать, чисто и свободно, все в порядке.
Да, это были те самые три копейки, которые остались из двадцати, данных ему паном Панкевичем. Герасим Иваныч помнит: семнадцать копеек пошло на денежное письмо родителям, а три копейки остались у Егорки и пригодились на пасхальную свечку.
И вот, когда из церкви полился поток света, и по толпе молящихся, стоящих вне церкви и возле куличей, и пасхи, побежали огоньки, один к другому. Герасим Иваныч, стоявший рядом, зажег свою, а потом Егоркину свечку и увидал, что Егоркино лицо подернуто белым пушком, такое еще детское и чистое, и озарилось не только светом его собственной свечи, но и сиянием настоящего счастья. И с особой радостью Герасим Иваныч примкнул к пению "Воскреси Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах...". воистину, и на земле пели ангелы и в сердцах Герасима и Егорки.
Когда вернулись с куличами домой, весь дом был освещен, окна отворены, слышались громкие голоса. Гостей было полно.
Вдоль всего квартала и в поперечной улице стояли экипажи, извозчичьи пролетки и даже оседланные лошади. Для кучеров и извозчиков праздника не было, но был хороший случай подработать и получить на водку.
Только с рассветом из дома схлынула толпа, затихли голоса, но дом не опустел. Оставшиеся изливали охмеленье в чувствах любви друг к другу или в исступленных и охрипших спорах... Некоторые запевали запрещенные песни, зная, что на Пасхе даже и жандармы махнули бы на них рукой.
Егорке все хотелось похристосоваться со всеми, и прежде всего со своим барином Ансеевым, но об этом позабыл даже Герасим. Все они измучились, "едва таскали ноги". Наконец, Герасим освободился, пришел из большого дома с двумя бутылками вина в кухню, где у Анисьи все было готово для обильного разговения. Все трое помолились, сели за стол. Герасим налил в три стакана рябиновки: себе и Аксинье до краев, Егорке меньше половины. Егорка застеснялся, но выпил и, как взрослый, стал степенно, с наслаждением, есть все, что ему подавали. Никогда еще он не едал таких вкусных, таких сладких и в таком обилии, кушаний.
Всходило солнце, когда Ансеев вышел через заднее крыльцо во двор. Он был с ружьем и охотничьей сумкой. Собака, спавшая с ним в его комнате, была у его ног.
- Герасим! - крикнул он. - Будь добр, запряги мне Гнедчика в дрожки.
Тут-то Егорка и подбежал к Ансееву:
- Христос воскрес! - сказал он робко.
- Воистину, воистину, - устало и с ленцой протянул Александр Гаврилович. Наклонился и поцеловал Егорку в губы. Губы у Ансеева были пухлые и мягкие, а черные усы свисали по-китайски вниз и пощекотал Егоркин нос.
- А ты вот что... Как тебя?.. - так же лениво процедил Ансеев, забыв или даже не зная, как зовут Егорку. - Ты того... Поедем-ка со мной... Я по болоту похожу, а ты побудешь с лошадью...
И взял Егорку на охоту.
Егорка думал отпроситься у Герасима, чтобы пойти и похристосоваться с дядей и теткой, но поехать на охоту с барином - это же радость.
Так в воскресенье Егорка и не спал ни ночью, ни днем. Вернулись же они с охоты после полудня. Все в доме и на кухне спали. И Тютюбай спал в фаэтоне, и даже лошади его, еще не распряженные, устало дремали.
Ансеев ушел в дом и тоже завалился спать - благо в доме не было гостей и все было уже прибрано. Егорка только что хотел идти в свою каморку и прилечь, как в ограду въехали четыре всадника. Двое были молодые офицеры (как потом узнал Егорка - братья Ковалевские). Третий - Яша Гизлер, студент, сын доктора, а четвертый был Рафаил Маркович Бурлянд. Офицеры сидели в седлах, как природные кавалеристы; Яша Гизлер молодецки им старался подражать. Но Рафаил Маркович, с фуражкой на длинных, как у барышни волосах, казался на коне забавным. Его голубая русская рубашка топорщилась от ветра, а руки слишком высоко поднимали поводья. Лошадь и седло у него были красивые, только видно было, что он впервые в жизни сел в седло и изо всех сил старался казаться смелым наездником. С лошади он слез, а не соскочил, и по ограде прошелся так, что высокие лаковые сапоги на нем как-то хлопали, как будто в них было полно воды. Егорка подбежал к нему и, обхватив его за шею, звонко выкрикнул:
- Христос воскрес, Рафаил Маркович!
Рафаил Маркович не оттолкнул его, дал ему трижды себя поцеловать, но не ответил: воистину воскрес, а только потрепал его по щеке и, оглядывая с ног до головы, сказал:
- Ну, ну! Так ты же молодец! У тебя новые штаны и рубашка...
Потом он прошел в подвал, достал четыре бутылки лимонаду и приказал Егорке принести стаканы. Потом он снова сел на лошадь и среди прочих настоящих ездоков понесся вдоль песчаной улицы по направлению к Иртышу. Рубашка на нем пузырилась от ветра и делала его уродливо горбатым. Егорке так хотелось поправить ему рубашку и он так хотел, чтобы Рафаил Маркович сидел на коне не хуже, а лучше других.
Когда же он вернулся от ворот к крылечку кухни, Герасим - он видел все из кухни - вышел на крыльцо, положил на плечо Егорки теплую руку, и губы его растянулись в усмешку:
- Ты что же, не знал?.. Разбежался с Рафаилом Марковичем христосоваться?..
Егорка смотрел на Герасима с испуганным вопросом и догадывался. Но Герасим досказал все по своему. Он толкнул Егорку к подошедшему из каретника и широко улыбающемуся Тютюбаю и спросил:
- А с Тютюбаем, что ж, ты позабыл похристосоваться? Он тоже хороший, хоть и не нашей веры.
Егорка, не задумываясь, бросился к киргизу, обнял его за шею и пропищал:
- Христос воскрес! - и поцеловал его три раза. И Тютюбай не оттолкнул его, только засмеялся громче обычного, прижав к себе парнишку. Хохотал и вытирал глаза. Тогда и Герасим обнял Егорку.
- Ну, молодец! Давай поцелуемся, как следует! Христос воскрес!
- Воистину воскрес! - ответил Егорка еще веселее и громче и почувствовал, что произошло что-то с ним и вокруг него, а что такое - он сам еще не знал и никого не спрашивал.
Радостно было слушать колокольный перезвон, пасхальный, который в городах и селах будет гудеть целую неделю.
А назавтра, в понедельник, перед обедом, Герасим опустился в подвал и объявил:
- А ну-ка, парень, собирайся!..
Егорка переполошился. Неужто увольняют?.. За что?
- Иди, переоденься. Рафаил Маркович просил хозяина, чтобы ты помогал ему в аптеке. Угодил ты чем-то им обоим...
Он хлопнул по плечу Егорку и прибавил:
- Ишь ты, подишь ты. Выписался из подвала!..
Как будто нехотя, не веря счастью, Егорка шел в свою каморку одеваться в праздничные новые рубашку и штаны. Потому что было это для него как бы восхождением от земли к небеси... Надо быть чистеньким.
На новую ступень жизни восходил Егорка.
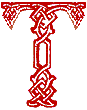 ак вот, Егорка закрепился в Семипалатинске, областном, значит - губернском городе. Если бы позади этого города не было соснового бора, широкой полосой уходящих вглубь Бельагачских равнин, желтые пески давно бы погребли эту одноэтажную деревянную столицу прииртышской Киргизии.
ак вот, Егорка закрепился в Семипалатинске, областном, значит - губернском городе. Если бы позади этого города не было соснового бора, широкой полосой уходящих вглубь Бельагачских равнин, желтые пески давно бы погребли эту одноэтажную деревянную столицу прииртышской Киргизии.