XVIII. В чужих сапогах
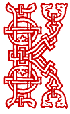 aзалось, Егоркин мир должен был разрастаться. Он и вырастал в его видениях, но по мере расширения видений, мир как-то сжимался, оттачивался острым концом, который все чувствительнее проникал ко всему его существу - испугом. Ни он сам, ни дядя, ни тетка Акулина, не могли не могли найти для него никакой "должности", никакой даже самой тяжелой работы. Уже третья неделя на исходе с тех пор, как в бурю и буран с песком он пришел в подвальное жилище своего крестного и дяди, Василия Лукича. Долго рассказывать все подробности о похождениях Егорки по городу с того дня, когда дядя возил его на своей лошади на завод Плещеева, шесть верст от города. Это был будничный рабочий день, но он казался для Егорки праздником: была уверенность, что на спичечную фабрику Плещеева, только что открытую, набирают мальчиков и девочек подростков. Работа легкая, стоять у какой-нибудь машины и заклеивать коробочки со спичками. Шесть рублей в месяц на своих харчах, но помещение будет при особой школе, которая открывается для бедных детей рабочих. Тут особенно Егоркино сердечко прыгало от волнения: работать и учиться и шесть рублей - значит - шестьсот копеек в месяц!.. Трудно было поверить, что это может случиться, и потому, когда этого не случилось, это не было таким отчаяньем для Егорки, каким был ежедневный, почти ежечасный страх перед будущим. Чем ближе к весне, тем вероятнее наказание - возвращение домой. это будет тем более тяжким наказанием, что, помимо издевательства старшего брата Николая и прочих задир, он должен будет вернуться домой в истрепанных, исхоженных по городу сапогах, а сапоги-то ведь чужие... Сапоги это Мати (Матвея) Вялкова. Пока он только о том и думает: сапоги чужие и сапоги на износе; сапоги, сапоги - вот в чем теперь все Егоркины думы, весь его свет и вся безнадежность.
aзалось, Егоркин мир должен был разрастаться. Он и вырастал в его видениях, но по мере расширения видений, мир как-то сжимался, оттачивался острым концом, который все чувствительнее проникал ко всему его существу - испугом. Ни он сам, ни дядя, ни тетка Акулина, не могли не могли найти для него никакой "должности", никакой даже самой тяжелой работы. Уже третья неделя на исходе с тех пор, как в бурю и буран с песком он пришел в подвальное жилище своего крестного и дяди, Василия Лукича. Долго рассказывать все подробности о похождениях Егорки по городу с того дня, когда дядя возил его на своей лошади на завод Плещеева, шесть верст от города. Это был будничный рабочий день, но он казался для Егорки праздником: была уверенность, что на спичечную фабрику Плещеева, только что открытую, набирают мальчиков и девочек подростков. Работа легкая, стоять у какой-нибудь машины и заклеивать коробочки со спичками. Шесть рублей в месяц на своих харчах, но помещение будет при особой школе, которая открывается для бедных детей рабочих. Тут особенно Егоркино сердечко прыгало от волнения: работать и учиться и шесть рублей - значит - шестьсот копеек в месяц!.. Трудно было поверить, что это может случиться, и потому, когда этого не случилось, это не было таким отчаяньем для Егорки, каким был ежедневный, почти ежечасный страх перед будущим. Чем ближе к весне, тем вероятнее наказание - возвращение домой. это будет тем более тяжким наказанием, что, помимо издевательства старшего брата Николая и прочих задир, он должен будет вернуться домой в истрепанных, исхоженных по городу сапогах, а сапоги-то ведь чужие... Сапоги это Мати (Матвея) Вялкова. Пока он только о том и думает: сапоги чужие и сапоги на износе; сапоги, сапоги - вот в чем теперь все Егоркины думы, весь его свет и вся безнадежность.
Итак, напрасно он с дядей с утра до полудня дожидался на спичечной фабрике управляющего, доктора Гизлера; в золотых очках - видный такой, чернобородый доктор. Впервые в жизни Егорка видел доктора, в черном пальто с меховым воротником и в черной же меховой, с козырьком, шапке. Доктор медленно поднялся на второй этаж фабричного здания и долго не выходил к ожидавшей его толпе жаждавших работы. Подростков было мало, но меньше Егорки ни одного не было.
Шел дождь со снегом, и рабочие стояли под карнизами, так что Егорка, приподнявшись на цыпочки, мог заглянуть внутрь здания, где шумели машины, и он видел возле одной из них двух мальчиков босиком... Значит, там тепло и можно работать босиком, а сапоги беречь для ходьбы вне фабрики. Это делало мечту получить работу именно на этой фабрике особенно приятной. Но когда вышел доктор Гизлер и что-то негромко сказал первому ряду прихлынувших к нему рабочих, наступила тишина. Не сразу после отхода доктора к своему экипажу поняли, что работы ни для взрослых, ни тем более для подростков, нет. Дядя Василий был особенно опечален и, не сказав Егорке ни слова, обнял его за плечи и повел к своей телеге. Сжалось у Егорки сердце, когда он по дороге еще раз внимательно осмотрел свои сапоги: на правом носке была дырка. Это он проткнул гвоздем на тротуаре, на Большой Владимирской улице, где все горожане ходят по узким досчатым тротуарам... Слово-то какое городское: тро-ту-а-ры!! С тех пор Егорка по доскам тротуаров старался не ходить, не только потому, что боялся опять наткнуться на высунувшийся гвоздь, но и потому, что ему, деревенщине, было неловко мешать горожанам, особенно когда шли двое рядом, нарядные и особенные горожане. Надо было все равно сходить с доски и идти по земле. Так он и ходил после поездки на фабрику еще целую неделю.
Это была суббота второй недели Великого Поста. Был полдень, когда он опять, на Большой Владимирской улице, над входом в один из домов, увидел большого темного двуглавого орла. Этот орел потом запомнился ему на всю жизнь, как поворотный пункт во всей его судьбе. Орел был из какого-то металла и очень широко распростер свои крылья, а в самой середине, у груди, краснел образок - Егорий Храбрый мчался на белом коне и поражал красного змея, раскрывшего пасть навстречу копью. Было страшно на него смотреть, но и увлекательно. Ловко Егорий угодил дракону прямо в пасть копьем. Вот потому и храбрый. Дома у них на божнице есть Егорий, но икона давно почернела, и змий там маленький, того легче поразить, а здесь все такое большое, главное же, орел такой огромный и черный, висит над самым крыльцом, а под орлом отчетливо, золотыми буквами, крупно значится только одно слово: АПТЕКА, а потом, маленькими буквами и серебром: Александра Гавриловича Ансеева.
Зайти? Спросить? Нет, страшновато! Обошел дом, полутораэтажный и серый. Сразу же налево - переулок, а из переулка открыты ворота в обширную ограду. Остановился у ворот, засмотрелся: внутри малого роста киргиз только что запряг пару лошадей в хорошую коляску и, обходя ее, гладил лошадей, поправлял на них сбрую и что-то по-киргизски говорил с собой или с лошадьми. В каретнике была еще коляска попроще и еще стояла лошадь. Каретник и конюшня под одной крышей казались большим зданием, а справа, в углу ограды, новенький отдельный домик, из которого в это время вышел мужчина без шапки, в одной жилетке поверх клетчатой рубахи и в белом фартуке, не то сапожник, не то повар. Он был светло-русый, и бородка его светилась на солнце свежим молодым пушком. Глаза были прищурены, когда тонкий, как у женщины, голос окликнул в сторону Егорки:
- Тебе чего?
Егорка сразу не нашелся, что сказать. Он даже и не думал ни о чем в эту минуту. Он думал о киргизе: уж очень похож на Тютюбая. Но отступать было уже поздно, и он смело шагнул навстречу мужчине, который в это время вытирал руки концом фартука и дожевывал последний кусок наскоро съеденного в кухне обеда.
- Я вот... это... ищу места, - с запинкой безнадежности сказал Егорка.
Должно быть, вид Егоркин был очень жалок, а в глазах стояли невольные слезы, потому, не вслушиваясь в значение его слов, мужчина крикнул по направлению кухни:
- Ксюша, покорми-ка паренька,
И он толкнул Егорку по направлению кухни таким хорошим приветливым толчком, что сразу стало хорошо. Егорка постарался по дороге в кухню скрыть свои слезы под внезапной и тоже невольной улыбкой радости. Мужчина же спешил в дом, и вскоре с заднего крыльца послышался его приказ киргизу:
- Подавай к парадному!
Киргиз кучер быстро прыгнул на козлы экипажа, и лошади, блестя гладкими, сытыми крупами, обе гнедой масти, красиво тронулись с места. и показалось Егорке, что киргиза этого он точно знает. Неужели это Тютюбай? Но он пока не смел об этом спрашивать - кучер даже и не взглянул в его сторону.
По деревенской привычке Егорка, войдя в кухню, поискал глазами красный угол и, увидав икону, быстро сдернул шапку с головы, перекрестился и сказал, как это полагается хорошо воспитанному мужику:
- Здравия желаем всем крещеным!
И хотя в опрятной новенькой кухне всех крещеных была одна женщина с возвышенным животом, ей, видимо, понравился маленький гость в коричневом деревенском халатике и с шапкой в левой руке. Она усмехнулась так, что на ее веснушчатом лице появились нежные, молодые морщинки удовольствия, и ответила также попросту, по-деревенски:
- Здорово ты живешь. Проходи, садись, гостем будешь!
Со стола еще не была убрана посуда, и то, как женщина заспешила ее убрать со стола и приготовит для Егорки чистую посуду, а главное то, как она взяла из его руки и положила на лавку его шапку, повеяло на Егорку чем-то родным, домашним.
- Садись, садись, - повторила она, видя его нерешительность и не совсем обычную для такого возраста обходительность и скромность.
Поставив на стол тарелку с дымившимися наваристыми мясными щами, она взглянула на Егорку пристальнее и не удержалась, погладила его по мягким белокурым кудрецам на непричесанной голове. Егорка сообразил, что под шапкой волосы его должны были взлохматиться, достал из кармана маленькую сломанную гребеночку и причесался. Сделал он это быстро, как бы украдкой, и это еще более растрогало женщину.
А в это время вошел мужчина в фартуке. Егорка встал с места при его входе, и вышло это опять не по-ребячьи деликатно. Мужчина быстро подошел к нему и тоже погладил по кудерькам.
- Ну, садись, садись, да кто-откудава скажись, - голос у мужчины был теперь гуще, но все же мягок и звучал не по отечески, а не по матерински.
Егорка сел и носок сапога с дыркой прикрыл другим сапогом так, чтобы не было видно дырки. Но мужчина дырку заметил, и, может быть, эта именно дырка и была началом новой жизни Егорки. Мужчина ничего не сказал, он только строже посмотрел на мальчика, и голос его зазвучал уже не по-женски, а по-мужски:
- Ешь, ешь сперва!
Он понял, что паренек какой-то особенный и, пожалуй, не будет есть, если его спрашивать. Поэтому мужчина переменил разговор. Он обратился к жене:
- Выехала наша барыня. Я ей говорю: да ведь обедня-то давно отошла. А она мне: исповедываться никогда не поздно. Значит, завтра, в воскресенье, причащаться решила.
Он повернулся и вышел из кухни так же торопливо, как пришел, и видно было через окно, как он нырнул в подвал под большим домом.
Когда он вернулся, Ксюша передала ему в двух словах весь свой допрос Егорки. Но муж все же кое-что переспросил. Егорка отвечал кратко, просто, стараясь не повторяться при Ксюше, а говорил новыми словами.
- Да что же, грамотный, что ли? - догадался мужчина.
Егорка скромно ответил:
- Немножечко.
- А ну-тко, сними сапог-то, - приказал мужчина просто и прибавил, - Меня зовут Герасим Иваныч.
И вышло так, что в этом имени было какое-то как бы принятие Егорки вот в эту малую семью из двух. Егорка понимал, что будет кто-то еще, может быть скоро должен родиться от Ксюши. Он и нянчить готов.
А Герасим Иванович с сапожком Егорки быстро вышел и на этот раз исчез в каретнике. Там он был, казалось, очень долго, и было неудобно говорить с Ксюшей, будучи в одном сапоге. Он неловко молчал и был доволен, что Ксюша не задает ему вопросов, а убирает со стола посуду и все поглядывает через окно в сторону каретника. Оттуда раздавался легкий стук молотка и даже как будто веселая песенка. Там явно решалась судьба Егорки.
Когда же Герасим Иваныч вернулся с сапожком в руках, он задержал его, рассматривая и разглаживая ногтем ловкий, едва заметный шов на носке и заново подбитый каблук, сказал:
- А ну-ка, давай второй-то, чтобы не хромал.
И ушел со вторым в каретник. И так же напевал и стучал там молотком. И был там, на этот раз, казалось, еще дольше.
Когда принес, достал сапожную щетку и, подав вместе с сапогом Егорке, приказал:
- А ну, почисти. Умеешь чистить? А я пойду к хозяину.
Ни о чем пока не думал Егорка. Весь его мир теперь был в сапогах. Они еще не знали ни щетки, ни ваксы, и после чистки блестели, как новые, и это было так хорошо, что не надо было говорить о радости. Она светилась в серых, любовавшихся сапогами глазах паренька. Но Ксюша нечто поняла и сказала полушепотом:
- Погоди, он чтой-то задумал. На твое счастье, барин сегодня дома. Рафаил-то Макарыч по субботам на прогулку идет, а барин сам один в аптеке.
Долго не было Герасима Иваныча. Наконец он пришел и заторопил Егорку:
- Ну, иди, пойдем к барину!
Поднялись они по черному ходу в чистый просторный коридор, а из него вошли в светлую аптеку, ударившую по носу Егорки такими приятными запахами - никогда он таких еще не нюхал.
Сам Ансеев стоял у прилавка и, наклонившись, что-то размешивал в маленькой фаянсовой чашечке таким же фаянсовым пестиком. Был он крупный, полный, с черной небольшой бородкой и задумчиво сопел от полноты усердия. Видно, что не любил он заниматься этим делом, но должен был, когда его помощник (сам он был провизор) выходил на один день в неделю. Он не оглянулся на вошедших, пока Герасим Иваныч, прокашлявшись, не произнес:
- Вот, привел я его, Александр Гаврилович!
Егорка понял, что барином хозяина зовут заочно, а лично - по имени и отчеству.
В этот момент Ансеев взглянул на Егорку искоса и мимолетно и, продолжая сопеть, лениво процедил:
- Ну, что ж. Где ты его спать будешь укладывать?
Он помолчал. Помолчал и Герасим Иваныч. Ансеев, соскребая мазь чашечке особым шпателем, еще ленивее прибавил:
- Жена-то у тебя, Герасим, должна скоро родить. Неловко будет вам втроем-то...
Теперь он вытер мягкою бумажкой руки, повернулся и грузно зашагал в коридор и по коридору к выходу. Там перед черным входом, в углу, за перегородкой, была кладовка, наполненная ящиками, узлами белья и всякими коробками.
- Вот разбери тут все, - он смерил глазами рост Егорки и так же лениво и без улыбки прибавил, - Темновато, зато тепло тут ему будет и как раз по росту.
И пошел в аптеку.
Все это было так нежданно-негаданно, что Егорка даже не догадался, не успел вставить словечка, а главное вышло так, что он не поздоровался с хозяином и молча наблюдал, как Герасим Иваныч разбирал вещи в кладовке и быстро уложил их так, что сразу же образовалась лежанка.
- Вот, - сказал он, - Тут ты будешь спать. А теперь пойдем, покажу тебе, что делать.
Они спустились по той же лестнице в подвал. Это был обширный, но полутемный подвал с лавками по стенам, с большим столом посередине, с какой-то машиной и множеством бутылок малого размера. И тут же на столе были пачки этикеток с напечатанными словами разного цвета. Розовым значилось: "земляничная", желтоватым - "яблочная", а зеленоватым - "лимонная". И на каждой этикетке по мелкому было напечатано еще: "Завод фруктовых и шипучих вод А.Г. Ансеева". Герасим Иваныч налил из особой бутыли в одну из бутылок маленький стаканчик-мерку сладкого земляничного сиропа, подставил горлышко бутылки под особый кран, наступил ногою на педаль, и что-то зашипело, а потом тут же бутылка запечаталась.
Герасим подал бутылочку Егорке и сказал твердым наставительным тоном:
- При мне всегда и сколько угодно можешь пить, а без меня - чтобы ни одного глотка. Понял?
- Понял, - ответил Егорка покорно и чуть слышно. Но не знал, что делать с бутылкой. Он не решался пить, да и не до того ему было. Он и так был подавлен счастьем и даже не хотел верить, что так случайно и так счастливо он устроился. Он не спрашивал и не думал, будут ли ему платить какое жалование. Но Герасим Иваныч, мастер фруктовых вод, сам открыл бутылку, отлил немного в стоящий тут же стаканчик, отпил для пробы и подал стаканчик и бутылку Егорке. И дал последние инструкции:
- Видишь ли, жена у меня в тягости - это было ее дело: мыть бутылки, а теперь ты это будешь делать. С нее хватит стряпать для господ и для нас с тобой. А ты будешь мыть эти бутылки. Я научу тебя, это не трудно. Потом, когда я их наполню, ты будешь наклеивать вот эти этикетки. Только не смешай, я буду тебе отдельно ставить, куда какую наклеивать. Понял? Три рубля тебе буду платить в месяц и харчи, и будешь жить в тепле. Только чтобы все тихо и все честь честью. Понял?
- Так точно, - с невольной хрипотой в голосе, но по-солдатски лихо, отозвался Егорка.
- Ну, вот и хорошо. Кучер приедет, я скажу ему, он с тобой за пожитками твоими съездит. Сапоги трепать не надо.
... Кажется, никогда после, в течение долгой жизни, Егор не переживал такого волнения и такой гордости, как в тот час, под вечер, на закате мартовского дня в степном городе Семипалатинске, когда ехал на паре полукровок с кучером Тютюбаем, да, с тем самым, с другом Тютюбаем, с которым еще прошлой весной они ходили в леса, в верховья реки Убы, - ехал в блестящей барской коляске в бедный пригород к тетке Акулине. Перед тем, как сесть в коляску, было у Егорки мгновенное чутье - не послушаться кучера, указавшего ему место на барском сидении, а влез он на козлы с кучером и с этого момента завоевал он сердце кучера тем, что не поставил себя в разряд выше кучера. Поэтому кучер Тютюбай, не узнавая Егорку, в тот же вечер удостоил его высшего доверия. Он тайно, одним пальцем поманил его на лесенку, ведущую на сеновал. Там у Тютюбая было жилище. Тут среди душистого сена он спал зимой и летом. Тут у него висело красивое киргизское седло, уздечка под серебряным набором, тяжелая плеть с костяною рукояткой и всякие халаты, ременные пояса, легкие сафьяновые ичиги (род легких сапог без каблуков), а главное - на гвоздиках под балками висело несколько тюбетеек. Они были все малинового цвета, но расшиты серебром, и Тютюбай надевал их на бритую голову попеременно и почти в каждую из особого флакончика обильно брызгал одеколоном. Пахло на сеновале замечательно хорошо, а так как Тютюбай не умел хорошо все объяснить по-русски, то он крякал, цокал языком, всевозможными жестами выражал полное и безграничное благополучие жизни. Это же прибавляло счастья и для Егорки. Только бы не потерять, только бы не пролить, не проспать чего-либо из этих дней начала его новой, самостоятельной весны.
И тут же на сеновале Тютюбай хорошо, с прищуркой, всмотрелся в лицо Егора и спросил полушепотом:
- Ти Егорка, шево ли?
Егорка обнял Тютюбая прямо за шею, как давно потерянного, но вот нашедшегося братца и, не сказав ни слова, спрятал радостные слезы.
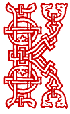 aзалось, Егоркин мир должен был разрастаться. Он и вырастал в его видениях, но по мере расширения видений, мир как-то сжимался, оттачивался острым концом, который все чувствительнее проникал ко всему его существу - испугом. Ни он сам, ни дядя, ни тетка Акулина, не могли не могли найти для него никакой "должности", никакой даже самой тяжелой работы. Уже третья неделя на исходе с тех пор, как в бурю и буран с песком он пришел в подвальное жилище своего крестного и дяди, Василия Лукича. Долго рассказывать все подробности о похождениях Егорки по городу с того дня, когда дядя возил его на своей лошади на завод Плещеева, шесть верст от города. Это был будничный рабочий день, но он казался для Егорки праздником: была уверенность, что на спичечную фабрику Плещеева, только что открытую, набирают мальчиков и девочек подростков. Работа легкая, стоять у какой-нибудь машины и заклеивать коробочки со спичками. Шесть рублей в месяц на своих харчах, но помещение будет при особой школе, которая открывается для бедных детей рабочих. Тут особенно Егоркино сердечко прыгало от волнения: работать и учиться и шесть рублей - значит - шестьсот копеек в месяц!.. Трудно было поверить, что это может случиться, и потому, когда этого не случилось, это не было таким отчаяньем для Егорки, каким был ежедневный, почти ежечасный страх перед будущим. Чем ближе к весне, тем вероятнее наказание - возвращение домой. это будет тем более тяжким наказанием, что, помимо издевательства старшего брата Николая и прочих задир, он должен будет вернуться домой в истрепанных, исхоженных по городу сапогах, а сапоги-то ведь чужие... Сапоги это Мати (Матвея) Вялкова. Пока он только о том и думает: сапоги чужие и сапоги на износе; сапоги, сапоги - вот в чем теперь все Егоркины думы, весь его свет и вся безнадежность.
aзалось, Егоркин мир должен был разрастаться. Он и вырастал в его видениях, но по мере расширения видений, мир как-то сжимался, оттачивался острым концом, который все чувствительнее проникал ко всему его существу - испугом. Ни он сам, ни дядя, ни тетка Акулина, не могли не могли найти для него никакой "должности", никакой даже самой тяжелой работы. Уже третья неделя на исходе с тех пор, как в бурю и буран с песком он пришел в подвальное жилище своего крестного и дяди, Василия Лукича. Долго рассказывать все подробности о похождениях Егорки по городу с того дня, когда дядя возил его на своей лошади на завод Плещеева, шесть верст от города. Это был будничный рабочий день, но он казался для Егорки праздником: была уверенность, что на спичечную фабрику Плещеева, только что открытую, набирают мальчиков и девочек подростков. Работа легкая, стоять у какой-нибудь машины и заклеивать коробочки со спичками. Шесть рублей в месяц на своих харчах, но помещение будет при особой школе, которая открывается для бедных детей рабочих. Тут особенно Егоркино сердечко прыгало от волнения: работать и учиться и шесть рублей - значит - шестьсот копеек в месяц!.. Трудно было поверить, что это может случиться, и потому, когда этого не случилось, это не было таким отчаяньем для Егорки, каким был ежедневный, почти ежечасный страх перед будущим. Чем ближе к весне, тем вероятнее наказание - возвращение домой. это будет тем более тяжким наказанием, что, помимо издевательства старшего брата Николая и прочих задир, он должен будет вернуться домой в истрепанных, исхоженных по городу сапогах, а сапоги-то ведь чужие... Сапоги это Мати (Матвея) Вялкова. Пока он только о том и думает: сапоги чужие и сапоги на износе; сапоги, сапоги - вот в чем теперь все Егоркины думы, весь его свет и вся безнадежность.