XII. Первая копейка
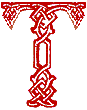 ак никто и не интересовался, какая у Егорки была болезнь, - не умер, и этого довольно. Только к осени окреп, потому что отец все время брал его с собою: на пашню, на покос, на молотьбу - все лишний кусок сунет ему в рот: "Ешь, поправляйся". Но болезнь выходила из него медленно и мучительно: нарывами. Такие большие, то на животе, то на спине, поднимутся бугром, в середине желтая точка и вокруг опухоль. Пока прорвет, измучит, ни спать, ни играть не дает. Но все время Егорка на ногах, на улице. Набегал к осени опять черные "цыпки" на ногах, а сапог и к зиме, хоть бы старых не было. Зима опять длинная, а зимой еще нарывы, на этот раз на горле. Совсем задыхался, ни дышать, ни пить, ни есть. И опять-таки хворал на ногах. Как-то побежал во двор по нужде, поскользнулся на льду, упал, заревел - голос появился, из горла хлынул гной с кровью. В избе прохаркался, мать обрадовалась: оживет парнишка. Так и есть: ожил. Но какая там школа? Целыми днями сидит на печке, в табачную коробочку с караваном богдыхана собирает всякие хорошенькие мелочи. Бумажечки от конфеток, которые кто-либо съел, рассматриваются вновь и с новым интересом, подолгу и с прищуркой: там целые миры, в этих невиданных картиночках.
ак никто и не интересовался, какая у Егорки была болезнь, - не умер, и этого довольно. Только к осени окреп, потому что отец все время брал его с собою: на пашню, на покос, на молотьбу - все лишний кусок сунет ему в рот: "Ешь, поправляйся". Но болезнь выходила из него медленно и мучительно: нарывами. Такие большие, то на животе, то на спине, поднимутся бугром, в середине желтая точка и вокруг опухоль. Пока прорвет, измучит, ни спать, ни играть не дает. Но все время Егорка на ногах, на улице. Набегал к осени опять черные "цыпки" на ногах, а сапог и к зиме, хоть бы старых не было. Зима опять длинная, а зимой еще нарывы, на этот раз на горле. Совсем задыхался, ни дышать, ни пить, ни есть. И опять-таки хворал на ногах. Как-то побежал во двор по нужде, поскользнулся на льду, упал, заревел - голос появился, из горла хлынул гной с кровью. В избе прохаркался, мать обрадовалась: оживет парнишка. Так и есть: ожил. Но какая там школа? Целыми днями сидит на печке, в табачную коробочку с караваном богдыхана собирает всякие хорошенькие мелочи. Бумажечки от конфеток, которые кто-либо съел, рассматриваются вновь и с новым интересом, подолгу и с прищуркой: там целые миры, в этих невиданных картиночках.
В церкви Егорка давно уже не бывал. Летом босого не пускали, а зимой и вовсе не в чем выйти. Даже Елена часто по воскресеньям сидит дома. Беличью шубу ее, дети, укрываясь в зимнюю стужу, совсем разорвали на части. Беличий мех трудно сшивать кусочками. Одна пелерина с длинными кистями - беличьими хвостиками, осталась целой, но в ней одной в церковь не пойдешь. Лежит в сундуке до какого-нибудь радостного дня. По утрам в праздники Елена вынет из отдушины под печью тряпку, служащую затычкой; вместе со струею свежего, холодного воздуха, врывается в избу отдаленный трезвон колоколов: обедня отошла, скоро Оничка или отец придет с просвиркой. Обедать будут. Но в трезвоне колоколов слышится Егорке все одно и тоже: "Бедная - моя-то, бедная моя-то!" Нет, в школу Егорку в эту зиму не удалось отдать, да и школы не было. Учителя не прислали, а весной, как раз на Пасху, и лазарет сгорел, в котором помещалась школа, откуда прошлой зимой Митрий увез учителя куда-то в горы.
Опять была суровая зима. Дни жизни тогда были длинные-длинные. Потом, когда годы будут спускаться, как занавеси, одна за другою, Егорка забудет их скорее, нежели те дни его первых лет жизни, когда он стал учиться грамоте. А грамоте он стал учиться у малограмотной матери, которая писать не уела, но показывала Егорке буквы в книжке и говорила:
- Видишь, вот эта А, а это Бе? Ну, повтори за мной: Бе-А-Ба, Ве-А-Ва.
Он подхватил и через два-три дня, сидя на печке, босой и голодный, тарабанил во весь голос:
- Бе-А-Ба, Ве-А-Ва, Ге-А-Га! - И это ему так нравилось, что он совсем забывал вытирать нос, под которым было хронически мокро.
Все ребятишки, рожденные в нищете да в холоде, так сопляками и росли, пока окрепнут, - лет до десяти.
Но ведь многие из них не выживали - рождались всегда под осень. Летняя страда для матерей была вдвойне изнурительной - надо жать и косить, и молотить, когда ребенок уже на сносях. Потому, рождались прежде времени, как раз к зиме. А у матерей молока мало: один еще от груди не отсажен, а новый родился... Не выживали. Отцам приходится копать могилки уже в застывшей земле, в марте. Редко доживали дети до весны. Так и Егорка вытянул, но простуда с младенчества каждую зиму выходила из него носом.
А тут еще почти год хворал, чудом выжил.
Но, Господи Боже мой, как была счастлива мать, когда Егорка сам, забыв о сырости под носом, достал из печки тоненький уголек и на полях висевшей на стене картинки, "Под вечер осени ненастной", напечатал очень старательно: ДОРГI.
Пришел как раз соседский подросток, умевший читать. Он сразу же так и прочел: "Дорги". Но Егоркина мать его поправила: "Деоргий". Буква Д уже для нее и для Егорки была ДЕ, зачем же ставить Е? но соседский грамотей и ее поправил: по календарю Егора звать Георгий. Егорка жадно слушал, но соседу не верил: мать его знает лучше всех. Так и писал себя по имени Егория Храброго: ДОРГI; "I" с точкой для него было твердо и достаточно вместо IЙ, пока не поступил в школу, год спустя, когда ему стукнуло восемь с половиной.
Но как он впервые попал в школу? Об этом стоит рассказать. Во-первых, мать его первая увидела учительницу на улице. Учительница, высокая красивая и молодая, в безрукавном теплом доломане и в белой шапочке, она появилась на белоснежной улице, как сновидение. Во-вторых, Елена сидела несколько вечеров, шила для Егорки сюртучок. Так точно: сюртучок из того самого дедушкиного, разорванного в драке между Оничкой и Миколкой сюртука - Егорке сюртучок по росту. И утром рано, сняла с себя свои старые валенки, надела на Егорку. Валенки и полы сюртука доходили как раз ему до колен.
В таком виде она поставила Егорку перед иконами, сама босая стала позади и приказала молиться. Сама читала молитву, Егорка повторял. Потом Елена сказала ему:
- Поклонись мне в ноги, скажи: "Маменька, благослови".
И поклонился Егорка, сказал: "Маменька, благослови" и от себя прибавил: "Христа ради!" И эти, эти прибавленные самим Егоркой слова: "Христа ради!" - вызвали у матери слезы. Она наклонилась к нему, поцеловала и перекрестила его трижды. Надела на него Миколину старую заячью шапку, а поверх сюртучка намотала крест-накрест через грудь праздничную шаль, подарок свекровки Соломеи Игнатьевны, и в этом виде Егорка потащил большие валенки от избы по снегу вверх по улице.
Мать, босая стояла на крылечке, крестилась, плакала и может быть мечтала, что вот пошел его Егорка в жизнь иную, новую какую-то, по мысли Елены, по молитвам ее кротким, с мечтою о немногом, о возможном, по Господней милости.
А школа была в новом месте, вернее, в старом большом доме, бывшем доме управляющего рудниками, Ползунова, в котором теперь занимал одну половину отставной лекарь Иван Никифорыч. Над домом этим зиму и лето шумели те самые тополя-гиганты, которые серебрились зимою, зеленели все лето, переполненные разными птичками с их оглушающим щебетом и золотились долгую осень, как две золотые горы по обе стороны села. Сюда и дотянулся, против ветра, Егорка. И пришел он во время, до прихода учительницы. Ребятишки шумели в классе и в соседней пустой зале, и на улице. И уже во время первой перемены они окружили Егорку и дергали его за полы сюртучка, смеялись и выкрикивали: "Конторский! Глядите - барин, господин!" Но Егорка выдержал. Он с первого часа в школе был захвачен невиданным зрелищем: учительница! Ой, какая она красивая! Даже красивей его матери, и даже Ольги Жеребцовой, только еще выше и наря-адная. Смотрит он на нее, а слов не слышит, не разбирает. Только голос, такого не бывает у людей, наверное, вот такой бывает у ангелов.
Простил Егорка насмешки над его сюртучком.
Но вот, при выходе из школы ребятки толкнули его в снег, он и вывалился из больших материнских валенок. А они еще и снегу в валенки насыпали. Босой, он замерз, плакал, едва дошел до дома, но и это простил. Однако рассказал матери о насмешках и о том, как его "вывалили" из валенок. Тут мать и сказала:
- Ты же им простил? Ну, и забудь, молись Богу да учись. Старайся.
Ах, какое это было счастье - сидеть в теплой, светлой, огромной школьной комнате и неотрывно любоваться развешанными по стенам картинами: на одной стене были картины из Закона Божия - двенадцать годовых праздников - это особенно хорошие картины, а на другой - человек со снятой кожей, человек с открытым животом, так что все кишки видно, и потом - скелет человека... Эти картины он не любил, даже боялся на них смотреть, когда оставался в классе один, а оставался он часто, "без обеда", потому что сидевший с ним рядом Андрюша Зырянов, купеческий сынок, всегда так подстраивал, что Егорка громко хохотал. Нападет на него смех, не может остановиться, и учительница, после третьего предупреждения, вдруг покраснеет и закричит:
- Не, теперь ты будешь сидеть без обеда!
Правда, она потом вскоре приходила и раньше времени его отпускала, но он бы хотел оставаться дольше. Уж очень скучно и темно, и убого, и холодно в родной избушке. Вот в один из таких-то одиноких часов в классе, как-то перед Рождеством, пришло ему в голову - попробовать писать, "по-мелкому". Его первая тетрадка была уже исписана по-крупному", по косым линейкам, он еще совсем не знал грамматики. Но была у него белая бумажка - учительница выронила из шкафа листок и он его берег много дней. Он налиновал по нему прямые поперечные линейки и со страхом подошел к столу учительницы - впервые взял в руки ее чернильницу и ее перо - ими, наверное, лучше выйдет - и, сев на свое место, стал писать мелко-мелко. Вышло! Попробовал писать быстрее - тоже вышло!
В тот первый год в школе все было первое и все было радостное. Впервые он был принят в церковный хор и хоть голосок его был очень слаб, Егор Митрич, регент из Воронежской губернии, не исключил его и даже звал на спевки. Это было тоже первое и радостное, потому что на спевках, по очереди происходящих в разных домах, давали чай с сахаром и с пшеничным хлебом, иной раз даже с пирогами. Егор Митрич звал его Тезка! - и первый узнал, что Егорка к Рождеству уже научился писать "по-мелкому". Об этом Егор Митрич рассказал на Слободке, где жили зажиточные переселенцы из Воронежской губернии. Сам Егор Митрич был хорошо грамотный и даже переписывал ноты, но на Слободке больше грамотных людей не было, а надо было писать письма на родину, родне, родне наиболее состоятельных и недавно построивших большой дом переселенцев.
В Рождество, в снежную метель, морозной ночью, вместе с отцом и старшим братом, Егорка брел по сугробам на гору в церковь и, когда все люди должны были стоять в церкви тесной толпою, Егорка торжественно просунулся к клиросу в группу певцов, как равноправный. Это был первый год, когда он вместе с хором, на дровнях-розвальнях, объезжал богатые дома и пел тропари и многолетия хозяевам и веселые колядки - новость, привезенная в Сибирь Егором Митричем из Воронежской губернии.
И вот тут-то и случилось, что когда они отпели и отпотчивались в самом большом, новом доме переселенцев, бабушка, строгая глава всего семейства, спросила Егора Митрича:
- Не той ли то голубок, что писать письма могит?
Голос ее был басовитый и растянутый, как будто слова она не говорила, а напевала.
- Той-той самый! - сказал Егор Митрич и погладил по белокурой голове мальчонку.
- Ну, коли слободный будешь - приходи, письмо мне напишешь, я те копейку дам.
Старушка тоже прикоснулась к волосам Егорки и пошло от этого прикосновения такое славное тепло, а от руки запахло воском - она только что зажгла свечку перед образами, чтобы христославы пели более молитвенно.
Рождество на Руси празднуется до Нового Года и потом через Святки до Крещенья. За эти две недели Егорка усиленно практиковался в писании и все старые тетрадки исписал между строчек, все "по-мелкому", а в Крещенье, после обедни, в морозный день, долго, по сугробам, борясь с резким боковым ветром, плелся на Слободку - это около версты. Когда пришел, старые материны валенки были полны снегу - очень они для него были велики, а материна кацавейка, сползшая с его плеч до пола, раздразнила хозяйских собак так, что они чуть его не разорвали. В слезах и страхе был он спасен хозяином, высоким, бородатым сыном старушки, отцом большого семейства. Когда вошел в теплый, светлый дом, тут же на полу, плача и швыркая мокрым и застывшим носом, сел и сбросил вместе со снегом растоптанные валенки с ног и собрал вокруг себя всю, удивленную его бедностью и жалким видом, семью переселенцев. Молодица, жена младшего сына, что в солдатах, вытерла его ноженки, ребятки стаскивали кацавейку, а сам хозяин снял с Егорки шапку и утешил:
- Ну, ничего, не до-смерти. Не пла-ачь!
И стыдно стало Егорке своих слез - пришел же он сюда писарем, а вот расплакался. И через силу усмехнулся над собой Егорка, встал на ноги, припляснул на теплом полу и рассмешил все семейство. А бабушка уже распорядилась, чтобы прежде всего накормили. И вкусен же был этот первый воронежский борщ с наваристым, янтарным жирком и мягким, белым хлебом!
Все семейство собралось вокруг стола, когда он был освобожден от чашки, ложки и крошек хлеба. Чернильница Егорки была веревочкой привязана к лежащей на полу кацавейке, и это развеселило все семейство. Он отвязал непослушную нитку, с трудом, зубами, вытащил пробку из бутылочки и вынул из кармана новых праздничных штанов перо, привязанное к простой палочке и, вооружившись этой самодельной ручкой, сел за стол, все еще босой, с всклоченными волосами, розовый от мороза, и от вкусного обеда, и от волнения.
Бабушка торжественно вышла из горницы, приложив к сердцу листок бумаги. Вот она положила листок на стол перед Егоркой и сказала:
- Гляди, не спорть. Зырянов на копейку только два листка дает.
Гладко-скользкий и приятный на ощупь был этот листок. Руки Егорки дрогнули, когда он стал обмакивать перо в бутылочку с чернилами - как бы не пролить на бумагу и на чистый некрашеный стол. Егорка стряхнул капельку в бутылочку, как это он видел в школе - батюшка-законоучитель так делал, и, держа в руке перо, смотрел на чуть заметные линейки на бумаге и радовался, что есть линейки - по ним он не скривит. Наступила торжественная минута всеобщего молчания. Но вот бабушка перекрестилась, поглядела на сына и на сноху и на всех ребят, и даже на молодицу, стоявшую у печки, и сказала:
- Ну, Господи благослови. Пиши: письмо на родину от сестры вашей...
Егорка так и начал: "Ну, Господи благослови..." Он так волновался и хотел не отстать от слов бабушки, что опять забыл про нос, из которого вот-вот капнет на письмо... Но он вовремя ушвыркивал жидкость. Молодица догадалась: она поспешно ушла из стряпчей, в которой происходило все событие, и тотчас же вернулась и положила перед Егоркою красивый маленький платочек. Егорка догадался. Положил перо, впервые в жизни высморкал нос и в это время понял, что слово "пиши" писать не надо и продолжил: "Письмо на родину..."
Сразу же начались поклоны и повторения: "И еще кланяемся..." И это помогло Егорке ускорить писание. Он так сильно скреб пером, что хозяин встал, подошел, нагнулся, посмотрел и сказал:
- Явственно пишет...
Это придало Егорке больше бодрости, но и намекнуло: надо писать явственно.
Вскоре исписалась вся первая страница, и у Егорки, пока она подсыхала, была возможность снова высморкать нос. Пальцы его с трудом подняли, перевернули скользящий листок и разгладили его во всю широту на столе.
Поклоны продолжались всю вторую и всю третью страницу и только на четвертой было сказано: "Ну, а мы все живы и здоровы и урожай у нас был Слава Те Богу". И наступила опять минута молчания и переглядка всех со всеми.
- Чего же еще им написать? - спросила бабушка как бы сама себя.
- Дыть чего ж еще? - отозвался сын-большак. - Ахрамея быдто забыли. - "И еще кланяемся Ахрамею Зиновичу с семейством по низкому поклону и желаем от Господа Бога доброго здоровья и в делах ваших всякого поспешения".
- А Маланью ж, вдовуху? - подсказала молодица, потому что Маланья была ей родня.
- Ну и Маланье, - скомандовала бабушка а Егорка уже сам все написал от поклона до всякого поспешения.
Бабушка опять важно пошла в горницу за конвертиком и когда вышла, озабоченно взглянула в окно на закатывающиеся солнце. Потом, положив конверт перед Егоркой, сказала:
- Ну, прочитай, чего там написано. А опосля адрес напишем. Прочитал Егорка бойко, голосисто. Все слушали и вспоминали, всех ли перечислили и главное, явственно ли написано. Все было явственно.
Адрес было писать не легко: уж очень он длинный, едва вместился на конверте, но тоже все было сказано, и губерния, и уезд, и волость, и деревня, и имя брата бабушки, даже по отчеству названного.
Платеж за писание письма производил сын бабушки. Он вынес из горницы две монетки - так это было ясно потому, что он звякнул ими, задержал в руке, должно быть намерен заплатить Егорке двойную цену - уж очень все вышло гладко и складно в письме, а мальчик, видать, бедный. Но он переглянулся с бабушкой и не посмел нарушить условия - отдал одну копейку.
Было уже почти темно, когда Егорка подходил к родной избе. Руки его страшно коченели, потому что, кроме копейки, дали ему переселенцы полную бутылку подсолнечного масла: в гостинчик для матери. Бутылка все время холодила руки, и как он ни старался прятать ее под полу, она выскальзывала, а надо было ее держать и донести целой, потому что она стоит куда больше копейки, может быть, даже три копейки, а скорее всего ей и цены нет, потому что в Егоркиной избе хоть и бывает скоромное масло по праздникам, но подсолнечное он видал только в Великий Пост в прошлом году. Мать его будет просто счастлива, когда увидит, что не напрасно она вымолила у отца согласие отдать Егорку в школу. Ноги закоченели. Егорка продрог от долгого пути по метелице, но торжественно, с широкой улыбкой, постучался в дверь, примерзшую в притворе, так как сам он открыть ее никак не смог. Открыл ему Микола. Семья была вся в сборе, к ужину. Егорку встретили, как героя.
Пройдет много лет жизни Егорки. Может быть он станет сельским писарем, может быть даже фельдшером, а может еще кем-либо побольше фельдшера, но эту, первую свою копейку, заработанную им с таким трудом и с такой честью - он будет беречь в памяти, как самую великую награду, как ключ к тому свету, о котором смутно мечтала и молилась его мать, Елена Петровна.
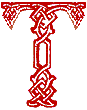 ак никто и не интересовался, какая у Егорки была болезнь, - не умер, и этого довольно. Только к осени окреп, потому что отец все время брал его с собою: на пашню, на покос, на молотьбу - все лишний кусок сунет ему в рот: "Ешь, поправляйся". Но болезнь выходила из него медленно и мучительно: нарывами. Такие большие, то на животе, то на спине, поднимутся бугром, в середине желтая точка и вокруг опухоль. Пока прорвет, измучит, ни спать, ни играть не дает. Но все время Егорка на ногах, на улице. Набегал к осени опять черные "цыпки" на ногах, а сапог и к зиме, хоть бы старых не было. Зима опять длинная, а зимой еще нарывы, на этот раз на горле. Совсем задыхался, ни дышать, ни пить, ни есть. И опять-таки хворал на ногах. Как-то побежал во двор по нужде, поскользнулся на льду, упал, заревел - голос появился, из горла хлынул гной с кровью. В избе прохаркался, мать обрадовалась: оживет парнишка. Так и есть: ожил. Но какая там школа? Целыми днями сидит на печке, в табачную коробочку с караваном богдыхана собирает всякие хорошенькие мелочи. Бумажечки от конфеток, которые кто-либо съел, рассматриваются вновь и с новым интересом, подолгу и с прищуркой: там целые миры, в этих невиданных картиночках.
ак никто и не интересовался, какая у Егорки была болезнь, - не умер, и этого довольно. Только к осени окреп, потому что отец все время брал его с собою: на пашню, на покос, на молотьбу - все лишний кусок сунет ему в рот: "Ешь, поправляйся". Но болезнь выходила из него медленно и мучительно: нарывами. Такие большие, то на животе, то на спине, поднимутся бугром, в середине желтая точка и вокруг опухоль. Пока прорвет, измучит, ни спать, ни играть не дает. Но все время Егорка на ногах, на улице. Набегал к осени опять черные "цыпки" на ногах, а сапог и к зиме, хоть бы старых не было. Зима опять длинная, а зимой еще нарывы, на этот раз на горле. Совсем задыхался, ни дышать, ни пить, ни есть. И опять-таки хворал на ногах. Как-то побежал во двор по нужде, поскользнулся на льду, упал, заревел - голос появился, из горла хлынул гной с кровью. В избе прохаркался, мать обрадовалась: оживет парнишка. Так и есть: ожил. Но какая там школа? Целыми днями сидит на печке, в табачную коробочку с караваном богдыхана собирает всякие хорошенькие мелочи. Бумажечки от конфеток, которые кто-либо съел, рассматриваются вновь и с новым интересом, подолгу и с прищуркой: там целые миры, в этих невиданных картиночках.