II. Отец берет Егорку на пашню
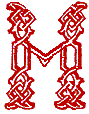 алолетство Егорки протекало перед концом двадцатого века. Разберемся в обстановке и вглядимся в два корня, ветки от которых, случайно ли или по предназначению, соединились и дали плод, сам по себе незначительный, но все же плод жизни - Егоркину жизнь.
алолетство Егорки протекало перед концом двадцатого века. Разберемся в обстановке и вглядимся в два корня, ветки от которых, случайно ли или по предназначению, соединились и дали плод, сам по себе незначительный, но все же плод жизни - Егоркину жизнь.
Еще современник Петра Великого, Акинфий Демидов, разведал, что Алтайский хребет, отгораживающий сибирские равнины от монгольских, богат золотом и серебром, медью и углем и всякими иными богатствами, а мы сами знаем про красоты диких высот Алтая и его бесчисленных, почти что сказочных, молочных рек с кисельными берегами. Не столько золото и серебро привлекало на Алтай насельников из центральной России, сколько эти молочные, всегда пенящиеся от быстроты, реки и пустынные их долины, где могли найти убежище, и беглые от наказания грешники, и взыскующие скитского уединения и праведники старой веры, насельники таинственного Беловодья. А когда, позже, стали разрабатываться рудники, пришли туда вольные и подневольные шахтеры, старые и молодые, больше всего мужское население. Русских девушек-невест был недостаток. Местная, калмыцкая или киргизская женщина дичилась, сторонилась русских. Не легко было ее обучить языку и христианской вере, а таких случаев не было, чтобы русский человек из-за женщины переменил веру и обасурманился. А старообрядцы не смешивались, не только с местными инородцами, но и русскими не ихней веры. Потому их род сохранился и размножился на Алтае в чистоте и крепости до-Петровской Руси. Но горняки-шахтеры, в поисках семейного начала, иногда женились на инородках. Или брали в зятья инородцев, но в этом случае, невеста ли, жених ли, должны были креститься и совершенно обрусеть. От такого смешения и поныне лица некоторых русских в Сибири отличаются высокою скулой, темным цветом кожи, узкими глазами и коротким носом.
Правда, тип дедушки, Луки Спиридоныча, Митриева отца, был особенный. Не то, что на калмыка, а скорее на старого индуса был похож, зато уж бабушка, Соломея Игнатьевна, по всем чертам лица и по речи, и по привычкам, была русская из самых русских.
О происхождении дедушки и о его предках по отцовской линии, сам он не рассказывал, но о том, что дедушкин дед был калмыком, в народе были слухи. Тут уже вина, а может быть и заслуга, казаков, то есть той самой линии, из которой происходит мать Егорки, Елена Петровна. Тут опять надо вернуться не на сто, а может быть на полтораста лет назад, когда для охраны русских владений в Сибири от набегов непокорных, кочевых племен Азии, надо было протянуть линию казачьих застав, называвшихся форпостами, по всему правому берегу реки Иртыша и дальше, на северо-восток, по предгорьям Алтая. Тут-то и понадобились казаки с Тихого Дона, люди, как и староверы, крепкой славянской кости и православной веры. Сели они прочно на больших земельных наделах, с местным населением не смешивались и не враждовали. Везде белела и поблескивала крестом церковка; грамотность была обязательной для каждого молодого казака, а от него, если не в школе, то дома, научалась читать и молодая казачка. Казачьи сотни обучались и формировались в полку, в большом городе, но подготовка казака, его коня и седла, были обязательны в станицах. Значит, позади казачьих станиц и за спиною казака, спокойнее было крестьянам и всякому рабочему люду. Так, мирное завоевание длилось более столетия. Греха таить не надо, приходилось казакам делать набеги и на мирных инородцев. Дело это темное, точно не проверенное, но будто бы, прапрадед Митрия был богатым калмыцким ханом, владевшим сотнями лошадей и тысячами баранов, когда казаки захватили его стада во время своего набега в горы. Добычу поделили меж собой, а молодого ханского сына, Тарлыкана, не то Тарухана, бывшего среди пастухов, взяли в плен, окрестили его, выучили грамоте и женили, но не на казачке, а на засидевшейся в девках до тридцати годов дочери русского шахтера. Шутили казаки: от этой не сбежит. И не сбежал, стал сам шахтером. Жена у него крепкого сложенья, народила ему кучу ребят. Один из сыновей и был отцом Луки, по имени Спиридон.
Но не по этой легендарной причине, в четвертом поколении, сошлись две линии для брака Митрия и Елены. Причины были натуральные и обе далеки от любовной завязки.
В те времена судьбу жениха и невесты решали их родители, а в этом случае - нужда. Соломея Игнатьевна была второй женой дедушки, а Митрий и еще двое: сестра Катерина и брат Василий, родились от первой, значит росли под мачехой, а мачеха, когда пошли дети, пасынков не только досыта не накормит, а и побьет. Однажды, девятилетним, ушел Митрий из дома и поступил разборщиком руды на шахты. Тогда они жили в Николаевском руднике. Шахты еще не были закрыты. Дедушка был занят службой, в домашний распорядок не вникал, а когда хватился большака и узнал, что он работает на шахтах, неловко ему стало, упросил начальство поместить его в казенную шахту с пансионом. Своего жалования не хватало. Но в пансионе были дети старших чиновников, среди которых Митрий отставал во всех науках. И одет был хуже всех и всех дичился. Ушел опять на разборку руды. Ел и спал в казармах, домой приходил только на праздники.
Когда подрос, стал и для дома помогать и пашню для родителей поддерживать; но шахта и шахтерская среда оставалась его домом и семьею. Так и подошла воинская повинность. Как старшего сына в семье, от солдатчины его освободили. Родители решили; надо бы женить, да на ком? По положению родителей, можно бы найти девицу из купечества и даже из "благородных", да кто за него пойдет? Ни грамоте, как следует, не знает, ни обхожденью с людьми не научился. Молчун, одет бедно, руки в мозолях. Крестьянку взять в дом - Соломея Игнатьевна сарафанов терпеть не могла: как-де крестьянку, ни одень, все равно крестьянкою останется. Так прошло три долгих года. Но вот услышали: Степан Жеребцов, уставщик Таловского рудника, женил своего сына, Виктора, на казачке. Говорят - боец девица, красавица собою и все умеет, шить и мыть и стряпать и на поле жница, и в хороводе лучшая певица. Разведали, откуда, чья... Снарядили сватов; самим сватать не принято. Приехали сваты обратно, рассказали: у вдовы-казачки, в Убинском Форпосте, на Иртыше, еще их шесть дочерей осталось. Лизавета, что выдана за Виктора Жеребцова - первая, а за ней идет вторая, девятнадцати лет, Елена. Краля! Белая, румянец во всю щеку, грамотная, поведения тихого, люди не нахвалятся. Вдова будет радешенька выдать ее; у нее еще пять подрастает и ни одного сына-работника в доме. Семь дочерей оставил после себя казак, по имени Петр, а по отчеству, даже не поверили Исусович. Столяровы по прозвищу. (Имя Исус, с одним И, имеется только в старообрядческом календаре. Возможно, что Исус Столяров, казак с дона, и был старообрядцем.)
На этот раз привезли сваты и Митрия. Одели его почти во все отцовское, как настоящего из "благородных". Как увидел девку, спорить и слов не нашлось. Молчал, посмеивался, темную, козлиную, как у отца бородку пощипывал. Парню двадцать четыре года, чего еще ждать? А Елена даже и разглядеть жениха, как следует, не решалась. Потупивши свои карие глаза, играла кончиком тяжелой, золотисто-русой косы. И смеяться не решалась. При чужих людях даже улыбаться неприлично. Казачки даже танцевали со строгими лицами, чтобы люди не подумали, что у них ветер в голове. Мать ее, Александра Федоровна, молча выслушала сватов. И дочь не спросила, согласилась. И потом четко, коротко и ясно, за дочь и за себя, жениху задачу задала:
- А ежели чему я ее не научила, то сам ты будь умным - научи!
Увезли сваты жениха к свадьбе готовиться.
... Уже одиннадцать лет прошло с тех пор, как привезли в Николаевский рудник, на отдельной подводе, приданное Елены, в двух сундуках, каждый затворялся со звоном. Это для того, чтобы, если , не дай Бог, вор попробует полезть в сундук, замок зазвенит на всю избу. Сундуки теперь уже оба опустели так, что когда Елена их открывает, звон делается еще громче, в пустоте гудит. Беличью шубку с длинной пелериной до пояса, а беличьи хвосты свисали ниже пояса, - ребятишки, укрываясь по ночам, так истрепали, что в люди стыдно надевать. В зимнюю стужу дети спят вповалку на полу, чем их укроешь? Тянут друг на друга, рвут. А их уже пятеро.
Пока Егоркины годы тянулись медленно, как вечность, для Елены и Митрия они летели, как недели. За одиннадцать лет - пятеро, а если бы все выжили и не рожала бы мертвеньких, их было бы всех восемь. Как справлялась, как Митрий ухитрялся всех прокормить, запасти муки, дров на зиму, сена для скотины? - Бог один ведает. Все также - с горем пополам, как и другие шахтеры. А многие и в шахте не могут выдержать. Купоросная вода сводит ноги, калечит молодых. До старости в шахте редко кто дотянет. Избавиться от шахты - вот о чем все чаще Митрий стал подумывать.
В крестьянском сословии Митрий не состоял. По паспорту он пишется: обыватель рудника Николаевского. Но многие обыватели уже давно обзавелись плугами, засевают по десяти десятин и живут, как настоящие крестьяне. Взять, к примеру, Касьяновых, Будкеевых, Вершининых, Поротниковых. А Михаил Васильевич Вялков, тот в шахту никогда и не спускался, а самый справный на селе. Вот у Митрия уже три лошади да стригунок, весной будет два года, третьяком станет.
Один из бедняков-соседей собирался тоже уходить из шахтеров. В город засобирался. Безлошадному ему там легче найти работу. Теперь кобылу продает: кормить нечем. Да заморил так, что до весны и не поправишь, а у Митрия, у самого, дай Бог, до Великого Поста своих лошадей прокормить.
Хуже всего, что с тех пор, как закрылись шахты в Николаевске, на работу каждое воскресенье под вечер надо пешком ходить в рудник Сугатовский, девять верст. Летом еще ничего, дни долгие. А зимой!.. Иной раз буран, едва добредешь; и посушиться не успеешь - уже утро. Надо в шахту. А то мороз такой ударит, что хоть всю дорогу пляши. Попробовал на Гнедчике верхом ездить, даже свое немудреное седлышко справил. Да там при шахтах, шесть дней, негде лошадь содержать. Взял как-то, посадил позади седла девятилетнего Миколку, чтобы обратно лошадь с ним прислать; отправил домой одного - пар ненка чуть не погубил - такая поднялась завируха, снежная метель, да на морозе! Одет Миколка кое-как, сапожонки в дырах. Шапчонка - для сорочьего гнезда годиться. Хорошо, что смышленый парнишка: дорогу не потерял и то и дело слезал с лошади. Пробежит с нею рядом, держится за стремя, согреется да опять в седло. Другой закоченел бы до смерти. Шагает Митрий, думает, а у самого ноги и горят и стынут, хоть отруби. Меж пальцами на них, от колчедана и купоросной сырости, все время сукровица выделяется. Не заживают. В шахте еще больше промокают, а на ночлеге, в казарме, нет домашней печки, чтобы онучи просушить.
Не легко и без заработка оставаться, а калекой станешь - еще хуже будет.
Вот так больные ноги не давали ему спать, решили судьбу Митрия: оставить шахты перед Пасхой и в складчину с таким же бедняком, у кого есть две лошади, посеять не одну, а три десятины хлеба. Земли у него много, устала ждать пахаря, проросла, что твоя целина. От отца двадцать десятин да и брат Василий - однолошадник, свою тоже не пашет. Можно выбрать и для пшеницы, и для овса, и для ячменя - свои "толстые" щи ребятишкам будут.
Ободренный таким решением, Митрий на Рождество сторговал Буланиху. И вышло ловко: мужик согласился взять лишь третью часть наличными, вторую часть полудесятиною пшеницы, а последнюю треть деньгами после сбора урожая. Сговорились, и при свидетелях-соседях, Митрий принял от продавца, из полы в полу, повод Буланихиной узды. Двадцать четыре целковых на кобылу, цена не малая. Кобыла захудалая да еще жеребая, - значит, приплод... Еще одна лошадь, Бог даст, подрастать будет. А когда будет шестерка - можно и одному, без складчины, пахать и боронить. А там ребятишки подрастут - своей семьей, как Вялков, и урожай снимать можно.
Елена усиленно ухаживала за мужем: всю Страстную неделю и всю Пасхальную меняла повязки на его ногах, мужик повеселел. К пахоте он твердо станет на ноги и по своей земле пойдет за собственной, кривой, однолемешной, на деревянной основе, сошкой.
Волнения всей семьи начались еще до Пасхи. Все повеселели, стали говорить и двигаться быстрее и смелее. Приготовления шли по всем правилам заправских пахарей. Митрий не один. Миколке в Вешнего Миколу будет десять лет. Он все время неотступно при отце и с лошадьми. Строг и важен с остальными членами семьи. Егорка с завистью смотрит, как Миколка, схватив Гнедичка или Буланиху за гриву левой рукой, а другою размахивается вместе с босой пяткою правой ноги и - он на спине лошади. Миколка еще потому сердит и строг со всеми, что обидела его судьба. Года два тому назад играл с другими ребятишками на улице. Из самодельных самострелов стрелы острые пускали в небо. Хвалились и гордились, у кого сильней и выше улетит стрела. Один пустил свою стрелу в небо, высоко улетела стрела. Поднявши лицо кверху, завидно засмотрелся на нее Миколка, а она уже летит на землю и прямо ему в глаз. С той поры он окривел. На левом глазу бельмо, но правым зорко видит все и особенно Егоркин мокрый нос.
Егорке шесть лет. Отец решил и его взять на пашню. Не помогать, а чтобы дома было легче матери, а на пашне и ему лишняя ложка настоящей каши перепадет. И вот тут-то Миколка не давал пощады Егорке. То и дело рычал на него басом:
- Вытри нос-то!..
Недолюбливал он брата с малых лет за то, что мать и отец всегда все, что послаще - Егорке первому. И вот берет отец Егорку на пашню. Для чего? Какая от него помощь? Да никакой, только людей смешить. А Николай будет настоящим пахарем. Он уже знает, что значит озимое и яровое, что значит залежи и пустыри и что такое залог. Это целина земли, а не заклад, об который, не согнутыми ладонями, мужики друг друга по рукам хлопают, когда о чем-нибудь спорят и божатся. А Егорка не знает еще, что такое гуж и что постромка. Куда и зачем его ни пошли - притащит что-нибудь другое. А Миколка знает, как седлать и запрягать и сам уже правил всей пятеркой лошадей, когда прокладывали первую борозду на залежи. Ни разу не скривил борозды. Вот тебе и одноглазый.
Миколка-Николай знает уже все дороги и речки, и названия ближних деревень вокруг села. Каждый поворот дороги знает, знает, где какой ухаб объехать. А ухабы есть такие, что все колесо может увязнуть. Старики об одном ухабе сказывают: малышами были, а ухаб все тот же, никто его не засыпал, не поправил. Трава возле него растет густая и высокая, его и не увидишь издали. Этот ухаб такой глубокий, можно всякий раз воз опрокинуть.
А когда уже проедешь от Николаевского рудника около двух верст, переедешь речку Таловку и повернешь налево - будут узкие, глубокие колеи колесного пути.
Эти дороги с длинными грядками из сплошного дерна - такая незабвенная летопись для каждого в родном поле. Куда ни поедешь - только из села выехал, только кончились "назьмы" - кучи вывезенного из дворов навоза, - как сейчас же пойдут виться эти ровные, дернистые грядки, нанизанные на поля, будто гарусная пряжа. Тележные колеса ровнехонько их понарезали, вычесали длинную траву на грядках меж колей и слегка почернили деготком от густо смазанных осей. Так вот, как только проедешь мельницу Шмаковых - тут этот ухаб и есть. Он такой глубокий и всегда наполнен жидкой грязцой, тут тебя обязательно сильно тряхнет и берегись грязи. Если девки или бабы ноги с телеги свесили надо быстренько их приподнять, иначе все юбки окатит грязью. Понятно, тут и смех и грех - в крестьянском быту юбки задирать не полагается. А иной мужик или парень в этом месте обязательно стегнет по лошадям, ну вот он тут ухаб и веселит людей, запоминается.
А если Миколка знал всякий поворот дороги и названия земляных мостков через ручьи, то как же не запомнить тот самый Крутой Лог, длинный и глубокий крутояр, на краю которого стояла пашенная землянка, избушка, выстроенная Михайло Васильевичем Вялковым, пашни которого лежали вдоль этого Крутого Лога? В избушке этой Вялков приютил и Митрия, и других соседей по пашне. Бывало набьются в непогожий день так, что негде и хозяину сесть. Но как-то всем хватало места для ночлега. Так оно и было: в тесноте да не в обиде.
Запомнились все лица, голоса, улыбки, шутки, армяки, сермяги, закопченные на дымных костерках чугунные, смешные чайники и черномазые котелки с помятыми боками.
Мужики тут были всякие. Вот двое молодых, но безлошадных, в работниках у Вялкова. Один, что повыше, Алеха, с черными кучерявыми волосами, был весельчак, певун, охотник, хотя ружья у него не было. Ружье брал у Вялкова. Вялков был стрелок без промаха. Бывало, никто не углядит, когда и где - настреляет косачей или селезней, - уток весной он не стрелял и другим давал советы не стрелять; принесет бывало дичь, бросит прямо в круг, значит, для всех. Также было и с рыбой. Наловит, принесет и сам же уху для всех сварит: ешьте! Алеха, когда все вечером соберутся у костра, наврет с три короба про то, как он застрелил сохатого в тайге да как обманул медведя: подбросил перед его мордою свою войлочную шляпу, тот встал на дыбы, а Алеха пырк его ножом в брюхо... Никто ему не верил, но все смеялись и сам Алеха смеялся громче всех. Но Вялков знал, чем это вранье кончится. Алеха уставился на Вялкова широко открытыми, черными глазами и то одним, то другим глазом, подмигивает. Не выдержит этого Вялков и согласится дать Алехе свое шомпольное ружье на следующее воскресенье.
- Ружья мне не жалко, да ты мне весь порох, всю дробь расстреляешь, сам я чем буду стрелять?
Но Алеха всю неделю будет работать, как лошадь, все он готов сделать, только бы, еще в субботу вечером, обвеситься припасами, сунуть в сеточную сумку краюху хлеба и уйти в знакомые, излюбленные им скрадки. Там он будет ждать, курить, осмотрит и ощупает большой бычачий рог с порохом и круглый кожаный мешочек с дробью. Все сделано "по форме", как делали столетия назад; все прилажено к ремню, и мерка для дроби, и пыжи, и огниво-кремень с трутом, чтобы во всякую погоду огонь добыть. Но заряжает он ружье не меркой, а на глаз, горстью. Бьет его ружье прикладом в правое плечо, но плечо у него молодецкое, всякий синяк стерпит.
Были на стану и старики, с седыми, длинными, лопатой, бородами. Один из них, не перекрестившись, ни ложки не возьмет, ни первой борозды пахать не зачнет. И слова зря не бросит. А другой, с черною, подстриженною бородой, старый шахтер, что ни слово, то и закорючка с крепкой шуткой, но до самого низа слов не допускал: Вялкова стеснялся и щадил малых ребят. Среднего роста пахари, те степеннее, больше молчали, а если скажут что - оглянутся, проверят: слышали ли их и что из этого выходит?
Избушка была частью выкопана в земле, частью выложена из дерева и дерном покрыта. Вялков сам серпом срезал траву на крыше, чтобы гуще прорастала и дождь бы скатывался без задержки. Некоторым мужикам, кто это видел, было неловко, они бросались помогать, да дело было уже сделано, не успевали догадаться вовремя.
Все это было так ново для Миколки и Егорки, что даже их собственный отец казался здесь другим. Да и сама земля вокруг была для них уже не землею, черной или серой, в которую хоронят мертвых, а такой большой, подпершей небеса, такою неоглядной и холмистой, зеленой и веселой пашней.
Как будто только здесь, на пашне, и лицо отца помолодело. Небольшая, клинышком бородка на солнце порыжела, но темные волосы были намаслены и всегда гладко причесаны. На голове дешевенький картуз, выцветший и с переломленным блестящим козырьком. Этот козырек был особенно незабываем. Все Вялковские ребятишки к пасхе выряжались в картузы с такими вот, но целыми ярко-блестящими козырьками, хотя на пашню приехали в стареньких зимних шапках. Митрий купил этот картуз для Миколки, но тот на праздниках где-то сломал козырек и дня три не смел показываться на глаза отцу. Для него это была горькая, большая беда. Картуз был велик, его легко сносил с головы ветер и потому он пострадал так скоро. Отец отнял у Миколки картуз. Но для отца картуз был слишком мал, сидел смешно на голове, над самым лбом и набекрень. Но блеск на солнышке лакированного козырька придавал всему наряду Митрия веселый, молодецкий вид. Только две складочки на шее, пониже ушей, изгибались, как два узеньких черных шнурочка. Это въевшийся за зиму в шахте колчедан.
Но Митрию сидеть и слушать разговоры у костра или в избушке было некогда. Ходил он быстро, быстро ел и того быстрее бросался на работу. Забота пахаря дожилась на него монашеским молчаньем.
Пяти лошадей даже для простой сохи недостаточно. Сибирская земля крепка и тяжела, а к тому же, если давно не пахана. У мужика, с которым он пахал в складчину, пара лошадей была слабее его тройки, но на пяти лошадях Митрий уже был пахарь и хозяин. И хотя снасть была на деревяшках да на веревках, все ломалось и рвалось, а все же начали пахать. Чуть свет вставали, чтобы не отстать от опытных хозяев. Один день на пятерке пашут, другой на двух, попеременно, боронят. Впервые Митрий ходил с мерой зерна по свежей, черной, пахучей пахоте, как настоящий сеятель.
Какая терпеливая мать-земля! Какой она заботливый и нежный друг! Для всех весною раскрывает свои объятья: иди ко мне, приму и накормлю и убаюкаю раздольной трудовою песней.
Не все поют, не до песен и Митрию, но через него проходят песней эти ранние холодные утра на пашне, с инеем на молодой траве, с румяными восходами из-за далеких синих гор, с первой и такой заливистою песней жаворонка... Ведь только пение этих жаворонков, их медленные, певучие взлеты, их утопание в синеве небес, когда их песня все еще доносится на землю, - может напитать всякое сердце радостью до смерти. Но какая драма для Миколки, когда однажды под черным пластом пахоты он увидел, как промелькнуло и опрокинулось в борозду крохотное гнездышко с тремя яичками. Осталось принести еще только одно и птичка села бы на них и наслаждалась бы материнством.
Но и птичка пахарю это не простит. Она совьет другое гнездышко и когда опять муженек ее будет ей петь и вздыматься, петь и спускаться. И вдруг замолкнет. Значит сел, принес ей червячка. Вот диво! Дивное диво - земля!
Не все еще видел, не все понимал Егорка. По траве и по кустам босому ему бегать страшно. Уже два раза сам змею видал. А до пахоты надо идти через заросли и обрывы Крутого Лога. С собой его Миколка редко берет на пахоту. "Мешаешь", - говорит. Егорка сидит один в избушке или возле, на стану... Вот тут он и увидел, один на один, Михайло Вялкова, настоящего богатыря, величественного пахаря. Пришел Вялков на стан обед варить. Его большие голубые глаза остановились на Егорке с мягкою улыбкой. Ни слова не сказал, только дал ему кусочек вяленого мяса. Длинная прямая борода, спускавшаяся к поясу, легко погнулась под ветерком и легла на плечо.
Забыть такого невозможно. Чем позже в жизни, тем сильнее и красивее вырастал он в памяти Егорки.
Голос его был тих и мягок, с высокими нотками. Он не был очень высок, но так широк в плечах, что между ними уместятся двое таких мужиков, как отец Егорки. Движения его были осторожны и медленны. Так должны двигаться богатыри среди множества хрупких и громоздких вещей: как бы чего не задеть, не уронить, не разбить. Вялкова никто не помнит злым. Сам он говаривал:
- Не приведи Бог, ежели доведется ударить кого. Рука моя тяжелая.
Да никто и не сердил его: причины не было. Никому не должен, никого словом не обидит. Жена, как голубица мирная, худая, от ветра упадет, а над детьми, как курица-наседка над цыплятами: их и под крылышко, им и всякое зернышко. Хорошо, всего вдосталь, а детей всего четверо: дочка Клавочка двенадцати лет да три мальчика: Матвею - семь, а он уже в седле, по ловкости равен десятилетнему Миколке, да два четырехлетних близнеца: Иван да Николай. Михайло так и зовет их , как больших, а не Ванькой и Колькой. И оба они такие шустрые, во всем шустрей Егорки. И все три с отцом на пашне.
Когда Михайло сварил обед, он встал на обрыв Крутого Лога и через раскатистую и обрывистую глубину и долину оврага раздался его зычный голос:
- Выпряга-ай-те-е!
Вдали за крутояром, поля его чернели сплошь, работники пахали там в два плуга, а Матвей боронил на трех лошадях. Как врос в седло сызмальства, чернявый, в мать, - семилетний парнишка.
Все это Егорка видел и как-то молча, по своему, старался все понять: даже маленькие Вялковы все в сапогах; зипунчики, а зимние шубки - все по росту, новое и всего у них, хоть отбавляй. Мясо варят четыре раза в неделю, только в постные дни - варят чай да кашу, зато чай пьют с медом: своя пасека. Отец им мажет мед на большие ломти хлеба, не жалеет. Иногда и Егорке дает. Но Миколка этого терпеть не может и раз Егорку даже дернул за вихры:
- Стыда у тебя нету!
Сам Миколка даже не смотрит, когда чужие едят.
Но в этот день Егорка был в избушке один, когда Вялков дал ему вкусный кусочек вяленого мяса. У них тоже есть вяленое мясо, но немного. Отец бережет на праздники. Егорка знает, как вялилось соленое мясо весь Великий Пост под карнизом крыши их избы. Чтобы вороны не склевали, завешено было мясо старым неводом.
Но вот, когда собрались на стан пахари на обед и для перемены лошадей, произошла тревога, суматоха, крик. Миколка на двух чужих лошадях боронил, а Митрий сеял. Оба запоздали с едой. Все три собственные лошади паслись на зеленом склоне оврага. Буланиху приманила зеленая травка к самому ручью, что пробегал по дну Крутого Лога от еще не растаявшего снега. И потянулась она к воде пить, а тут как раз глинистый ярок: вода промыла яму. Лошадь была спутана. Пока пила, спутанные передние ноги ушли в засасывающую тину. Чем больше она пыталась вытащить ноги, тем они глубже уходили в трясину и, наконец, она всем крупом завалилась в ручей, и вода образовала перед ней пруд. Лошадь уже захлебывалась, когда Миколка увидал ее и закричал отцу. Митрий бросил кашу в котелке на костре, сбежал вниз. Кобыла громко фыркала и задыхалась. Пока сбежали вниз другие мужики, он руками и ногами рылся в глине, чтобы отвести воду, но вода и грязь все глубже засасывали кобылицу. А кобылица жеребая, "на сносях". Сама погибнет и жеребенок в ней...
Полдюжины мужиков взялись за гриву и за хвост, напрягли все силы, затянули даже трудовую - только сильней забилась, только еще глубже влипла в тину обессиленная лошадь. Но в эту самую минуту, не спеша, на широко расставленных ногах, не сошел, а скатился под косогор, как на лыжах, сам Вялков. В больших глазах его блеснули выпуклые белки, затем как будто даже налились в них кровяные прожилки. Этими глазами он быстро смерил всех людей, ручей, берег и размеры всего несчастья. Сгибая спину, взмахнул руками, как крыльями, по направлению к возившимся около тяжело стонавшей кобылицы мужикам и негромко произнес:
- Ну-те-ка, уйдите!
Как в сказке, Егор Святогор, нашедший суму с золотом, хотел ее поднять, уперся да ушел по пояс в землю. Так и Михайло Вялков. Намотав на правую руку черный хвост лошади и откинув левую, уперся так, что сразу же выше колен погряз в глинистую трясину. Но время было дорого, он уперся еще сильнее и погрузился до пояса. Зато он стоял довольно прочно. Теперь он дал работу левой руке, схватив ею гриву лошади, и обеими руками сперва раскачал животное на мутной воде, и сразу, как огромную суму, поволок ее слева направо, вокруг своего тела на берег. Лошадь, мокрая и грязная, дрожа всем телом, встала на ноги. Скопившаяся кучка мужиков завыла от восторга, а Вялков, смотря из-под войлочной, пирогом, шляпы, протягивал к ним руки и тем же негромким голосом ругался:
- Какого черта - тяните меня!.. Тут студено стоять. Вода-то снеговая...
Но не так-то легко было вытянуть его из глины. Долго возились мужики, пока им удалось помочь богатырю.
Остаток дня прошел в рассказах тем, кто этого не видел. Люди не верили своим глазам, как один человек мог вытащить жеребую кобылу из такой трясины, в которую сам ушел до пояса. Вялкову даже надоело слушать удивленные вопросы и он просто огрызнулся:
- Да не сила тут нужна, а смекалка. Под кобылой же полно было воды. Надо было только приподнять ее. Вода подплавила ее, я и вытащил. И то ошибку сделал. Надо было налево тащить, за гриву, головой вперед, а я за хвост... Так уж второпях вышло.
Тут уж все, и Митрий радостнее всех, захохотали. Митрий готов был помириться с тем, что кобыла помяла жеребенка, непременно выкинет мертвого. А все же ночь не спал, мыл, чистил, кормил кобылу.
Все спали вповалку, прямо на земляном полу избушки. Немножко соломы, войлок, сверху кое-какая одежонка, а главное, тепло от тесноты тел. Егорке между отцом и братом даже было жарко. Он помнит этот запах старой соломы, подсохшей земли и дыма от костра. Дым этот особенно впитывался в одежду, когда одежда вымочена дождем и сушится над костром.
Утром отец Егорку обычно не будил: для помощи ему на пахоте - он еще мал, и оставлял его спящим в избушке. Но Егорка не хотел оставаться один в пустой избушке потому, что одному страшно в черной закопченной землянке. Иногда, в ненастную погоду, разводили здесь костер, сушились, жарили картошку - закоптили. А снаружи сидеть - и того страшнее.
Но в это утро отец разбудил Миколку и Егорку даже раньше всех, лишь чуть зажглась заря. Голос отца был особенно ласков и тих, а лицо смеялось. Дома, в избе, он почти всегда был грубым. А тут, на поле, он смеялся...
Когда Егорка встал и выскочил вслед за отцом и Миколкой из землянки, отец повел их в сторону Крутого Лога. Егорка ничего не видел там, кроме огромного, немного почерневшего с краев слежавшегося снега, притулившегося к северному склону оврага. Но потом, когда протер глаза, увидел чудо.
Там на зеленой лужайке только что распустился черемуховый куст, весь белый, как будто его покрыли крупные хлопья снега. А под черемуховым кустом стояла Буланиха, и теперь ее черный хвост и грива и весь буланый (цвета сливочного масла) круп, особенно выделялись. Точно от нее и куст черемухи стал еще белее.
Но самое чудесное - под брюхом Буланихи стояла маленькая лошадка, в блестящей, гладкой шерстке мышиного цвета, с коротеньким кудрявым хвостиком. Ножки ее были такие тоненькие и высокие, что было удивительно, как на них может стоять эта лошадка. А лошадка не только стоит, но даже ходит и все время лезет мордочкой под брюхо кобылицы-мамы. А Буланиха, изогнувши шею, все время нюхала эту лошадку и тихо-тихо ржала, явно говорила о чем-то и ласкала маленькое, еле державшееся на ногах, свое дитя.
Микола первым бросился к ней ближе. Буланиха сердито храпнула и повела лошадку прочь от черемухового куста. Но Митрий смело к ней приблизился и, потрепав по шее, что-то сказал ей на особом, не на человечьем языке. Он как-то хохокал, тпрукал, посвистывал и как будто даже ржал по лошадиному, стараясь передать Буланихе всю свою радость: и сама жива и даже благополучно разрешилась жеребеночком.
И как же глубоко и крепко вошла в сердце Егорки эта утренняя заря! Из-за горы она вставала, как золотой кокошник всей земли. стреловидные лучи и ее румянец распространились на легкие крылья снегоподобных облаков. Неописуемая заря!
Так родился Карчик, лошадь, вместе с которой суждено было Миколке и Егорке вырасти и принять купель крестьянского труда.
Через неделю поля, увалы и отлогие склоны холмов вблизи и вдали, покрылись черными, пока что узкими и длинными полосами пахоты, но упорно расширялись и росли.
И не надо было этому придумывать какие-то слова. Потому, что это было счастьем Егорки и Миколки, их отца и всего белого света. Отовсюду слышались высокие ноты голосов, понуждающих лошадей, чтобы легче было им тянуть плуги и бороны и телеги с семенами. Переклички взрослых и подростков, ржание кобылиц, запряженных в сохи и плуги и обеспокоенных о жеребятах, смешались с непрерывным щебетаньем жаворонков и карканьем воронья. А позади запряжек, кое-где ходили маленькие жеребята и при всяком роздыхе вспотевших матерей, лезли им под брюхо пососать и подкрепиться...
А для маленького Карчика, Митрий намеренно подольше задерживал остановки лошадей. Овса у него не было, но он купил три мешка отрубей, рубил топориком на мелкие частицы сено, а иногда и солому, мешал эту "сечку" с водой и отрубями и тем поддерживал тяглую силу лошадей. Но пахота их истощала, ребра у Буланихи хоть пересчитай, а жеребенок ее тянет, ему тоже нужна сила - ходить и ходить следом за сохой или рядом с матерью. Иногда на стоянке насосется, отойдет на травку, ляжет, раскинет хвост и гриву, вытянет тоненькие ножки и заснет. Но когда вся запряжка тронется и уйдет на другой конец пахоты, а Буланиха беспокойно и длительно заржет, жеребенок вспрыгнет на ноги и несется к ней напрямик, через рыхлую полосу земли. тоже и этот малыш трудится.
Больней всего видеть это для Миколки. Но он молчит и утешается тем, что Карчик растет не по дням, а по часам и иногда, как бы дразня мать, вдруг поднимет трубой короткий хвостик и понесется кругом по полю, но сейчас же сам испугается, заржет звонко и протяжно и вернется к матери. И мать заржет, как будто захохочет от радости, и нет ничего слаще для Миколки, как видеть, что после ячменя и пшеницы отец засеял целую полудесятину овса. Уж выкормит и вырастит он себе коня!
Но тяжела земля, хоть и щедра и добра, как мать. Потрескались у Миколки под солнцем губы, поседели от пыли у отца борода и брови. До крови набились плечи у двух лошадей. Плохие хомуты. У Игреньки распухла и гноится спина под седлом, в котором ездит с утра до вечера и правит лошадьми Миколка. И нет времени залечить рану. На нее опять кладут потник и подседельник и опять давит и трет седло. Гнедой мерин не выносит подпруг седла, лягается. Он ходит первым в борозде, вожаком. Седлать Буланиху было бы жестоко.
И болью лошади страдает пахарь, а остановить пашню нельзя. Правду говорят: весенний день - год кормит.
Щедро сыплет пахарь в землю семена, но все теперь - от неба. Вот две недели нет дождя, чернота полос посерела. Суховеи поднимают ее пылью... Поглядывает пахарь на юго-запад - не покажется ли тучка. Как раз бы покропила всходы. Но в небе нет ни облачка... Ну, ничего. Бог не без милости. И пахарь ходит по свежевспаханной земле, щедро бросает семена - на волю Божию. А ветер разрастается, хватает на лету брошенную часть семян, уносит в сторону... Меняет направление - не приноровишься, как бросать зерно. Не будет ровности в посеве, там, где нет зерна - сорная трава задавит колосок, там, где густо бросилось - колосья будут мелкими, зерно осыплется до жатвы.
Богатырем духа и терпенья должен быть пахарь. Мудрецом опыта должен быть сеятель.
- О, Господи! Пошли дождя!
И неожиданно, на крыльях ветра, вырывается из-за горизонта туча. Но не дождь несет она, а бурю. Поднимает буря весь верхний, сухой слой земли и вместе с семенами расшвыривает на нераспаханные пустыри, склоны сопок, в долины речек, в пыль дорог.
А уже потом, когда натешится и унесется ввысь или провалится сквозь землю и затихнет, в тишине утра или на закате дня, покажутся из-за края земли долгожданные небесные корабли с парусами светло-серыми, иногда темными, среди которых, сперва беззвучно, а потом с чуть слышной воркотнею грома, зазмеятся молнии.
И пусть это будет дождь, иногда ливень, который смоет и унесет с грязью не пустившее еще ростка зерно; но все равно: это дождь, отрада земли. Сама жизнь!
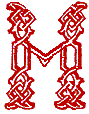 алолетство Егорки протекало перед концом двадцатого века. Разберемся в обстановке и вглядимся в два корня, ветки от которых, случайно ли или по предназначению, соединились и дали плод, сам по себе незначительный, но все же плод жизни - Егоркину жизнь.
алолетство Егорки протекало перед концом двадцатого века. Разберемся в обстановке и вглядимся в два корня, ветки от которых, случайно ли или по предназначению, соединились и дали плод, сам по себе незначительный, но все же плод жизни - Егоркину жизнь.