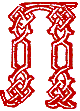 ихой был парень Опанас. Такой лихой, что нужно было только удивляться: как держался синий картуз на его стриженом затылке? Спереди у Опанаса вились кудри, а под вздернутым носом черным шнурочком упрямо торчали усики.
ихой был парень Опанас. Такой лихой, что нужно было только удивляться: как держался синий картуз на его стриженом затылке? Спереди у Опанаса вились кудри, а под вздернутым носом черным шнурочком упрямо торчали усики.
Георгий Гребенщиков
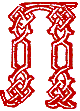 ихой был парень Опанас. Такой лихой, что нужно было только удивляться: как держался синий картуз на его стриженом затылке? Спереди у Опанаса вились кудри, а под вздернутым носом черным шнурочком упрямо торчали усики.
ихой был парень Опанас. Такой лихой, что нужно было только удивляться: как держался синий картуз на его стриженом затылке? Спереди у Опанаса вились кудри, а под вздернутым носом черным шнурочком упрямо торчали усики.
Рубаху он носил цвета пламени, пояс лаковый, сапоги с набором, а штаны из зеленого диагоналя - землемер подарил ему в память о совместных похождениях по ночам к девчатам. Только штаны с тощего землемера были узковаты Опанасу, и тетка Одарка вшила ему позади в широком месте два темно-коричневых клинышка. Вышло крепко и по благородному: видел Опанас у городских господ, любителей верховой езды, - точь-в-точь, такие же штаны.
Пришел из Полтавщины Опанас подростком. Увязался за дядей Митрохой и теткой Одаркою, оставил бабку помирать на родной стороне, оставил сестру, вышедшую замуж за седовласого дьячка, и “помандровал аж вон куда - в Тургайскую область...”
Ой, и натерпелся всякой горечи в дороге. Дядя Митроха гнал его с утра до вечера назад, домой. как увидит, что Опанас хлеб жует, так и гнать. Опанас отстанет на версту, а все-таки тянется за обозом. И тетка Одарка отстанет, будто по своему делу и украдкой сунет Опанасу шматок хлеба про запас.
Когда пришли в Сибирь и когда хлеба стало вдосталь, - Митроха уже не гнал племянника, а только заставлял его швыдчей работать. После, когда Опанас работал дяде за троих - Митроха бывало, не нахвалится и, пряча в больших прокуренных усах усмешку, подогревает племянника:
- А ну, сынку, еще... А ну, родной, понатягни!
Совсем уж было приголубил парня, может и женил бы, как родного, да умер. Остались Опанас с теткой Одаркой на чужой стороне одни...
Опанас-то горевал недолго. Горевала тетка. Опанасу сразу стало дивно:
Шли в “проклятую” Сибирь, а приехали опять в родные степи: и солнца яркого - море, и деревни такие же, с беленькими глинобитными избушками, а вокруг все плахты, капелюши, чеботы, усы и трубки. И речь родная, и песни знакомые, и девчата ласковые. Все, как дома, только все шире, раздольнее, сытее и, почему-то, новее. Избы новые, колодцы с журавлями новые, огороды - десятины, обведенные канавами. А в поле выедет Опанас - хочется Пеганку обязательно пустить во весь дух. Степь так и зовет во все четыре стороны.
Однажды Опанас в Петровки выехал на Пегаше коров искать под вечерок, - идут с поля девчата целой пестрой вереницей, на головах цветы, в подолах ягода клубника, ноги до колен видны; в косах ленты, в ушах сережки, на загорелых шеях янтари - впервые загляделся Опанас, впервые рот разинул, слушая, как дивчата спивают:
- Ой, пиду я до млына-а, до млына.
А у млыни калына-а, калына-а!..
И увидел Опанас Ярышку, дочку мужика Терентия. И раньше знал он Ярышку, а будто увидал впервые. Увидал и услышал ее голос, самый звонкий, самый певучий. Покосила она черную бровь на Опанаса, усмехнулась лукаво и продолжала песню:
- Такый, маты, мелны-к!
Такый, маты, добрый!..
И, уходя дальше, все девчата заплеснули сердце Опанаса песней, как водой холодной с колеса на мельнице:
- Такый, маты, хороший
Меле гречку без грошей!..
- От, дурни дивчата! - выругался Опанас и понесся в степь, топча цветы и травы на никогда еще не паханной, душистой равнине.
Несся Пегаш во весь дух, подбрасывал Опанаса на жирной спине, крякала в нем селезенка, а парень все его настегивал и бил босыми пятками в бока, и кричал по причине непонятной, дикой радости:
- И-э-эх-ти - ну у!..
Вот с этих самых пор и стал он думать о яркой, пламенной рубахе. Стал работать день и ночь, стал похаживать на вечеринки, на полянки к хороводам. Стал подсматривать, подслушивать Ярышку.
А как завел лаковые сапоги, да как надел зеленые штаны с коричневыми клиньями на заду, - пошел с гармонией прямо ко двору Ярышки. Там, по воскресениям, она всегда с подругами у огорода семечки шелушила, и затянул по-новому, по-чалдонски:
- Эй, моя милка-д на забори
С выражением во взори-и...
Кинул девке взгляд свирепый и косой и будто не особенно любопытный, прошел мимо и продолжил лихую песню:
- Эй, я у милки-д не в долгу,
Да полюбить ие могу-у!
Откуда и слова занозистые брал? - Сам себе дивился Опанас. Грудь выпячивал, картуз висел у него на затылке, как на гвозде, а кудри на висках ветерок пошевеливал, а смуглое лицо, не то от солнышка, не то от пламенной рубахи, горело яркой краской румянца.
Пройдет раз, пройдет два парень, а к девкам не подходит, аж досада взяла Ярышку. И вот на вечеринку она сама выбрала его “в соседи”, а как выбрала, Опанас сразу же увел ее в сторонку, обнял и начал ей нашептывать.
- Ой, Ярышка, и люблю ж, ей Богу!.. Так люблю, аж так люблю - сердце заньялось!..
А Ярышка ему ни слова, слушает и рада слушать хоть до утра.
- А ну, ты мыни хучь одно слово!.. А ну, скажи ж... Ей Богу - как увидел в перви раз - аж разумом сгинул... Бегу у степь, бегу и хохочу!
И вымолвила ему тогда Ярышка первое слово, такое робкое и такое радостное для Опанаса:
- Ни, ты пиддурышь мене!..
- Ей Богу, не пиддурю... Ей Богу оженюсь!..
И не прошло три месяца - он пиддурил-таки Ярышку... Пиддурил и чуть, было, не бросил. Но так уж она плакала, так убивалась. Пожалел - зимою оженился...
А следующим летом Опанаса взяли на войну...
Вышел из Опанаса новобранец бравый, а потом и солдат - ядреный, разбитной, веселый.
На перекличках громче всех отзывался и вместо “я”, кричит, как в барабан ударит: “е-о!..” И на песне голос его всех звонче. Другие поют иной раз грустно, а у него все на плясовой мотив выходят. Даже это:
- Я с родной землей простился,
Й-я простился навсегда!..
Во всей его фигуре, в словах, во взгляде, в выправке какая-то сквозила неудержная прыть... Как будто с тех самых пор, как увидал Ярышку и побежал на Пегаше по степи, - разбежался и сдержать не может своего бега.
Как будто с разбегу и на войну попал, и хотел как можно скорее с ней управиться, отслужить, перебежать через ее огонь и муки, и поскорее вернуться домой, в привольные Тургайские степи, к выбеленной хатке, в которой живет его Ярышка с маленьким малюткой Грицем. Ох, да и причепилась к его сердцу ласковая, черноокая Ярышка! И не думал никогда, что венец так накрепко его привяжет к молодой Ярышке.
Писал ей Опанас каждое воскресенье, когда стоял их полк в резерве, писал, пересыпая поцелуями немногие слова свои. Целовал ее и в белое лицо, и в губы, и в щеки румяные. Скажет два-три слова о себе, о том, что ночами редко спит, все думает о ней, о своей горлиночке, да опять целовать начнет заочно.
- “И прижимаю я тебе к серцю и умести с сынкою Грыцюней моим маленьким и целую я тебе нещетно раз, и еще прошу я тебе моя мылая жонка Ярыша Терентьевна, отпиши ты мне насчет хозяйству: отелилась ли Пестрянка наша и кого Бог дал?.. А Пегашка перестал хромать, али все-то шкандырляет?.. А Карюху отведи к дяде Онисиму, пусть огуляется с его Савраской. Бо гарный буде с его приплод. И на тым приплоди, как вернусь, покатаю я тебя моя люба и с сынкою моим Грыцюней. И еще раз и нещетно я тебе цилую моя мылая жонка Ярыша Терентьевна...”
И в этот раз писал Опанас Ярышке словно праздник справлял, все одно и то же, с маленькими изменениями. А то еще нарисует сверх письма свое сердце, истычет его мелкими точечками, выведет из него, как из горшка, неведомый цветочек и подпишет снизу:
“Ето наша из тобою жизть...”
Напишет письмо, отнесет к ротному писарю, а сам возьмет свою гармошку, с которой никогда не расставался, и начнет наигрывать и напевать песни, одну другой веселее и задорнее.
- Ах, скажет Гапко, встань раненько,
Приберись бо чупурненько -
Вона и слухаты не схоче,
Як сорока усе сокоче...
Поет смешную, а самому тоскливо. Поет про дурную жинку, а видит свою, хорошую, опрятную и ласковую Ярышку.
- Ай, на полудень стусакы
Насижае пидь бокы!..
Поет о стусаках и дулях, а чувствует, вспоминает свои ласки и поцелуи, ее крепкое пахучее и розовое тело. И под веселую песенку летит, летит через поля и леса, через горы и долы, далеко-далеко, к Ярышке...
И так он любит Сибирь и гордится своим полком сибирским, что когда услышит кацапское слово, долго дразнит и высмеивает. И горячо заступается за сибиряков:
- Хиба наша сибиряко скажет: “ваше балгородья, тибе ихно балгородья требуить!” Эх, москали-и!..
Выходило так, что Полтавщина и Сибирь для Опанаса - одна страна. Полтавщина - родной язык, обычаи, свиное сало, а Сибирь - Ярышка... И весь белый свет, солнце, небо, песни, все хорошее - это Ярышка... И то, что Ярышка есть, живехонька, что она его жена и пишет ему, хоть и не сама, но тоже ласково и с поцелуями, - окрашивало жизнь Опанаса в веселые краски. Он чувствовал ее слова, доподлинные, написанные под ее диктовку:
“Как еду на пашню, либо за сеном, либо хожу по огороду - и все мне чуется, што вот из-за угла ты выедишь и ухватишь мене и зачнешь цилувать... И забьется мое сердце, как та птичка в клетки... И зачну я тады плакать и усе хожу и дожидаю и плачу, не знаю от радости ли, от горя ли...”
Все свежие письма Опанас хоронил под подкладкою фуражки и перечитывал их, как только вырвется досужий час. Где-нибудь в укромном уголке остановится, поставит винтовку, снимет фуражку, достанет письмо, прочтет, улыбнется и так ходит, улыбающийся, веселый, пока не получит новое письмо.
Так Ярышка, как живая, провожала Опанаса на ученьях и в походах, на работах и по бесконечным закоулкам страдного солдатского житья. Понятно, уж чего греха таить, со дня на день Опанас надеялся услышать о конце войны, о замирении и о возвращении домой. Но время все тянулось, все ползло, как туча по поднебесью осенью: без начала и конца, серое, туманное, спрятанное от солнца и зорь.
Наконец, услышал Опанас о выступлении на позиции. Полк в несколько часов поднялся, загромыхал обозами, походным снаряжением и пошел.
Смотрит Опанас на товарищей: притихли, призадумались. Не шутка, ведь - на смерть идут! А Опанаса никакое лихо не берет. И сам он удивляется; нет у него страху, а надежда загорелась ярче. Теперь уж ясно - раз он, Опанас, пошел сражаться - значит все. А коли все, значит все будет сразу покончено с войной.
- Э, была, не была!.. Абы скорее!..
Опанас не рассуждал ни о чем; кроме привычных забот о своих несложных и беспокойных обязанностях и о Ярышке - он не думал ни о чем. Но о Ярышке больше всего. Теперь, пожалуй, думал только об одной Ярышке. Ни одной минуты не подумал, что умрет, и уж никак не мог представить, чтобы он, здоровый, сильный и веселый Опанас, остался без руки или без ноги... Но твердо знал, что драться будет “до издоха”... Он даже затаил в себе один секрет, как без ошибки повалит противника, и как повалит не одного, не двух, а человек пяток и всех в одну минуту... О, это он устроит, удивит товарищей!..
И тут-то вот он снова видел Ярышку и себя уже дома и представлял, как она будет рассматривать его крестик на груди, а он ей хохотом будет рассказывать, как он “их” пятерых один!.. Ха-ха!..
И весело шагал Опанас, равняясь и подтягивая ослабевшие подсумки.
Только вышло все не так, как думал Опанас. И позиции не такие, и сражение, и самая война - совсем не то, что на картинках врут. Не видал он за пять месяцев ни войны, ни сражений, хоть и отдежурил десять раз в окопах. Не война это, а скука. И тянется, дьявол, так, что весь азарт проходит. Что в окопах, что в резерве - одинаково. Скучно стало Онисиму.
Высчитал он по пальцам: двенадцать месяцев Ярышки не видел. Тут заскучаешь!..
Должно быть, заскучал и ротный, подпоручик Ковалев, совсем безусый, одногодок Опанасу. Нет-нет и пришлет денщика - гармошку на время взять у Опанаса. Приятно было Опанасу, что ротный у него одолжается. И когда в землянках стало сыро, а Опанасу приходилось уходить в окопы - он смело нес гармошку к ротному. Там суше и сохраннее.
А тут как-то вскоре после Рождества, когда землянки позасыпало снегом и когда настала еще более томительная скука на позициях, ротный позвал Опанаса с гармошкой и весело, совсем по-дружески сказал ему:
- А ну-ка, поиграй нам что-нибудь веселое!.. Да ты садись, садись!.. Сидя-то удобнее...
Опанас неловко подчинился приказанию, сел и, придерживая на коленях гармонику, растерянно улыбающимися глазами глядел на офицеров, тесно сидевших вокруг маленького самодельного стола, в низкой, скудно освещенной землянке. Все они курили, сидели в сизой туче дыма и молча щурились на Опанаса.
И Опанас, не долго думая, сдвинул на затылок вязанку-папаху, нажал на все лады и грянул высоким, лихим фальцетом:
- Эх, ножници за-ча-ка-лы,
Да мать з отцем запла-ка-лы,
Эй, плачут жинка, мать, отец -
Да нас погналы, як ове-ец!..
Все офицеры вдруг захохотали, зашумели, весело переглянулись...
- Здорово!..
- Зачакали!.. Ха-ха!..
- А ну-ка, жарь дальше...
Подпоручик был доволен, что Опанас сразу взял необходимый тон и по-настоящему развеселил батальонного, который хохотал всех громче и щурил на солдата загорелое, давно небритое лицо с узенькими глазками и огромными усищами.
- Ты холост? - спросил у музыканта батальонный.
- Никак нет!.. - вскочив с чурки, громко отозвался Опанас.
- Значит, женат?
- Так точно! - еще громче крикнул он.
Опанас смотрел на офицеров и смеялся весело и громко.
Потом он снова грянул на гармонике и начал подпевать родную, полтавскую:
- Ой, Ярыно, подборысь,
Туды сюды повернысь!
И вдруг лицо капитана расплылось в блаженную улыбку, а глаза совсем исчезли в щелках, он задергал плечом, поглядел на товарищей и загоготал густым басом:
- Гок!.. Гок!.. Гок!.. Гок!..
А Опанасу это придало больше лихости. Он взвизгнул и залился сильнее:
- У Ярыны полоса - жито не пожато,
А Ярына з козаком весела богато...
- Ой, не могу!.. - закричал батальонный и по-украински прибавил: - Ей бо - танцюваты хочу!..
Все зашевелились, отодвинули столик и походную кровать, расчистили ветки на земляном полу, смеялись громко и шумели. А Опанас все веселее подзадоривал:
- Ой, мамо, мамо, отпусти - мини ни до жита,
Без козака, без лыхого я не схочу житы!..
Вот тут-то, в самый разгар веселья, когда уставшие плясать и хохотать офицеры оправлялись, вытирали пот и слезы давно просившегося из них веселья, - капитан подошел к Опанасу и спросил:
- Жинку-то свою давно не видел?
- Двадцать месяцев, ваше скородие!..
- А хочешь повидаться?..
И Опанас вдруг поперхнулся радостью, не веря ей, но сразу, как от яркого луча, сощурил черные глаза перед ласковым и многообещающим взглядом батальонного.
- Назначьте его в следующую очередь! - сказал капитан ротному. - Пусть он к жинке своей съездит...
Остальное все у Опанаса колесом пошло, и сам он колесом покатился - и думы его, и дела, и даже дни...
И вот он с отпускным билетом, с котомкой и папахой на затылке, пешком, темной ночью, не дожидаясь утра, скорым маршем идет с позиций, в толпе товарищей на станцию.
До рассвета по морозной ночи прошагали верст двадцать пять, смотрят: нагоняет их машина грузовая, грязно-серая, гремучая, с обернутыми железными цепями широкими колесами...
Один по одному цепляются за зад, подсаживают друг друга и на ходу вскакивают. Шофер - свой брат, солдат, кричит, ругается, но не высаживает, едет дальше, заставляя машину то и дело хрипло орать на обозы и окатывать их грязной, полумерзлой пылью.
Опанас смотрит на пегие склоны холмов, на белую дорогу, на почерневшие на снежной белизне леса, на дальние полуразрушенные стены какого-то местечка, на небо, голубое и высокое, похожее на то, что распростерлось там, далеко, над Тургайской областью, и никак еще не верит, что поехал домой, в тихую, с белыми хатками, деревню, к Пегашке, к маленькому Грицю... К Ярышке...
Долго ехал Опанас домой, ой, как долго! Лишь на двенадцатые сутки, пешком, поздно ночью, прибрел он в свою деревню. И не пошел домой, а зашел и постучался к тетке Одарке, хоть своя хата и была напротив, через улицу.
Тетка сразу не открыла дверь и долго думала и вспоминала, кто такой зовет ее теткой Одаркой.
- Да то ж я, Опанас! - негромко, воровски отозвался Опанас.
- Опона-ас! - громко закричала Одарка, и в ту же минуту следом за нею из избы, как эхо донеслось, как музыка, как песня:
- Опона-ас!..
Опанас стоял на холоде перед закрытой дверью, ждал, пока бабы одеваются, и слышал, что там, в избе, еще кто-то пищит, но недовольно и испуганно.
- И Грицко тут!.. - сказал Опанас и широко улыбался в темноте.
- Опона-ас!.. - вдруг услыхал он за дверью знакомый, слегка задохнувшийся от торопливости голос и тут же почуял на шее горячие, голые руки Ярышки и ее шепот, совсем бессильный и упавший - Опанас, мой, любимый мой!..
- От дурна!.. Чего же плакать!?. - говорил ей Опанас, а сам тоже заплакал и гладил по спине Ярышку, теплую, пахучую и гладкую как шелк.
Тетка Одарка вздула огонь и утешала Грицая:
- Чего ж ты злякавсь - то ж тату!.. Твий тату!..
Опанас щурил черные, блестящие глаза на сына и не глядел на Ярышку - почему-то застыдился сразу ее теплой, сладкой близости и потом спрашивал у ней:
- А чего ж ты не у своей хати?..
И из сбивчивых, коротких слов поймал самое главное, самое нужное, самое то, о чем и там далеко, робко и тайно думал много раз:
- Шоб не було брехни какой: або я у тетки, або тетка у мене начуить...
И совсем, как пьяный, протянул Опанас, глядя влажными глазами на Гриця и прижимая к себе Ярышку:
- О-о, сы-ынку мой!.. Сы-ынку!.. Чого ж ты, дурный, плачешь?.. Мамку я твою взяв!.. Не загублю!.. Не замаю!..
И позабыл, что отпуску для дома осталось только дня четыре, что там опять разлука, дальняя, тяжелая дорога, грязные, холодные, бессонные походы, а за ними глинистые серые окопы, а может быть, и смерть, или еще хуже: плен далекий у неведомого ворога.
Он мял прильнувшую к нему в тихой покорности Ярышку, упивался теплотой и запахом ее тела и, рассказывая что-то вовсе не смешное, хохотал, хмельной от счастья.