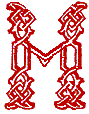 ать Якуни, Якова Ивановича Бочкова, всю жизнь свою не прожила, а проплясала.
ать Якуни, Якова Ивановича Бочкова, всю жизнь свою не прожила, а проплясала.Г. Д. Гребенщиков
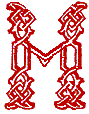 ать Якуни, Якова Ивановича Бочкова, всю жизнь свою не прожила, а проплясала.
ать Якуни, Якова Ивановича Бочкова, всю жизнь свою не прожила, а проплясала.
Так она и сама о себе говорила:
- Другие на моем-то месте плачут, а я приплясываю. Из обуток-то онучи вывалились, заткнешь их, да бегом по клящему морозу из конца в конец и бегаешь. Богатых-то не меньше нас, горемычушек: у тех полы помоешь, у тех побелишь. Тут некогда вышагивать, тут рысью, иноходью, да с прискочкой надо...
Работала - плясала на чужой работе Марковна всю жизнь и никогда никто не слышал жалобы от нее: ни на нужду, ни на обиды, ни на что.
С утра замкнет Якуню в непокрытой хижине, оставит ломоточик хлебца да разбитое окно заткнет подушкой, чтобы сын до ветру мог выскакивать, и бегает с утра до вечера, проворит пропитание.
Уж как нетерпеливо по вечерам ожидал ее Якуня.
Боже мой! Радости-то сколько после одинокого, большого дня: то белых калачей, то сахарку, то маслица, а то и пряник принесет ему Марковна... И все хвалится Якуне: все ей верят, в хоромины пускают, не раз пятишницы подбрасывали: пытали честь ее - никогда она греха на душу не взяла.
- За иголку не запнусь, милый мой, не токмо што.
Радовался Якуня, глядя на мать, а Марковна радовалась, глядя на сына. Маленький, тщедушный, заморышек, а все-таки растет, домовничает, не цепляется за материн хвост. А главное - не хворает никогда и никогда не плачет. Не слыхала Марковна, чтобы Якуня хоть нарочно плакал.
- Так уж - дал Бог сиротине разум, - хвалится она соседкам.
Вырос Яков, мать состарилась, а все еще трясет костями - не привыкла даром хлеб есть. Как и в молодые годы, в субботу нет-нет да и притащит в дом полпудика муки на закортышках.
Вырос сын - Марковна свела его к купцу Верховину, простому, но резонному и неспесивому. Свела и поклонилась земно:
- На тебя, Михал Василич, вся надежда. Возле тебя не пропадет, прокормится.
И начала искать, проворить Якову невесту.
Нашла такую же сиротку, по чужим людям моталась: ягодка такая, маленькая, розовенькая, кругленькая, как волчок, только чуть-чуть хроменькая. Кружится, - только юбка развевается. Больно по душе пришлась она и Якову, и Марковне.
Женила сына Марковна и умерла.
В первый раз в жизни заплакал Яков. Потерял он все пути-дороги, и только осталось ему в наследство - материн завет до смертного одра:
- Сыночек мой, Якунечка! Не зарься на богачество, не квели людей. Жила я - по полпудика муки имела в запасе и тебя благословляю: больше пуда не запасать.
С этим и пошел на свет Якуня.
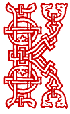 упец Верховин кажется Якуне богатеем. Труженик и раностав. Все хозяйство держит шибко и прочно. И все растет у него с каждым годом, спорится.
упец Верховин кажется Якуне богатеем. Труженик и раностав. Все хозяйство держит шибко и прочно. И все растет у него с каждым годом, спорится.
У Якуни всей и прибыли, что бороденка отросла, и та клокастая, реденькая, с овечий хвост.
У Верховина детей полна ограда, у Якуни, - не дал Бог ни одного.
- Эх, Якуня-Ваня! - громко скажет ему Верховин и хлопнет по плечу так, что Яков зашатается. - Ну, показывай товар!
Якуня суетливо бросится к жене. Всегда уж они вместе ходили в лавку.
В фартуке Фокеевны, под кацавейкою, тяжелый сверток. Якуня кинется к жене, потрет ладони и наденет шапку на ухо.
- Давай, показывай! - поспешно и серьезно скажет он жене и прочно обопрется оберучь на прилавок.
- Семь тыщь триста пятьдесят! - торжественно и громко возгласит Якуня, и глаза его заискрятся восторгом, когда Фокеевна развернет аккуратно сложенную по сортам щетину.
- Он два раза считал, да я три раза, - подтверждает Фокеевна и бережно разложит на прилавке тяжелые пучки по тысяче в каждом.
- Ах, Якуня-Ваня! Да к чему же ты считал-то? Ведь, все равно на вес беру.
Верховин сам любуется щетиною: действительно, подобрана как серебро - блестит, переливается рыбьей чешуей.
- Щетинка хороша! Не жаль тебе, Якуня, и лишнюю полтину заплатить...
И Яков рад-радешинек. Яков счастлив и Фокеевна счастлива: вместе покупали, собирали, подбирали, пересчитывали и, вот, - угодили человеку.
Яков от радости делается разговорчивей:
- Боже мой! Да я для вас, Михаил Василич, по всей чести, от души. Мне што! Мне мать перед смертью заказывала: не имей, Якуня, муки больше пуда и не хочу переступать материн закон... И вот супругу дал мне Бог такую же нежадную. Мне што? Ты думаешь, Михаил Васильевич, мне завидно на тебя глядеть? Нисколько не завидно. У тебя семья, у тебя друзья-приятели, кругом почет, тебе и надо больше. А мне што?
И долго Яков топчется возле прилавка, радуется чему-то, смеётся и говорит, и говорит.
Когда же купец подходит к кассе, чтобы выдать деньги за щетину, Яков независимо взмахнет рукой и важно так промолвит:
- Михал Василич, ты не трудись. Нужды в деньгах у меня нет. А только вот што: ты шапку одолжи мне да ей вот шалочку... - и оживившись, передернувши плечами, он снова пляшет у прилавка. - На ярмарку мы с ней собираемся - чё лошадь-то зря кормить!.. Как-никак торговлишкой живем - надо ехать. А поедем - надо погодней оболокчись... А щетинки мы тебе опять притащим... Уж это, будь в надежде.
Верховин выбирает шапку, Якуня примеряет, подбоченившись пройдется в обнове перед женой, повернется: хорошо ли?
- Ладно... Дай старую-то в фартук заверну...
Так в новой шапке и хлопочет Яков в лавке.
- Пимишки, тоже вот худые... Надо бы купить получше...
- Бери, бери! - советует Верховин.
Но Якунье делается стыдно перед Фокеевной: себе возьму, а у нее в заплатах.
- Нет, Михал Василич, ты бабе вот сперва...
- Да ты себе-то наперво! - кричит ему Фокеевна.
Но тут уж Якова не сломишь.
- Тебе на возу сидеть, а я ведь бегать буду... И возле лошади могу пешком... А ты в новых-то пимах сиди-посиживай...
И Яков радостно захлебывается смехом, предвидя, как это Фокеевна будет сидеть на возу с товарами...
- Без заботы, без печали - в пимах-то.
Выбрали пимы Фокеевне. Тут же надела, просияла: хорошо ноге, даже как будто и прихрамывать не стала.
- Ну, теперь себе бери, - говорит она.
Якуня смотрит на Верховина:
- Посчитай-ка, хватит ли там?..
Верховин сосчитал уже.
Немножко не хватает... Да бери, сочтемся. Я тебе поверю...
- Нет уж. Я спать не буду, когда долг на шее. Нет уж, лучше пусть за тобой останутся. А я пешком могу... Они ведь еще добрые.
Он смотрит на пимы и так, и этак.
- Это ничего... Это починим, ну, две заплаточки пришью... Вот только опояску мне бы надо... Знаешь - на ярмарке для виду - красную, либо зеленую, чтобы приметно было...
И выбирает желтую, какой ни у кого нет.
- Вот и примечай! - наставляет он Фокеевну. - Народишку там много будет, а ты и примечай: как в желтой опояске, стало быть, это я и есть. Хе-хе, не потеряешь уж.
За купцом остались два рубля с копейками... Верховин достает из кассы. Яков протестует:
- Што ты? Да я разве тебе не верю. Пусть лежат.
- Да на расход возьми. Понадобятся ведь.
- Вот - на! - разводит Якуня руками. - Да я, какой буду купец, ежели не расторгуюсь! А у тебя оне сохраннее... Мало ли какое не случится. А может я себе в убыток там... Приеду, а у меня тут денежки...
И Яков потихонечку толкает впереди себя Фокеевну.
 а ярмарке Якуню не узнать...
а ярмарке Якуню не узнать...
Он там уже не пляшет, а летает скоморохом. Фокеевна никак не может уследить за желтой опояской: то там мелькнет, то здесь покажется, то исчезнет вовсе.
Якуня то несет на плече двух зайцев, то в руках его мелькает шкура горностая, то появится узда, то пара рукавиц. Глядит Фокеевна, - Якуня бежит к возу с пучком щетины, с калачом для нее, с покупателем бок о бок.
- Ну-ка, доставай, жена, кажи подсолнухи. Вот, милый человек, гляди: зерно к зерну, соринки нет. Уж тут без надувательства...
Покупатель смотрит, нравятся ему подсолнушки, а цену не дает. Якуня крепок на слово - не уступает. Торг не состоялся.
- Ну, закрывай жена, - бросает Яков бабе и как ни гонится за ним покупатель, он не остановится, бежит в толпу, меняет рукавицы на хорька - придачи гривенник, и то барыш. А подсолнухи у него купят. Такие-то, да не купить! Другое дело, если бы баба заколела. А то пимы у нее новые - пусть посидит у воза, на народе веселее...
На всю ярмарку звенит Якуня:
- Эй, тетки-молодки, лебедки, красотки, - наговаривает он. - Купите-ка мешок за ремешок, гороху золотник, хорька на воротни-ик!
Хлопочет, бегает весь день Якуня, а вечером на облучке саней и в шапке на ухо едет на постоялый двор.
Подсолнухи еще целы, а в фартуке у бабы есть уже щетина и в кармане у Якуни барыши.
- Барышишки не велики, - говорит он весело с женой, - а все на прикорм да за постояло хватит...
А завтра надобно встать пораньше, да щетинки поискать... Выгодное дело.
Ну и барышишки, и щетинёшка у Якуни - только случай для хлопот. Не может он без них.
На постоялом - теснота, во дворе - негде повернуть кошевку. Якуня тут же, несмотря на темень, разузнает, где чья лошадь, где чья кошева, дозволится, переставить, сдвинет, потеснить, и вот хозяин говорит ему:
- Спасибо, добрый человек. Теперь тут у меня еще штук пять подвод уставится...
Якуня рад-радешинек. Якуня утром чуть свет встанет, подметет, почистит во дворе, - хозяин выйдет:
- Да, не трудись ты, Бога ради. Экой, хлопотун.
Якуня усмехается, метет, полы зипуна подогнуты за опояску.
- Не потружусь, и завтрак в горло не пойдет, - бойко отвечает он хозяину.
Зато хозяин при расчете говорит ему:
- За постой-то не возьму с тебя. Заплатишь за харчи и ладно... Да на передки заезжай. Якуня рад. Не потому, что выгадал полтинник, а потому, что человеку угодить, человек о нем плохо не думает; как богатого зовет еще на предки...
Бойко, весело торгует Яков, все его уже знают, все верят ему - этот не обманет... Его обмануть не трудно, и находятся такие, сколько угодно. Глупеньким его считают. А Якуня все-таки и умным, и богатым смотрится. На ярмарке он надевает новые пимы и красный шарф - совсем добро...
И барышей-то - всего трешница в кармане, а все-таки не лежал без дела дома: и сами с бабой сыты и лошадь прокормили.
- Э-эх ты, милая-а-а... - Якуня поднимает бич, но не бьет лошадку, а только крутит им над новой шапкой и весело несется по сугробистой дороге к дому.
Фокеевна сидит на дне кошевки, прячет нос от мороза под рядно. Смех ее веселый, беспричинный разбирает:
- Молодец, Якунюшка. С таким не пропадешь...
 Всю жизнь свою проехал бы Якуня, как по ярмарке, с припляскою, с веселой прибауткою.
Всю жизнь свою проехал бы Якуня, как по ярмарке, с припляскою, с веселой прибауткою.
Да Лихо ходит без дорог, без удержу, слепое. Другой раз глянет на Якуню круглым, как у кошки, глазом, погрозит ему из темноты и скроется. Как будто бы Якуня и весел, и беззаботен, а все-таки в душе скребется кошка.
- Дитенка не дал Бог... Наказал за что-то. Скучно без дитенка. Ни к чему вся жизнь выходит.
Посвистывает он на лошадь, помахивает бичиком, а сам все шарит думками в душе своей, отыскивает грех: за что-нибудь да наказал же его Бог?
Закуржавела лошадь, из рыжей стала белая, лохматая, в звонкой бахроме из мелких льдинок на хвосте и гриве. Жаль ему ее ударить. И так, сердечная, едва плетется, дорога дальняя, а путь тяжелый. Мороз так и приклеивает сани к снегу.
Красная заря за бело-синим лесом потухает. Над неоглядными полями ночь спускается. Морозко ходит молча и сутулясь по земле. Изредка постукивает костылем о толстые лесины, как будто клады ищет: не звякнет ли под той, или под этой.
Все ближе лес, все гуще сумрак.
Дорожка побежала между темными стенами елей, поля остались позади. С них поднялся белый, тупорогий полумесяц и пошел во след за скрывшейся зарею. Все выше поднимается, ревниво вглядывается вперед, где под кумачовым одеялом заночевало солнце.
Якуня для развлечения крякает, соскакивает с кошевы, разминает ноги, хлопает проворно рукавицами, склоняется к Фокеевне:
- Сидишь?
Сидит Фокеевна, тепло ей, только дремлется, и в дреме тоже думки беспокоят:
- Выкормила бы, взлелеяла не хуже прочих...Прижала бы к сердечушку, к груди, такое тепленькое, малое...
У обоих на душе одни и те же думки тайные...
- “Парнишка бы... Небось, в меня бы уродился...” - Якуня еще громче крякает, приплясывает возле кошевы...
Фокеевна в дремоте руки прижимает к девической, крутой груди:
- “Девчоночку бы... Куколку живую...”
Поют полозья по снегу, словно песню колыбельную выводят... То радостную, то печальную. Отходят в сторону куда-то далеко все думки... Как малые девчурки поразбежались по лесу, играючи.
И в их дремоте кажется Фокеевне, что всех ближе одна осталась, самая родная. Осталась и зовет кого-то - жалобно так, со слезами.
Якуня озирается по сторонам. Из-под пышных елок смотрят на него лесные страхи...
- Ишь, где-то, надо быть волчишко воет... - прислушиваясь, соображает он и вскакивает на облучок, проворнее крутит над лошадью бичом.
Скорее понеслась кошевка. Печальней и звончей запели полозья.
Фокеевне уж так и кажется, что девочка кричит, зовет не дозовется:
- Ма-а-ма-а...
Якуня вдруг остановил лошадь.
- Фокеевна. Ты слышишь?
Фокеевна вытягивается из-под кошмы. По телу у нее озноб пошел. Она не может рассудить: спит она или проснулась...
- Я думал волк, а это... Кто же?
Якуня не может с места съехать, так с поднятым бичом и слушает. И даже лошадь навострила уши, вглядывается вперед.
Фокеевна осипшим голосом едва промолвила:
- Поди, поблазнило...
Но где-то уже близко, явственно пронеслось по лесу:
- Ма-а-а...
Якуня приклонился к Фокеевне, признался:
- Поди, от дум это... Я все о детках думал.
Фокеевна приподнялась в испуге, схватила Якова за опояску и затряслась.
- Я тоже думала...
- Ну, вот! - решает вдруг Якуня и, не снимая шапки, поспешно крестится с бичом в руке... Потом стегает им лошадь и кричит:
- Ну-ка-а!..
Но вот, совсем уже близко, как будто кто-то бежит навстречу, несется по лесу:
- Ма-а-ма-а...
Якуня изо всех сил стегает бичиком по лошади. Она несется по дороге скоком. Неслась, неслась, метнулась в сторону, - едва не опрокинула кошевку... А перед Фокеевной и Яковом, протянув им ручки, в белой шубе, в белой шапочке, стоит возле дороги на снегу девочка и зовет все тем же тонким и печальным голосом.
Якуня оборачиваясь увидел, как погналась она за ними, задрожал от страха и шепнул суеверно:
- Ишь, в белую малютку обернулся... О, Господи прости - помилуй...
И все сильнее бил бичом по лошади.
- Врешь, окаянный, не догонишь!.. - думал он, все дальше убегая от русалочного голоса.
 е проходит Лихо и мимо палат каменных. Нет ему нигде запрету. Вломится, наозорует, выжмет у людей все слезы и уйдет слепое, повсегда голодное.
е проходит Лихо и мимо палат каменных. Нет ему нигде запрету. Вломится, наозорует, выжмет у людей все слезы и уйдет слепое, повсегда голодное.
Не ждал его к себе купец Верховин.
Трудился, торговал, с людьми братался, хлебосольством щедровал. Семью большую растил - целый табунок детишек.
Как ласковый пастух с утра до вечера, одно знай, всех пасет, заботится: одеты ли, сыты ли. Умны ли вырастут... Всех надо приодеть и приласкать, побаловать.
Сам вырос в людях за прилавком, на щелчках, на зуботычинах. Не хочется, чтобы дети испытали то же.
И радовался он, что дети счастливы, в довольствии, большие учатся, а малые играют, веселят отцовские глаза...
Какие в малом городе зимой особые забавы? Катанье с гор, катанье на коньках, катанье на тройке... Только и всего... За то уж снежная гора у Верховина высокая, вся в елках. Каток большой и гладкий с фонарями, а тройка - разлихая в бубенцах, в богатой сбруе. Кошева - ковчег раскрашенный.
Вот усадил Верховин в кошевку всех детей на туркестанские ковры, вокруг дородной молодой служанки Матрены и строго говорит Ивану, кучеру-бородачу:
- Ну, ты смотри - коренника не горячи. Ступай, - и ласково, довольно, провожает взглядом шумный хоровод детей на белоснежную околицу, за город.
Сердит, да правилен купец Верховин. Иван давно у него служит, знает. И весело служить такому, не обидно. Все ребятишки при Иване родились. Почти для всех за акушерками, за батюшками ездил.
- Ишь, пчелы, разгуделись как...
Весело Ивану править лошадьми - хорошие, ретивые... Любо прокатиться на таких...
- Иван, шибчей!.. Иван, карьером...
- Нельзя, папаша не велит. - А у самого вожжи так и натягиваются, как струны.
- В лес, Иван... По лесу... По лесной дороге!
- Ах, галчата... Ну, ладно... Карий!..
Коренник приподнял голову, встряхнул серебряными шеркунцами. Пристяжки круче изогнули шеи, веселыми глазами покосились на Ивана...
- Растабарива-а-ай!..
Карий еще выше поднял голову, достал гривой дугу и бросил в голову Ивану полное копыто снегу...
Ниночка подпрыгнула в коленях у Матрены, весело захлопала голубенькими рукавичками. Радостно ей шибко ехать. Сергей, большак Верховина, встал на ноги, поймал за плечо Ивана, закрыл лицо от снежных комьев.
- Шибчей, Иван... Шибчей!..
Вытягиваются пристяжки, достают копытами до передка, и кошева выстукивает:
- Так. Так. Так...
С визгом, с радостью, со смехом мчатся дети по лесу, все пятеро за Матрену держатся. А Матрена крепче всех держит Ниночку, смеется, но дрожит и голосом ядреным покрывает шумное веселье бешеного бега.
- Потише ты, Иван... Потише!..
- Врешь, девка!.. Врешь, Матренушка... - отвечает ей Иван и чувствует, что Карий закусил удила... Вышел из повиновения...
И Иван хотел бы выйти из повиновения у Матрены: прищемила она Иваново сердце, не дает ему воли.
- Врешь, милая-а!.. - кричит Иван, и уже кажется ему, что не во всю прыть мчатся лошади. - Растабаривай ты, Карий!..
- Взбесился ты? Сдурел!.. - и голос у Матрены обрывается...
Вздурел Иван... Взбесился коренник... Взбесилась тройка...
... И вот пришел Якуня в дом Верховина, принес щетину новую - увидел: в будни лавка заперта. Вошел в ограду - в ограде три креста: большой да два маленьких.
Прислушался к толпе, собравшейся на похороны... И ушам своим не поверил:
- Эдакие львы взбесились. Всю кошеву в щепы разбили... Тут чего же...
- Маленькую-то спасла Матрена: выбрала помягче место да в снег ее и выбросила...
- А сама-то, ишь, сердечная... Всю голову ей... На лесине мозг остался, быдто...
- А Иван?
- Иван в больнице... Трое там лежат... Едва живые... Сергей один не изувечился...
Якуня через силу разжимает челюсти, спрашивает не своим голосом:
- А меньшенькая-то жива? - а сам скосился на маленькие крестики и не стал ждать ответа...
Понял все Якуня. Не смел взглянуть в глаза Верховина, без слез ходившего медленно и молчаливо от креста к кресту...
Поняла даже Фокеевна и по бабьей простоте своей шептала через слезы:
- Счастье это наше было... По следам гнались... Спасли бы, дак осеребрил бы нас купец-то...
Якуня дергал за рукава Фокеевну и выжимал сквозь стиснутые судорогой зубы:
- Молчи ты, Бога ради... Молчи!..
А сам в себе носил кошачьи когти и темную, без дна яму.
- “Андела от окаянного не отличил... Какой я человек есть?..”
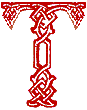 ак и пошел Якуня к четвертому десятку лет с чужой печалью, как с темным грехом на душе. Мучила его тяжелая ошибка:
ак и пошел Якуня к четвертому десятку лет с чужой печалью, как с темным грехом на душе. Мучила его тяжелая ошибка:
- “Андела от окаянного не отличил...”
И оттого, что купец Верховин с горя в одну зиму белым сделался, Якуня все сокровища души своей, весь труд, все чувства - отдал Верховину.
А Верховин устал работать, перестал стараться. Не для кого стало. Один здоровый сын остался. И тот в ученье, в большой город уехал. Падать стало его дело.
- Завидую я тебе, Яков... Завидую, Якуня-Ваня, - часто говорил купец, - живешь ты без заботы, без печали...
Правильно, Михал Василич! - подхватывал Якуня весело, точно хотел развеселить Верховина. - Мне что? Лишь бы Фокеевну не заморить, - и, помолчав, прибавлял:
- Только вот ребятишек не дал Бог... Обидно...
Михаил Василич вдруг мрачнел, отводил от Якова глаза и сурово говорил:
- И хорошо, что нет их...
Яков чуял, что разбередил сердце Верховина и пытался утешить его:
- Умнецкий парень у тебя - этот Сергей растет... Говорить начнет, - заслушаешься... И когда он все узнал?
Но и здесь Якуня бередил верховинское сердце. Вбивал в него ту острую занозу, которая уже давно воткнулась в его душу.
- Умные-то, брат Яков, нынче в тюрьме сидят. Слыхал ты это?
И Якуню мучили туманные сомнения, непрерывно и безжалостно скреблась в нем кошка.
Так вот шли бок о бок хлопотливый Яков и задумчивый Верховин, и чем дальше - тем сильней Якуня чуял, что нет у него, Якова, роднее и дороже человека, которому он так горячо хотел бы угождать.
Но как ни угождал Якуня Верховину, как ни шутил, ни веселил его, - к Верховину ломилось Лихо во все двери. Говорят же старики:
- “Ты от беды, а беда передом”.
Прослыл Верховин за политика. Косились на него управа и исправник... недолюбливал и отец протоиерей...
А тут как на зло-горе выпала бунтарская пора...
Вздыбилась Русь - вышла мутная река из берегов, снялись и поплыли по ней леса и буреломины, навоз и гадость всякая.
Начались погромы...
Как раз в ту пору и пошел к Верховину Якуня, понес щетину.
Было это осенью. По улицам лежала пегими пластами застывшая грязь, и Якуня не велел идти с собой Фокеевне - сапоги у нее новые, - не стоило их пачкать.
Шел с дальних загородных улиц, где избы маленькие, с крышами, как сплющенные картузы.
Шел и удивлялся: что за праздник в городе? - Все, как в церковь, валят на базар... Что за ярмарка? - Все с базара обновы тащат...
Дрогнуло у Якуни сердце. Знал он про худые вести. Была по городу “проверка всех жидов и всех политиков”, и в голове Якуни само собою поселилась догадка, что купца Верховина жидом считают, потому что он политик... А что Верховин политик - это для Якуни ясно потому, что не похож Верховин на других купцов, и все купцы на него зубы точат.
Заспешил Якуня на базар. Сердце говорило “не ходи”, а ноги не послушались - бежали сами, все быстрее да быстрее.
А по базару во всю прыть понесли прямо в дом Верховина по проторенной за много лет дорожке.
Бежал Якуня - слышал шум вокруг, видел множество людей, куда-то торопившихся, что-то кричавших, но ничего не понимал, одно твердил:
- Эка, началось-то што... Эка, забурлило-то.
Прибежал, а у ворот Верховина - толпа толпой, азартная, гудущая, как рой осиный. Так табуном и ломятся в ворота.
Якуня, как бежал, так запыхавшимся осипшим голосом и заревел:
- Поверьте совести!..
Прорвался голос... Он заплясал в толпе, засмеялся, засипел того сильнее:
- Поверьте совести: не жид Михал Василич - и бух всем в ноги. - Ребятушки!.. Я двадцать лет с ним дело делаю... Поверьте совести...
Не слышала, не видела толпа Якуню.
Якуня скоморохом обежал весь дом. Весь дом пустой, не запертый, на кухне самовар кипит... В хоромах на столе горячий суп в тарелках, а во дворе никого...
Якуня затворяет двери на крюки. В испуге торопливо крестится в передний угол на иконы...
Но ломится толпа, волною черною вливается в хоромы, гудят под сапожищами полы, трещат столы и стулья... Звенит посуда, визгливо стонет старая фисгармония - любимая хозяйская утеха.
Якуня носится из угла в угол, никем не замечаемый, не слышимый, кричит сквозь слезы:
- Что же это, господа честные?.. Пошто же озорство-то это?.. Берите лучше, не ломайте... - и отнимал посуду, отнимал товары, толкал грабителей, кричал:
- Поверьте слову! Поверьте...
Не слушали, о чем кричал Якуня. Но красные невидящие лица устремили на него со всех сторон десятки выпученных глаз, вселили смертный страх в Якуню... Услышали, но не поверили...
Черным ураганом пронеслось людское зло в усадьбе Верховина, опустошило все, сломало, распахнуло двери... И ушло...
Вошел холод, внес с собою пустоту, такую же холодную, как сам.
А в каменном низу, в незапертой, с поваленными полками лавке, на самой середине пола лежал Якуня. За пазухой у него была хорошо подобранная, рассортированная щетина, а на разбитую голову был одет кем-то круглый и белый картонный футляр из-под картуза. А на футляре крупными печатными словами значилось: “Торговля М. Верховина”.
Так полиция назавтра и в протокол внесла...