Георгий Гребенщиков
ПОЛЫНЬ-ТРАВА
I
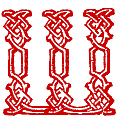 ирока Тарабинская степь. Ни лесу нет на ней, ни реки хорошей. Равнина из конца в конец, неоглядная на все четыре стороны. Небо кажется здесь плоским, низким и почти всегда тускловатым, а когда ползут по небу тучи, то степь и вовсе нагоняет скуку, как пустыня.
ирока Тарабинская степь. Ни лесу нет на ней, ни реки хорошей. Равнина из конца в конец, неоглядная на все четыре стороны. Небо кажется здесь плоским, низким и почти всегда тускловатым, а когда ползут по небу тучи, то степь и вовсе нагоняет скуку, как пустыня.
Даже солнце мало радует, когда куда-то разбредутся тучи: слишком оно ярко освещает скучную равнину, и на какую колокольню не взберись, не увидать ничего отрадного: ни речки синей, ни зеленого холма, ни кучерявого лесочка. Только кое-где маячат беленькие церковки, как заблудившиеся белицы-богомолки, да возле серых, сплющенных нуждою деревенек чернеют остроконечные пирамиды из кизяков-дров из навоза.
Как только кончится пахота - весь деревенский люд сгребает в кучки накопившийся за зиму навоз, поливает его водою и топчет лошадьми и собственными ногами, а потом кладет лопатами в станки и стряпает поленья-кирпичи. Зимою возле них тепло и “сладок дым отечества”...
После отпашки на земле цветы цветут, травы и молодые всходы зеленеют, иволги и трясогузки распевают, а по деревням молодежь в навозе пачкается до самого сенокоса.
Топчут парни навоз, а девки мастерят из него кизяки, и те и другие крикливо, но без всякой страсти, перекликаются частушками:
- “В Тарабе - да парни босы...” - поют девки, а парни им отвечают: “Девки любят папиросы...”
- “Парни - бравы - босяки...”
- “А девки - робят кизяки-и...”
Велика степь Тарабинская, разбрелись по ней деревни, как стадо без пастуха - кто куда, и земли на Тарабае так много, что мужики отвыкли любить землю, разучились хорошо ее распахивать и почти каждый год сеют на новой, а старую запускают и от этого на ней все больше да больше растут бурьян, колючий молочай и горькая трава-полынь.
Уж с Петрова дня в деревне Неслыхаевке только два запаха: навозом да полынью, а к Первому Спасу полынная пыль носится по воздуху как дым. Осенью же буйные ветры развевают, рассеивают ее по полям, по дорогам и по околицам. Год от году полынь растет все шире, все живучее и душит целину, вытесняет с нее хлеб, цветы и дикие медунки. А дальше - отравляет сено, горчит хлеб и даже молоко, так что дети не хотят его пить, капризно толкают от себя любимую еду.
Должно быть оттого и люди на Тарабае хмурые и злые, как будто полынь попала в их кровь и распалила злобою сердца их.
Одна на всю Неслыхаевку старуха Финогеевна, безродная вдова-шептунья, пеклась о грешных людях и скорбела, сетовала на мужицкое житье-бытье, сравнивала судьбу его со своей покойною свекровкой.
Сидит, бывало, у тусклого единственного окошечка своей избушки, качает головой и думает, и вспоминает:
- Дает теперь, поди, Богу ответ, покойная головушка... Бывало: молодица бита, молодица ругана, молодице скресу не было, а ходи весело, чтобы все люди думали, что молодице мед, а не житье...
Финогеевна вздыхала и вспоминала дальше, уже свое, незабываемое:
- А как только молодица через число при людях взвеселилась, посмеялась, - свекровушка того пуще зашипит:
- Иш-шь обзарилась: рада-радешенька на мужиков-то рыло пялить.
- Ох, как сердце молодое закипит тогда. И горечью и злобой захлебнется досмерти...
Лучшее, душевное-то к Богу с жалобой:
- Ты видишь, Господи! Все видишь, Батюшка! Владычица Матушка, заступись, оборони!
А тайное, земное-то иного требует:
- Батюшка Илья пророк! Разряди ее громом, попади молоньей!
И старуха Финогеевна связывает в узелок оборванную думку:
- Вот так и злоба наша засевается, укореняется, разрастается... Ведь уже давно прибрал Господь, а не могу простить, не могу забыть, што загубила, отравила всю молодую вдовью жизнь... Состарилась раньше времени.
Полынь, как есть полынь-трава...
И переносит думки свои Финогеевна на мир честной:
- Ох, тяжко, ох нету конца-края пустошам, полынью засоренным... Нету силушки повыдергать ее, повыполоть...
И подкрепляет думы свои стариною:
- Сказы-ы-вали старики, сказы-ывали, что будут поедать друг друга люди, а последний - сам себя сгрызет...
Знала старая всю злобу, все грехи своей деревни. Шли к ней все, и стар и мал, несли свои печали и болезни, потому что на слыху была старуха Финогеевна, “славутной” называлась: и повитуха, и лекарка, и советчица. С бедным погорюет, со старым молодость помянет, скорбящему - о Боге надоумит, ребенка сказкою забавит...
Вот она какая Финогеевна.
Думала старуха, сидя под окошком, качала поседевшей головой, пеклась о грешном мире, а не знала, что к ней подкралась злоба и ее отрава горькая подкараулила...
II
 Случись же такое самое, Финогеевну попутал грех на старости - польстилась на безделицу: посадила на свое гнездо чужую курицу...
Случись же такое самое, Финогеевну попутал грех на старости - польстилась на безделицу: посадила на свое гнездо чужую курицу...
Сослепа что ли, Бог знает как это случилось, а только все-таки поймала курицу возле своей избушки и посадила под шесток на двадцать одно яйцо... Пожадничала, Бог-то и нашел.
Соседка Чукулаиха, баба мозглявая, крикливая, всегда с кем-нибудь ссорится, только с Финогеевной ладила... Давно уже поклепала она курицею всех соседок, а на Финогнеевну и не подумала, только однажды пришла к ней, ненароком заглянула под шесток, а курица ей оттуда в руку клюнула, аж до крови. Хотела Чукулаиха шлепнуть курицу по носу, смотрит, а курица-то ее собственная “Тараторочка”...
И с хохолком, а в хохолке-то беленькое перышко - на весь околоток курица приметная. Ни у кого такой нет. Увидела Чукулаиха “Тараторочку” и от радости сперва даже не обозлилась, только и сказала:
- Ой, баба, а ведь курица у тебя моя сидит.
А Финогеевна так-то свысока ей:
- Да ты с ума-то, девка, не сходи... Я сроду... За иголку за чужую не запнулась... В свидетелях не бывала...
- А хохолок-то, погляди-ка! - взревела Чукулаиха и побежала с криком на всю улицу:
- Воровка ты, воровка!.. Да я тебя, собачью дочь, на общество выведу, да принародно докажу.
И побежала к сотскому, а потом к старосте.
Финогеевна схватила курицу с гнезда, приблизила к глазам - и правда: в хохолке-то белое перышко...
- Ну, не бывать тому - уперлась сгоряча старуха. - Не отдам курицу. Шутка ли - двадцать одно яйцо запарено.
И чтобы доказать, что курица не Чукулаихи - взяла и ножницами ей и остригла хохолок-то. Понятное дело: не привыкла плутовать, себе же хуже сделала.
Пришли староста и понятые, и бабы целой кучей, да и уличили Финогеевну. Видать ведь сразу, что хохолок-то только что обрезан.
А уж тут принародно Чукулаиха и начала срамить Финогеевну... Боже мой! Наговорила и того, о чем и слыхом не слыхала Финогеевна. А люди слушают да верят. Даже не слушали, что говорила Финогеевна, не внимали слезной мольбе ее.
- Заступитесь, люди добрые... Сроду за иголку за чужую не запнулась... Поверьте совести.
А уж какая там совесть, когда всем ясно: курицу украла.
Протаскали курицу по соседям, да на сходку, яйца-то и застудили. Все до одного погибли. Ни цыплят, ни яиц. Был бы староста, как Соломон, не велел бы курицу из гнезда снимать - все-таки выгоднее было бы для всех и двадцать одна птица Божия свет бы увидала... А у старосты только и слов:
- Не хорошо ты, Финогеевна, доспела... В каталажку бы тебя... Да ладно уж... На первый раз пожалеем.
Но Чукулаихе этого мало, ей надо было сжить со света Финогеевну, вот как она обозлилась на нее.
Дело понятное - тут неслыхаевская честь была замешана, и многие склонялись на сторону Чукулаихи. Забыли все заслуги Финогеевны, забыли все собственные грехи и ошибки. Гадили, обрадовались случаю пролить свою злобу, травили Финогеевну, как приблудную собаку...
Староста едва утихомирил.
III
 ранней весны до Первого Спаса у Чукулаихи и Финогеевны каждый день был грех.
ранней весны до Первого Спаса у Чукулаихи и Финогеевны каждый день был грех.
Выйдет из избушки Финогеевна, покличет свою телку, чтобы пойла дать - Чукулаиха и тут привяжется:
- И телушка-то заморыш, а тоже слава: скотину водить надо...
- А тебе уж и теленок-то мой помешал? - заскрипит сквозь слезы Финогеевна.
- И-гы-гы-гы!.. Занюнила!.. - беспощадно дразнит Чукулаиха.
- Бессовестная ты... Ни бога у тебя, ни совести! - повысит голос Финогеевна.
А тут уж Чукулаиха кричит на всю деревню:
- Это ты-то да о совести? Это ты-то да о Боге?!. Да ведь всем известно, што ты старая колдовка с нечистым знаешься!..
Финогеевна не могла этого вынести, срывалась с места и с чем попало бросалась на Чукулаиху. А той только этого и надо. Она растрепывала волосы, срывала с себя подшалок, разрывала кофточку и истошным голосом вопила:
- Убила!.. Батюшки, спасите! Караул!
Этот крик, как нож по сердцу, поражал, уничтожал старуху. У нее опускались руки, подкашивались ноги, замирали на губах слова и вся она сбежавшемуся народу казалась виноватой, только что хотевшей убить человека. Финогеевна хотела только одного теперь: уйти в свою избушку и там наедине с собой наплакаться, пожаловаться Богу.
Все соседи и соседки набрасывались на нее, кричали вслед ей, улюлюкали, готовы были разорвать.
- Ишь потянулась, как змея жалючая...
- Колдовка!..
- Вешшица!..
А Чукулаиха не унималась, бежала к старосте и взбешенно вопила:
- Убье-от она меня!.. Убьет!.. Ты лучше убери ее... С конбоем отошли ее в острог...
Старосте наскучили эти скандалы, да и молва людская была против Финогеевны. Он накануне Спаса в жаркий день взял да и призвал ее на сходку.
- Вот что, мать честная, - начал он, пощипывая жиденькую бороденку, - сказывают люди, будто ты грозишься Чукулаихину избу поджечь...
- Да што ты, што ты, батюшка!.. - испуганно взмолилась Финогеевна. - Да што вы, мир честной!.. - слезно поклонилась она мужикам и бабам.
Но мужики и бабы уже бушевали:
- А от Чукулаихи вся деревня выгорит!..
- Вот какая сушь стоит...
- Она нас с кошелем по миру пустит.
- Ишь, будто и знать ничего не знает.
А кто-то зычно, коротко и возле самого уха Финогеевны потребовал:
- Пришить ее!
- Да, родимые!.. - попятилась и присела пришибленная старуха. - Да што вы?.. Я ли не служила вам, я ли не угождала? И старому и малому...
Но слов ее уже опять никто не слышал. Все махали руками, метали злые взгляды в сторону сухой и сгорбленной, в добином сером сарафане Финогеевны, и хором требовали от старосты:
- Отпорный приговор!.. Отпорный!..
Как услыхала это слово Финогеевна, так и притихла опять, остановилось у нее сердце, помутилось зрение. Без слов, без голоса, а только думкою одною кричала:
- “Да неужто это правда? Да где же Бог-то? Где же грозный Илья Пророк?”
А староста подходит близко и объявляет Финогеевне:
- Ну, вот... Все обчество... Сама слыхала... Доводится отпорный на тебя. Доводится...
Молча поглядела на злые лица мужикам и бабам Финогеевна, молча поклонилась всему обществу, повернулась и пошла к своей избушке на непослушных, шаркающих по земле ногах...
IV
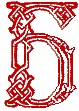 Было Воздвижение Креста Господня.
Было Воздвижение Креста Господня.
Только что загорелось яркое, безросное утро, когда с мешком-котомкой за плечами и с новым самодельным костылем вышла Финогеевна из своей землянки. Окошко она еще вчера заколотила, а убогую утварь отдала безродному Васютке - пастуху.
Телка лежала на нагретом за ночь месте посреди пустынной улицы, и Финогеевна толкнула ее костылем, подняла и погнала впереди себя из деревни.
В деревне многие еще спали, но над избами уже курился дым и, склоняясь к северо-востоку, расстилался там в седых полынных зарослях. Навстречу Финогеевне с юго-запада подувал ветерок.
Никто не провожал старуху. Лишь проходя последнюю избушку, она услыхала откуда-то слезное и бабье:
- “Да родимая ты моя бабушка...”
Это Фекла, которой совсем недавно Финогеевна помогла родить. Жаль ей старуху, а может быть себя саму. Не к кому теперь пойти, поплакаться на бабью жизнь...
Да за околицей погнались два мальчугана, помогли заворотить телушку... Какая-то собака долго лаяла на Финогеевну и на телушку, а потом и она отстала, завиляв хвостом.
Финогеевна пошла по желтой, усыпанной соломой пашенной дороге, и босые ноги ее зябли от не растаявшего инея.
Шла она, ни о чем не думая и не оглядываясь. Чуяла, что понесла в себе тяжелый камень, и чем дальше уходила, тем тяжелее становилась ноша, теснила сердце, сгибала к костылю и не хотела отпускать с родной земли.
Долго и упрямо шла старуха, пока не заметила, что куда-то отвернула с дороги и где-то отстала телушка.
Хватилась телушки, оглянулась и увидела едва маячившие крыши покинутой деревни. Увидела, остановилась и почуяла, что нет сил дальше идти. Забыла про телушку, опять помутился свет в ее глазах, опять подсеклись ноги и перехватило дыхание.
Передохнула, промигала слезы, вытерла их жилистой рукой и сипло произнесла:
- Суди их Бог. Суди их Бог!
Навстречу ей дул ветер, все крепче и порывистей и, стряхивая зеленоватую пыль с полыни, бросал в полуоткрытый рот старухи, в глаза и в ноздри и колыхал необозримые сухие травы на непаханых полосах.
Солнце поднялось высоко, слизнуло иней, но не прогревало огрубевшей старой кожи Финогеевны. Только пересох у нее язык и, ворочая им во рту, она почуяла горечь полыни, терпкую и ядовитую, как банный дым.
Как мутные волны колыхались под ветром седые полосы, лишь кое-где озолоченный сухим жнитвом и свежею соломою копен, скирдов и гумен.
Но в море полыни терялись суслоны не молоченного хлеба, сидели, как обезглавленные вороны, стога сена, и лежала толстыми медными подковами прошлогодняя солома на гумнах.
Старуха оглядела степь, пожевала пересохший язык и, угрожающе подняв костыль, прохрипела волнующимся полям, как заклинание:
- Все засорила!.. Все отравила, проклятая полынь-трава!
И вдруг лицо у Финогеевны исказилось, глаза расширились и побелели не видя солнца; черные съеденные зубы оскалились, губы стали тоненькими и темными, а подбородок высунулся вперед, загибаясь к обвисшему и дряблому носу...
Долго так стояла она в оцепенении, как будто увидала перед собою что-то жуткое, жестокое, но крючковатая рука, держащая костыль, все так же угрожала и тряслась.
Наконец, медленно, по-воровски, она присела на землю, спряталась в сухой траве и не спеша, таинственно пошарила в котомке. Достала что-то и замерла, припав к земле, как затаившаяся волчица.
И вдруг возле нее расцвел и взбух и стал расти и осыпать большие красные лепестки жаркий цветок.
А Финогеевна вскочила на ноги, погрозила костылем и, посылая от себя веселое, хохочущее пламя, зловеще и злорадно проклинала:
- Сгинь, сгори огнем неутешимым!.. Сгинь полынь-трава ядучая, сгинь зло людское, кипучее. Сгинь вовеки!.. Аминь!..
Под ногами у нее лежала и росла черная овчина и дымилась, седела пеплом; старуха часто переступала с ноги на ногу на горячей саже, как будто плясала на черном, все растущем гумне, обожженном ярко-красною бегущею и в ширь и в даль соломою.
- “Нет, это не солома, это медь... Не медь, а золото, целые горы золота!.. Нет, это табунами побежали по степи златогривые кони... Ах, нет, это змей огненный, присланный Богом покарал за зло людей... Ой, нет же, нет, это упавший с колесницы Ильи Пророка огонь, упавший, чтобы сжечь полынь-траву, отраву горькую людскую.
Все шире, все быстрей бежали по сухой полыни огненные кони, все больше вырастало вытоптанное ими черное гумно. Вот они прыгнули на стог, вот заиграли на суслонах ячменя, вот помчались к соломе на гумно. И все бегут, бегут с победоносным ржанием в глубь Тарабы, увлекая за собой танцующую на горящем пепле, безумную и страшную старуху...
В тот же день прибежал огонь в Незнаевку, а темным вечером, обложенная высохшими кизяками деревня ярко освещала ему путь в соседние поселения.
Через неделю Тараба лежала черною пустыней.
Многие из обитателей ее ушли в далекую тайгу, чтобы там ранее других посбирать Христовым именем “на погорело”.
Но большинство осталось возле пепелищ и копошились, складывая из обуглившихся бревен новые жилища.
А огонь ушел далеко в степь и по ночам маячил из-за горизонта ярко-красными знаменами, пробиваясь смело и настойчиво к тайге, лежащей где-то далеко за краем степи...
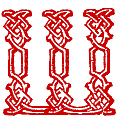 ирока Тарабинская степь. Ни лесу нет на ней, ни реки хорошей. Равнина из конца в конец, неоглядная на все четыре стороны. Небо кажется здесь плоским, низким и почти всегда тускловатым, а когда ползут по небу тучи, то степь и вовсе нагоняет скуку, как пустыня.
ирока Тарабинская степь. Ни лесу нет на ней, ни реки хорошей. Равнина из конца в конец, неоглядная на все четыре стороны. Небо кажется здесь плоским, низким и почти всегда тускловатым, а когда ползут по небу тучи, то степь и вовсе нагоняет скуку, как пустыня. Случись же такое самое, Финогеевну попутал грех на старости - польстилась на безделицу: посадила на свое гнездо чужую курицу...
Случись же такое самое, Финогеевну попутал грех на старости - польстилась на безделицу: посадила на свое гнездо чужую курицу...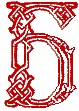 Было Воздвижение Креста Господня.
Было Воздвижение Креста Господня.