 ачалось это давно, назад тому лет двадцать с пятком.
ачалось это давно, назад тому лет двадцать с пятком.Г.Д.Гребенщиков
 ачалось это давно, назад тому лет двадцать с пятком.
ачалось это давно, назад тому лет двадцать с пятком.
Иван был большого роста, чернявый, с длинным костистым носом и густой ленивой речью.
Дети, которых у него было пятеро обоего пола и младшего возраста, звали его:
- Ба-ать!..
А жена, здоровая, неповоротливая и неопрятная Мария, кликала его басистым и всегда недовольным голосом врастяжку:
- Ванькя-я!..
Если же нужно было сказать более нежно, что случалось очень редко, то называла:
- Ванюх! - или - Ва-ань!
Когда жили на родине, он был очень услужлив перед женою и большую долю бабьей работы нес на себе.
Да и делать больше было нечего. Земли у него было всего, с реденьким чахлым леском, полторы десятины, да и та за отсутствием скота, а стало быть, и навоза, обрабатывалась не вся и была разбросана на десятки узеньких ленточек.
Сеял он не больше полдесятины и возился все лето, таскаясь от полоски к полоске пешком с двумя старшими сынишками.
И жили не сыты, не голодны, работать не торопились и обленились до того, что по неделям не выметали сора из избы, в которой всегда дурно пахло.
Печать этой лености и неопрятности лежала на всей ивановской семье.
Даже дети, играя где-нибудь в уголке, лениво и как бы нехотя обменивались своими тягучими словами и совсем не умели смеяться и резво бегать.
Так же лениво все и мыслили, и вся их жизнь походила на какой-то тяжелый, нежеланный и болезненный полусон.
Ни к чему не стремились, ничего не знали, ни впереди, ни позади не было ничего яркого, и так тянулось много лет, пока, наконец, увеличившиеся рты не потребовали хлеба столько, сколько не могла давать истощенная полудесятина.
Волей-неволей пришлось шевелить мозгами, а они ничего хорошего не могли ответить, кроме оскорбительного и холодного, откуда-то случайно услышанного слова:
- Сибирь!..
Стали наводить справки, писать письма, которые ходили к давно переселившемуся отдаленному родственнику, куму Симашкину, по три, по четыре месяца и называли крайне неопределенные и краткие ответы.
О том, что волновало Ивана, говорилось два, три слова, утопавшие в бесчисленном перечне имен с длинным прибавлением после каждого:
- ... Нижайший поклон и от Господа Бога доброго здоровья и в делах рук ваших скорого и счастливого успеха...
Ивану письма писал его сват, запасной унтер, а также заполнял их поклонами, но уже отдельно от каждого, поименованного в письме из Сибири.
В третьем письме под личную диктовку Ивана было категорически написано:
- Житье наше не приведи Господь! Пропишите вы, Бога ради, как там у вас?
Когда унтер написал, Иван попросил его прочесть и, глядя в пол, послушал.
- Так! - сказал он утвердительно и положил письмо на почту собственноручно.
Месяца через четыре получился ответ.
С трепетом сердечным вслушивался Иван в чтение, но кроме нудного перечня имен и длинных поклонов ничего не мог уловить. Он уже приготовился, было, отчаянно развести руками, как чтец, оканчивая письмо, бесстрастно промямлил:
- А у нас житье - слава Господу Богу!
Этих слов было достаточно для окончательного решения Ивана двинуться в Сибирь.
Начались переговоры, сборы, ликвидация имущества... Нашлись две-три семьи охотников поехать вместе с Иваном, и в следующее же лето группа в двенадцать душ, из которых взрослых было только восемь, под начальством Ивана, тронулась в далекий и неведомый путь.
Пока ехали Россией, все думали, что так прямо к куму Симашкину приедут, но чем ближе стали подъезжать в Сибири, тем сомнительнее стала эта возможность.
Стали спрашивать, где в Сибири село Панкратово?
Вопрошаемые смотрели в ответ удивленными глазами и только могли сказать:
- Да ведь Сибирь-то не в сто верст длины, чтобы все села наперечет знать!..
- Там и почта есть! - поясняли вопрошающие, - письма-то ведь ходят. Мы так и писали: “В Панкратово, Томской губернии”.
- Ну, и Томская губерния в три царства немецких!.. Не знаем!..
Так и потеряли они Панкратово и кума Симашкина, а поехали прямо в Томскую губернию.
Железная дорога в Сибири только-только строилась. Доехав до одной из больших рек, путники, через неделю ожидания на берегу, сели на тяжелую баржу и поплыли вверх.
Пароходишко был маленький и скребся против течения по сильной реке больше месяца, а Томской губернии все еще не было...
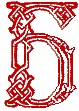 ыло уже серо и слякотно, когда Иван с детьми и пожитками высадились на мокрый и пустынный берег реки против застрявшего на мели маленького буксирного парохода.
ыло уже серо и слякотно, когда Иван с детьми и пожитками высадились на мокрый и пустынный берег реки против застрявшего на мели маленького буксирного парохода.
Товарищи его, истощивши терпение и средства, остались в попутном степном городе искать заработков и ждать вестей от Ивана.
Прикрывши ребятишек и старые сундуки холщевым рядном, иззябший Иван уныло стоял на берегу и смотрел на проходящую мимо грязную дорогу.
Жутко ему было в этой чужой пустынной стороне, где на десятки верст вокруг не видно было ни одного жилья.
Мимо ехали из города мужики-старожилы.
Их небольшие мокрые лошади, едва тащившие простые, с обмерзшими колесами телеги, шли медленно, поворотив головы от резкого со снежной крупою ветра, и то и дело спотыкались от нарастающих под копытами мерзлых комков грязи.
Мужики - их было четверо - шли возле телег и, не пряча от ветра лиц и рук, громко покрикивали на лошадей. А один из них, что пониже всех, то до него отчетливо донеслось:
- Заседатель как-то велел ему рябчиков зажарить... А он отвернулся куда-то - рябчиков-то у него собаки съели... Што делать... Запорет до смерти! Заседателишка, не приведи Бог, какой злой был!.. Тогда Митька не будь плох - взял ружье, вышел на задворки - хлоп трех сорок, да и зажарил... Х-ха! А тот ест да хвалит!..
Мужики дружно захохотали и в голос крикнули на лошадей:
- Но-но-о!.. Пошагивай!..
Иван пошел к ним навстречу...
Он мало хорошего слышал о Сибири и боялся ее обитателей, но, услышав веселый разговор в такую погоду, когда, кажется, и земля и небо дрожат от холода, он подошел к ним вплотную и, шевельнув свою шапку, произнес:
- Бог в помощь!
Рассказчик прервал свою речь, круто повернулся к нему и спросил, задерживая переднюю лошадь:
- Че ты говоришь?!.
Иван струсил и попятился.
Мужики захохотали, а один из них шутя крикнул:
- Держи его!
Иван немного отбежав, остановился и недоумевающе смотрел на сибиряков, как-то странно улыбаясь.
Зотей, рассказывающий про заседателя, крикнул ему:
- Ты че боишься-то нас? Мы не кусаемся ведь!.. Х-ха, чудак!
- Дыть, хто-ё знаить... - неловко промямлил Иван и подошел ближе.
- А это там кто сидит?
- Дыть, реятишки... Э Россеи мы пришедши... Вот куда ни на есть в тепло б надо, ребятишки озябли...
- Ну, так давай, сади их в телегу! - перебил его Зотей и, обратившись к товарищам, прибавил: - Ребята, давайте ребятишек довезем! - а Ивану бросил: - А сами-то и пешком дойдете, ишь тяжело...
- Дыть чаво?.. Вестимо!.. - растянул Иван и медленно направился к своим, но потом вернулся и спросил:
- А сколько за провоз-то?..
- Да ты только пошевеливайся! - крикнул ему Зотей. - Экий, братец, ты непроворный!
И Зотей бегом бросился помогать укладывать пожитки и усаживать ребят, наговаривая:
- Сколько да сколько... Да с тебя и взять-то, поди, нечего! Довезут - корм-то у нас некупленный, слава Богу!..
Тронулись.
Ивана мужики окружили, расспрашивая, откуда он и как попал сюда, а Марья, тяжело дыша, шла поодаль.
- Садись, тетка! - крикнул ей Зотей. - Садись! - повторил и остановил своего Рыжку.
Марья села, а Иван медленно рассказывал, точно выдавливая каждое слово.
- Семья - семь ртов, а хлебушка всего полдесятинки... Лошадка да коровка - навозу нетути, землица не родить, а подать берут, как со справного... У помещика узять на оброк - двадцать пять рублев за десятину за лето отдать надоть... А иде их узять?
Все это слушали сибиряки и не понимали.
Ни отношения навоза к хлебушке, ни самого слова “оброк” они не понимали и только знали, что полдесятины земли для семьи в семь ртов мало, а сумма двадцать пять рублей аренды за десятину что-то прямо невероятное.
Любопытство росло. Все вперебивку спрашивали Ивана и мало-помалу усвоили, что от такой жизни на Сахалин поедешь, не только в Томскую губернию.
Бойкий и простодушный Зотей, бывший горнорабочий, принял в судьбе Ивана самое близкое участие и начал быстро посвящать его во все подробности.
- Да тебе тут десятину-то всякий мужик вспашет; в долг, али в отработку... Вспашет и даже посеет своими семенами, а ты летом с бабой в два-три дня отработаешь... А земли-то у нас, слава Тебе Господи, ее вовеки веков не вспашешь!.. Потом избеночку сгоношишь, коровеночку купишь... Только не ленись. Знай, тут, брат, не слыхивали, чтобы с голоду-то помирали. Ну, уж разве какая ни есть Божия планида, , али там засуха, и то Бог миловал от голода-то...
- Вот, того... Приписаться бы где? - несмело вымолвил Иван, но Зотей и тут не дал ему договорить.
- Да а што тут мудреного-то? Только ведро водки поставь, чтобы крикунам глотки заткнуть, а прочие мужики и слова не скажут - примут!..
А один из мужиков прояснил:
- Ишь, крикуны эти - народ беспутный, сами не пашут и скота не имеют, а на сходке кричат больше всех, потому общественники, дескать...
А Зотей продолжал:
- А пока што, просто даже и у меня поживешь... Изба у меня есть лишняя... С Богом, брат, когда ни на есть сочтемся... Все, брат, под Богом ходим... - и от избытка добрых чувств он весело крикнул на всех:
- Ну, ребята, садись, под горку пошло!.. Эй вы, пошагивай! - обратился он к лошадкам и вспрыгнул в телегу.
Иван, садясь на телегу, не верил, что все это правда и что в Сибири могут быть такие добрые люди.
Но, когда ночью приехали в деревню, все это оказалось правдой настолько, что Зотей поднял всю свою семью на ноги, заставил освободить отдельную от дома избу, напоил всю семью Иван-чаем с мягкими белыми шаньгами, каких Ивану и видать не приходилось.
Словом, Зотей отнесся к Ивану до такой степени гостеприимно, что у Ивана составилось о нем не совсем лестное мнение:
- Хлопочет, ровно сва-ат какой! - с усмешкой сказал он Марье, располагаясь на ночлег в теплой и чистой избе.
 Зотея была одна взрослая дочь и три подростка-мальчика. Жена его, работящая, сухопарая и смуглая Анна, то и дело бегала по избе или по двору в высоко подтыканном сарафане, с закатанными рукавами и строжилась либо над дочерью, либо над сыновьями, лишь только замечала что-либо неприбранным, невымытым или невыметенным.
Зотея была одна взрослая дочь и три подростка-мальчика. Жена его, работящая, сухопарая и смуглая Анна, то и дело бегала по избе или по двору в высоко подтыканном сарафане, с закатанными рукавами и строжилась либо над дочерью, либо над сыновьями, лишь только замечала что-либо неприбранным, невымытым или невыметенным.
Анне не нравилась нечистоплотность Марьи и еще то, что трое младших детей Ивана, два мальчика и девочка, с утра до вечера ходили каждый день по селу и собирали Христа ради куски.
Сельчане, не привыкшие видеть нищими детей, да еще девочек, кроме как в качестве вожатых слепых стариков, относились к маленьким нищим жалостливо, и детишки к вечеру едва тащили свои мешки.
Анна даже как-то не утерпела и сказала Марье:
- Зачем же посылать христарадничать? Ведь, голодом не сидите! Да и сами здоровы, слава Богу! Робить могли бы!
- Дыть, а што им зря-т баловать? - ответила та своим быстрым недовольным голосом и добавила с растяжкой:
- Нехай, ноги не отвалятся!
Анна смолчала и поторопилась уйти из загрязненной и дурно пахнувшей избы, в которой в течении месяца Марья ни разу не мыла.
Анна сказала мужу:
- Вот увидишь, что они изгноят пол: хуже свиней живут...
- Ай, да брось ты, старуха! - отшучивался тот. - Изгноят - другой настелем, чего толковать-то?
Между тем Иван как-то спросил у Зотея:
- Дядя Зотей! Мы живем у тебя, а цены за квартиру не знаем... Надо-ба, значить... узнать, а можа не под силу нам будя.
Зотей даже обиделся:
- Да я што из барышей, што ли, пустил тебя? На што она мне твоя цена? Никакой цены мне не надо: я, слава Богу, сыт, одет... Скотинку имею... Што ты?
- Спасибо! - флегматично промямлил тот и отошел. Он, собственно, знал, что Зотей бескорыстно впустил, да так, для очистки совести спросил...
к весне Иван и выписанные им оставшиеся в городе его товарищи приписались к обществу и, по соседству с пашней Зотея, наймом посеяли хлеба. К осени же на окраине села из сырцового кирпича сделали себе избы и плетневые сараи, покрыли их соломой, а под усадьбу захватили земли десятины по две, окопав их канавами...
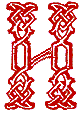 ван и его товарищи работали не спеша, но беспрестанно и все как-то не так, как сибиряки.
ван и его товарищи работали не спеша, но беспрестанно и все как-то не так, как сибиряки.
Снопы и самые суслоны на полосе были точно нарисованы, на жнивье не потеряно ни одного колоска. Лошади их рослые, жирные, коровы многомолочные.
Ездят потихоньку, а при пахоте или бороновании лошадей в поводу водят. Едят же простой хлеб с водой; накрошат сухарей, посолят, нальют воды, бросят в котел кусок свиного сала, сварят и хлебают.
И все в холсте ходят.
Весной весь берег сельской речки, как снегом покрыт - устлан белыми холстами... А бабы сибирским цветкам не нарадуются: дома таких никогда не видали.
Не прошло и трех лет, - у Ивана завелось две пары быков, да три пары у его товарищей. Выехали пахать двухлемешным плугом. Едут по целине с полверсты и только потом завернут обратно, почему и полосы их зачернели отменно от всех коротеньких полос сибиряков.
Зотей посмотрел, и даже сердце у него захолонуло: к Петрову дню близ его пашни десятин пятнадцать поднято залога...
- Ну, эти сумеют сусло хлебать! - говорил он односельчанам и неодобрительно покачивал головой.
На работе российские составляли всегда как бы одну дружную семью, причем, главою всех был все тот же лениво ворочающийся и неразговорчивый Иван.
И всегда они как бы сторонились сибиряков. Их желтые короткие шубы с борами в талии редко смешивались с сибирской сермягой.
Затем завели целые табуны свиней, овец и все залог пашут на быках, все пашут.
По две, по три десятины стали подсолнухов сеять, да постольку же картошки и арбузов.
Смотрят на них сибиряки и удивляются: куда столько? А зимой сами же идут к ним покупать и подсолнечное масло, и картошку, и арбузы соленые, и свиной тук.
Смотрят сибиряки: Иван всю зиму навоз за двором в кучу складывает.
- Зачем это?
- Дрова будут! - растягивает тот.
И правда. Весною всей семьей пачкаются в навозе, кирпичи делают... И горят хорошо, жарко...
- Вот и возьми их, христарадников-то, - говорит Зотей, - нам у них поучиться придется, не токмо што.
Подь они к черту, срамцы, - отвечают ему соседи, - посмотри, как они живут, ровно свиньи... Вонь в избах, не приведи Господь!
- Вонь не вонь! - говорит кто-либо, - а новых-то принимать не надо бы, а то, гляди, они всю “Расею” выпишут к нам...
- Эк, сердечный, мало тебе земли-то! - недовольно перебьет какой-либо охотник до общественной водки.
- Смотрите, ребята! - предостерегающе говорил Зотей на сходке, когда принимали новых новоселов. - Водку-то пить - шутка не хитрая, а как-то наши дети жить будут?..
- Но-о! Жадничай!.. Хватит тебе, а нам и вовсе! - вспыхивали на него крикуны, и глаза их наливались кровью, потому что вся их мораль сводилась к одному:
- Все равно, землей нам не пользоваться, так хоть даровой водки вдосталь попить.
- Пейте, ребята! - говорил Зотей, - да себя не пропейте. - И уходил со сходки, не прикасаясь к наполненному водкой ведру...
Крикуны пили и дрались из-за остатков, степенные отходили от греха, а другие даже на сходку не приходили.
Полупьяный писарь писал по заученному шаблону приговор, переписывая всех неграмотных и заставляя подписываться малограмотных, не знающих, что они подписывают.
Староста мусолил и коптил над свечкой железную печать, прикладывая ее к бумаге на подставленной коленке...
А новоселы, ухмыляясь в бороду, ехали в поле облюбовывать самолучшие места и не мешкали запускать в девственную целину двухлемешные и трехлемешные плуги, запряженные сильными волами. И так целый ряд годов...
Все вновь прибывшие новоселы селились рядом с Иваном, и чувствовалось, как он окружен был всеобщим почетом.
Даже Зотей проникся к нему каким-то невольным уважением, а Иван помалкивал, подсолнушки пощелкивал, охотно в церковь похаживал, с батюшкой дружбу завел.
Новые глиняные, крытые соломой избы росли, растягивая улицу, и пополнялись такими же глиняными амбарами и сараями, а на окрестных полях, еще недавно седевших ковылями, накладывались все новые и новые заплаты пашен.
Отец Афанасий сшил себе новую суконную рясу и подолгу стал служить обедню. Повеселел, стал румянее, и даже одного из шести сыновей в духовное училище отправил. Из российских составился хор на клиросе, и они же покрасили за свой счет деревянную церковную ограду.
Сибиряки же безучастно посматривают и по-прежнему не замечают, что меняется все с неимоверной быстротой. Только Зотей, внутренне раскаиваясь в том, что когда-то привез первого новосела Ивана, приписывал все эти перемены своей вине и иногда сам у себя спрашивал:
- Што-то будет? Што-то будет?
Но и он, ожидая этого “што-то”, не замечал, как оно уже наступило и с каждым годом вырастает все больше да больше...
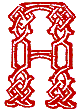 годы шли быстро.
годы шли быстро.
По пыльным большим дорогам длинными вереницами ползли все новые и еще более жалкие и бедные люди, и часть их завертывала проселком в село, где жил Иван.
Наслышавшись еще в соседнем селе про “рассейского” Ивана, переселенцы останавливались против его избы и нередко просились на ночлег.
Иван выходил, оглядывал пришельцев и, пережевывая кусок жареной поросятины, лениво выговаривал:
- Дыть где ж? У меня, чать, у самого семейство, а всех вас, чать, немало.
Тогда разочарованный переселенец, почесав в затылке и заискивающе улыбаясь, просил:
- Одолжи, дядинька, хучь хлебушка шматочек ребятишкам!..
Иван, как бы не слыша просьбы, продолжал свое:
- Вить теперь, чать, и на поле ночевать можно... Тепло... Далече ль поехали?..
Мужик, смутившись, молчал, а Иван продолжал свое:
- Не спросимши, знать-то, едете... Едете, а не знаете, ладно ль?.. Тута кругом во-он как заселимши... Подавайтесь дальше. Вот так, туда прямо, а потом направо будя дорога, а там село, вот там за селом и поспрошайте...
И Иван старательно показывал дорогу из села.
Он не лгал, говоря, что кругом “заселимши”, потому что прошло уже более пятнадцати зим, как он приехал, и за это время он сумел достаточно освоиться для того, чтобы считать себя старожилом, имеющим основание показать ближнему на ворота из своего села.
За эти годы все изменилось так, будто перевернулось вверх дном.
Там, где еще недавно нежились заросшие ковылем степи, запестрели пашни, скирды, стога, табуны, заимки и новые деревни. Там, где синели щетинистые леса, стоят чахлые кустарники и догнивающие пни, а там, где рыскали лисицы и волки, прячась в пышных травяных покровах, теперь пасутся бесчисленные коровы.
А новые волны далеких пришельцев, одна другую нагоняя, все еще двигаются по обширному простору Сибири, и их немолчный гомон перешел в оглушительный гул из стонов отчаяния, ропота, нищеты, болезней и смерти.
Уже море выходит из берегов, и многие волны перекатываются через край, не находя себе места. Многие, ударившись о холодные скалы безысходности, медленно, разбитыми струйками, ползут обратно.
У подростков выросли бороды, завелись жены и кучи детей. Беззаботные девчата превратились в больных неуклюжих и заботливых матерей... Дяди и тетки стали хилыми стариками и старухами, а дедушки и бабушки с безропотной покорностью сошли в могилы.
Уже минуло семь лет, как Зотей, поехав зимой в лес и простудившись там, заболел горячкой и умер.
Андрей, сын его, давно женился и обсыпался детьми. Дочь Зотея еще при отце вышла замуж. Средний сын, научившись грамоте, давно куда-то скрылся и не возвращался домой, ставши где-то, по слухам, не то писарем, не то учителем... А младший сын Зотея, уйдя на военную службу, попал в какое-то несчастье, и вот уже четвертый год сидит в остроге... За что он сидит - никто не знает, кроме того лишь, что сидит он, будто бы, в той самой тюрьме, возле которой стоит церковь с гробами царей.
Дом Зотея покосился, врос в землю и почернел.
Анна, от слез о муже и сыне, потеряла зрение и месяцами сидела на кровати, качая ногой люльку с маленьким внучонком и держа в руках другого, постарше.
Печальным голосом она беспрестанно кричит в пространство избы, где двое старших, не видимых ею внучат, стучат и бегают, готовые опрокинуть в избе все вверх дном.
И чувствует она, что все в избе стало грязно и не прибрано, и плачет, что не видит она света белого...
Андрей с женой с утра до вечера - на пашне. Работа как-то не спорится, хлеб в последние годы родится стал плохо, потому что старая земля повыдержалась, а новой поднять сил не хватает, да и целины доброй уже не осталось почти.
- Всю повыпахала Расея вонючая, - злобно говорил Андрей, чувствуя приближение тяжелой нужды и не зная, как с нею справиться.
Привыкший работать под руководством распорядительного и сметливого отца, после смерти его Андрей вдруг как-то растерялся и советовался то с матерью, то с тестем, то делал по своему разумению, но всегда выходило не так, как надо.
Парень он был хоть и работящий, но до крайности робкий и уступчивый.
Случилось, например, что к нему в овес пастух запустил целый табун коров и начисто стравил всю полосу.
Андрей кинулся было к старосте, но вслед за жалобой своей тотчас же сказал:
- Только я боюсь взыскивать с него...
- А почему же?
- Я взыщу с него, а ну, как он лошадей у меня последних угонит?!.
И, глотая обиду, махнул рукой, да так и не стал взыскивать.
Вообще, был он безответный и к тому же жалостливый; жалел он младшего брата, где-то томящегося в неволе, отца, так рано умершего, вечно плачущую мать и молодую, но уже надломленную жену, которая почти всех четверых детей родила либо под снопами, либо возле копны.
У Ивана же, напротив, все шло как нельзя лучше.
Ребятишки, что по приезде сюда ходили собирать Христа ради куски, а позже пасли поросят, стали рослыми, сытыми мужиками и бабами.
На месте глиняной избы выстроен большой дом из пихтового леса с тесовой крышей, а в широкой ограде яркими цветами пестреют: самоброска, веялка, грабли, железные плуги и даже молотилка.
И всюду бегают, играют, дерутся, плачут и хохочут многочисленные внучата Ивана и Марьи...
Уже третий год как церковным старостой выбран “российский”. “Российского” же метили и в сельские старосты. Словом, старожилы-сибиряки как-то потонули среди новых и чужих им людей, уйдя в свои личные заботы и труды, ясно понимали, что на них надвигается то, чего они никак не могли ожидать еще каких-нибудь десять лет назад.
- Н-да! - вздыхал какой-либо старик, сидя в праздничный день на завалинке, - должно, и мы скоро назем копить будем...
- Правду говорил покойничек Зотей: “Пропьете, говорит, вы сами себя!” Вот и пропили! - поддакивает другой.
этим и ограничивалось сетование на приближающееся малоземелье.
А отец Афанасий в проповеди красиво говорил о том, что российский народ богобоязливый, трудолюбивый, и что щедрая рука не только не оскудевает, но и воздается ей сторицею.
В большие праздники с крестом отец Афанасий ехал сначала в российский хутор, начиная с дома Ивана, а затем уже к сибирякам, и то не ко всем, потому что однажды в новый год один из крикунов, побывавших на японской войне, не только не принял его, а даже оскорбил:
- Ты, батюшка, святость-то за деньги продаешь, а у меня их нет!..
 ашни Ивана находились смежно с пашнями Андрея, потому что большая доля земли была Ивану за бесценок уступлена в пользование все тем же Зотеем еще поначалу.
ашни Ивана находились смежно с пашнями Андрея, потому что большая доля земли была Ивану за бесценок уступлена в пользование все тем же Зотеем еще поначалу.
У Ивана каждый год оставались большие клади намолоченного хлеба, потому что хотя у него и было выстроено уже три больших амбара, но весь хлеб все-таки поместиться не мог. С каждым годом он накапливался, а в городе цены на зерно стали ниже, да и нужды торопиться с продажей у Ивана не было.
А так как семья у него выросла теперь большая: три сына с женами, две взрослые девки, а к третьей взял еще в дом зятя, то и в рабочих руках недостатка не было.
Весною на пашню выезжает целый табор.
Там пашут на быках в два плуга, сеют и боронят, а здесь на гумне молотят, чтобы из дома не возить семена, их берут с гумна, отсюда же направляют в город и на мельницу, а дома, в амбарах, хлеб годами так и лежит нетронутый. И всюду по пашне Ивана белеют рубахи и пестреют бабьи плахты.
Только Марья, раздобревшая под старость на сибирских хлебах, как наседка, безвыездно сидит дома, окруженная домашней птицей, коровами, свиньями и кучей внучат.
Кроме того, она занимается торговлей: продает подсолнухи, постное масло, свиное сало, молоко и печеный хлеб беспрестанно едущим мимо переселенцам.
Иван же, отрастивший длинную, посеребренную сединою бороду, часто ездил - то домой, то на пашню. Он нигде не верил чужому глазу и распорядок вел всегда сам.
И вел он хозяйство толково. Никогда ни на кого не сердился, а все его боялись, и в огромной семье никто не смел друг друга чем-нибудь огорчить.
Говорил Иван все так же лениво, врастяжку, но приобрел привычку часто, по-хозяйски, почесываться, что как будто помогало ему лучше соображать.
Когда он говорил, то смотрел либо в пол, либо в сторону и на вопросы отвечал очень медленно и всегда начинал с каких-нибудь экивоков или справок из прошлого.
На гумне у него была избушка, а в ней всегда жил кто-нибудь из членов его семьи, а в страдную пору рядом находились и все тяглые силы.
Одинокий же Андрей не имел возможности жить на пашне и очень часто, уезжая домой, приходил на гумно и робко просил кого-либо из мужиков:
- Ребятушки, тут может скот в хлеб зайдет, так уж, пожалуйста, доглядите!
Все обещали и, правда, доглядывали, и вообще жили по-соседски.
Впрочем, доглядывали они, конечно, в своих интересах, пашни Андрея были огорожены их пашнями, значит, доглядывая хлеб Андрея, они берегли и свой.
Но только однажды поутру во время жатвы, подъезжая к своей пашне, Андрей еще издали увидел, что там, где у него были сжатые и несжатые желтые полосы хлеба - все сплошь распахано и слилось с прилегающим с двух сторон залогом Ивана.
Он протер глаза, чтобы прийти в себя от чудесного наваждения, но сплошная чернота не была наважденьем.
И с захолонувшим сердцем он погнал лошадей во весь опор.
Подбегая к полосам, он все еще не мог понять, в чем дело, и лишь когда запах оставшейся гари ударил его по носу, он догадался, что весь его хлеб сгорел, и вяло, как мешок, свалился под ноги лошади, которая, как бы понимая несчастного хозяина, стала перед ним как вкопанная и, прижав уши, уныло смотрела на обуглившееся пространство.
Когда он встал и, шатаясь, пошел к соседям, то увидел, что огонь пришел от них.
Придя на гумно Ивана, Андрей сел возле избушки и еле выговорил:
- Пошто же это... вы... так-то? - и завыл, как только мог он завыть, чувствуя полное свое разоренье...
- Дыть рази это мы? - не своим голосом кричал один из сыновей Ивана. - Мы што ж?.. Мы глядели... Это ктой-то ночью... Мы сами-т едва спаслись... Это не мы-ы! Пра-а!..
Знал Андрей, что неумышленно сожгли, но все-таки “они”, да и некому больше, так как пожар шел прямо от огнища, где они всегда варили обед, но он ничего не мог сказать и только вытер грязной, рабочей рукою вдруг потускневшие глаза, но слезы не слушались и снова застилали их...
Вскоре приехал и сам Иван, поглядел на пожарище, помолчал и, почесываясь, лениво произнес:
- Ишь ты, Господне наказанье!.. Што ж теперь ты будешь делать-то? А? Ах ты, головушка горькая...
Он хорошо понимал, что пожар пустили его ребята, но не хотел подавать виду не потому, что боялся суда: в суде у него есть “рука”, да у Андрея и смелости не хватит без свидетелей судиться, а потому что чуял на сердце не то вину, не то долг за собою перед Андреем. И, чтобы очистить совесть и задобрить Бога, он стал утешать его:
- Ну, что ж? Не убивайся, Бог даст - не умрешь с голодухи... От нашей руки на погорелое так и быть двадцать пудов пожертвую... Не плачь! Ишь ты, Господне наказанье!..
Но, вспомнив Бога, он поперхнулся, ибо почувствовал, что клевещет на него, и закричал на сыновей:
- А вы што ж, нешто дрыхли, не тушили?!.
Но старший сын громко запротестовал:
- Дыть, ба-ать, мы свои клади стерегли... Нечто было бросить их?!
Не обида, а горькое и в то же время бессильное презрение закипело в душе Андрея, который все еще сидел и не мог остановить помимо его воли катившихся слез.
Все несчастья встали перед ним теперь во весь свой рост и загородили ему все дороги...
Он не знал, что будет завтра, куда идти, что делать? Как сказать матери?.. Чем, без работы над нивой, заполнить накатившееся отчаянье?..
А Иван продолжал утешать:
- Ну, што ж теперь делать? Не убивайся! Коли трудно будет, приходи, подсобим... А вот што, слышь ты?.. Андрюха! Парень ты смирный, работящий... Коли што, я и тово... В работники тебя возьму!.. Хотя у меня и так, быдто, много их, а для тебя, што ж, уважу... Ведь и Господь велит помогать! Да-а! Не убивайся!..
Андрей встал... Посмотрел на черную гарь, на молчаливо застывших поодаль сыновей Ивана и, беспомощно разведя руками, еле выговорил:
- Только и осталось, что в работники!..
И, захлебываясь рыданиями, медленно побрел к своей, все еще неподвижно стоящей на обгорелой полосе, лошади.
А Иван, ворча на неосторожных сыновей, шепотом учил их, как надо говорить на селе, чтобы худой славы не было...
И косился в сторону Андрея, который вел в поводу лошадь по черному полю, мимо испепелившихся суслонов и останавливался над ними с поникшей головою, как над родными могилами.
А вдаль по извилистой пыльной дороге серою змеею ползет обоз новых пришельцев из тяжелого далека.