Георгий Гребенщиков
В ТЕСНИНЕ
I
 а берегу красивой горной реки, на широком
отлогом подоле рассыпано большое и довольно опрятное селение. Много новых точно
восковых крыш, белая стройная церковь с зеленым куполом и синими главами,
каменный магазин и ряд лавок говорили о том, что в селе живут не только мирные
землеробы и охотники, не только скотогоны и пасечники, но и “люди из города”…
а берегу красивой горной реки, на широком
отлогом подоле рассыпано большое и довольно опрятное селение. Много новых точно
восковых крыш, белая стройная церковь с зеленым куполом и синими главами,
каменный магазин и ряд лавок говорили о том, что в селе живут не только мирные
землеробы и охотники, не только скотогоны и пасечники, но и “люди из города”…
Иногда по кривой и узкой улице проходила в старомодной шляпке блинчиком и в
черном салопе с талией молодая женщина. Время от времени с осанкой сенатора
проследует местный урядник… Священник в лиловой рясе и в шляпе кастрюлей,
волостной писарь с картонным портфелем и почтенным животом… Бывало, что улица
освещалась и светлыми пуговицами местного подлесничего. Он ходил в пальто
внакидку, и потому пуговицы унизывали его грудь в четыре ряда: два ряда на
тужурке да два на пальто… Если к этому прибавить две кокарды на фуражке да
блестящие погоны на плечах, то не будет удивительным, что блеск таких регалий
был весьма ослепительным для обывательского глаза.
В селении этом жила одна маленькая купеческая семья.
Это была оригинальная и, во всяком случае, нетипичная для деревенского
купечества семья.
Раньше, несколько лет назад, семья эта состояла из шести персон:
сорокалетнего хозяина Василия Петровича Коровина, простого человека, вышедшего
из крестьян, его жены и престарелой матери и двух сыновей Коли и Вани и дочери Лизы.
Василий Петрович промышлял сырьем и пушниной, сплавлял лес, закупал мед,
вощину, коней… Затем, побывав в Москве, немного приосанился, “обтесался”, как
он говорил про себя, и пожелал свои торговые дела повести шире. Вывез из Москвы дельного приказчика, набрал мануфактуры и, продолжая торговлю сырьем и пушниной, выстроил каменный магазин для красного товара… Дела пошли хорошо, и Василий Петрович, по его собственному выражению, “делал промышленность”… Весь край на сто верст кругом был его покупателем и продавцом. К людям он относился хорошо, много им верил, и, как ни крали, как ни тянули близкие люди, дело росло…
Первенца Колю, Василий Петрович, как только ему исполнилось десять лет,
отдал в гимназию, а когда он был в пятом классе, поспела к учению и Лиза…
Меньшак Ваня был дома…
Василий Петрович очень хотел, чтобы дети его были не такие темные, как он
сам, и ничего не жалел для их образования, хотя город находился в сотнях верст от села…
Но вот Василий Петрович овдовел… Пожил год вдовым, показалось скучно: был
еще молод. А тут у местного священника была молодая хорошенькая дочка. Взял да
и женился вдругорядь.
Сперва зажил хорошо, но после заметил, что жена косится на младшего Ванютку. Он и этого отдал в гимназию.
Так он и отделился от детей, а дома в отдельной комнатке осталась только
старая его мать, бывшая крестьянка, большая скромница, которой было нужно
немного. Она молилась Богу и жила тихой, праведной жизнью.
И вот, когда Николай был уже на третьем курсе, он получил ужасное письмо от
мачехи. Его отца где-то на большом тракте убили и ограбили.
“И денег-то с ним было всего только тысяча рублей”, - писала мачеха, научившаяся ценить деньги выше жизни…
Сообщение это тяжко отразилось на всех детях, и, не кончив университета, Николай приехал домой…
Еще через год выехала и, окончившая гимназию, Лиза… Ваня был в шестом классе и продолжал ученье.
С мачехой пошли нелады из-за ее самодурства и расточительности… Но, к счастью, она скоро вышла замуж и хотя денег с собою захватила много, но хорошо то, что ушла из дома…
Но дела все же не шли лучше… Доверенный крал, а Николай в торговых делах мало смыслил, да и душа к торговле не лежала. Лиза, совсем еще юная и отвыкшая от деревенской жизни, тяготилась ею, бросить родное гнездо ей было жалко, особенно было жалко оставить одинокого брата.
Николай не прочь был бы ликвидировать дела, но над имуществом была назначена опека, да перекупщика солидного скоро не сыщешь: дело большое, капитальное и крепко связанное с краем кредитом.
Вот и жили Николай с Лизой в селе одинокими, как на пустынном острове: настоящего нет, и будущее неопределенно… Оба молодые, красивые, полные жажды знания и яркой деятельной жизни, они томились в стиснутом горами ущелье, как в ссылке.
Не утратившие веры в людей, они первое время пытались было оживить общественную жизнь села и объединить местную интеллигенцию у себя в доме… Устраивали литературные чтения, домашние концерты и даже спектакли, и все это заканчивалось угощением. .. Но странно-досадное чувство оставляли эти вечеринки… Потому что собирались люди разных полюсов и званий, люди очерствевшие в селе и тупые, и их никак нельзя было слить в тесный кружок… Высшая знать косилась на среднюю, средняя чересчур скромничала, так что ее за стол едва удавалось усадить, а низшая, полумещанская, фыркала от смеха там, где не было смешно, и наоборот. Так, что сами собой эти вечера прекратились… Тогда брат и сестра попытались сплотить публику иначе. Они стали устраивать общественные прогулки верхами. Велели кучерам седлать всех своих лошадей, которых было у них не менее двадцати, и, собрав все свои и чужие хорошие седла, приглашали всю знать и желающим предлагали куда-либо ехать. Вперед же себя отправляли прислугу с чаем и закусками… Сначала гости жеманились, и желающих ехать набралось не более пяти человек, а потом вдруг проявили желание все, так что не хватало лошадей. Тогда те, кому не хватало лошадей, обижались и ссорились с теми, кто уже собрался ехать. В свою очередь и эти обижались или выражали свое неудовольствие либо на неловкое слово, либо на суровую и ленивую лошадь…
В результате все та же история: сплетни, дрязги, невежество…
Тогда Коровины предпочли замкнуться в уединении. И хотя обыватели говорили о них, что они теперь не принимают у себя потому, что “все профорсили”, но брат с сестрой не обращали на это внимание и заполняли свой тоскливый досуг чтением книг, журналов и газет и редкими прогулками в горы.
Лиза вся погрузилась в чтение, спала ночей, и громадных нравственных усилий стоило ей дождаться следующей почты, которая приходила два раза в месяц.
В своем одиночестве Коровины, по выражению Николая, нашли самих себя. Увлеченные чтением, они часто друг друга вызывали на интересные собеседования, целиком погружаясь в горячие споры и философствования, и привязались один к другому так сильно, что уже не помышляли о том, что могут надолго расстаться.
Но жизнь в глухом горном селе все же томила их, и угнетала необходимость сидеть у торгового дела, которое не могло удовлетворить их юные, ищущие души…
II
 аступила весна. Суровая горная река уже сорвала с себя ледяные цепи. Взбухла и лихо мчалась вперед по кривому и тесному каменному ущелью… Мчалась и ревела как тысяча рассерженных медведей.
аступила весна. Суровая горная река уже сорвала с себя ледяные цепи. Взбухла и лихо мчалась вперед по кривому и тесному каменному ущелью… Мчалась и ревела как тысяча рассерженных медведей.
На горах еще много снега. Он застрял между синих лесов и в глубоких морщинах, спрятался от солнечных стрел в глубокой тени, и от этого горные дали казались серо-пегими с легкой лиловой дымкой на искривленных горизонтах.
С гор задорно и певуче бежали ручьи и блестел на солнце серебристыми струями своих торопливых шагов… Местами, в небольших котловинах, они задерживались, кружа в пенистых танцах мелкие, хорошо омытые камешки.
Верхушки гор обнажились, точно они сняли с себя белые колпаки, чтобы благодарственно помолится Богу грядущей весны… В лесных трущобах уже шевелилась жизнь: бормотали тетерева, чирикали дрозды, оживали мухи, проворно взялись за строительство ловкие муравьи…
И кое где на солнце, из-под пухлой, хорошо напитанной земли, высунулись первые коричневые и белые стебли травы. И особенно приветливо шептались с легким ветерком зеленые и густые иглы пихтовых и кедровых ветвей…
Словом, шла Божья гостя, которая так щедро сыплет на луга и степи душистые цветы и расстилает ярко-зеленые ковры из мягких мхов и пышных трав в горных падях.
Лиза впервые одела легкое весеннее пальто и с открытой головою, подбирая юбки, медленно шла через обширную ограду к конюшне, где стоял ее любимец Гнедко. Шла и улыбалась.
Ее бело-матовое лицо с чуть заметной кисеей румянца на щеках, тонкие нежные руки без перчаток, пышные льняные волосы и маленькие, красиво обтянутые ботинками ноги – все это вдруг сделало пустынную ограду с остатком рассиропленного снега, оживленной и по-весеннему праздничной… Даже боязно было, что вот уйдет она, и снова настанут в ограде будни, тягучие и тусклые, несмотря на яркое солнце.
Гнедко, высунув морду из стойла, наставил уши и большими яхонтовыми глазами приветливо глядел на хозяйку, вытягивая к ней свою морду. Ноздри его вздрагивали. Будто он потихоньку, шепотком говорил ей:
- Люблю поесть калачика!..
Лиза протянула ему кусок белого калача, потрепала по бархатной губе и певучим, мелодичным как струна голосом говорила:
- Ну, здравствуй, здравствуй!.. Как поживаешь?..
Гнедко жевал хлеб и кивал ей мордой:
- Отлично поживаю… А хлебца-то бы еще не мешало…
Достала из черного, еще гимназического, фартука и протянула ему новый кусок. И улыбалась той девической улыбкой, какою улыбаются девушки чистые и проливающие лучи своей радости на все, что окружает их беспричинно и бескорыстно, от избытка своей юной любви, искренности ко всему живому. Сзади послышался молодой и добрый тенор:
- Ох, избаловала ты его… Он все время только и делает, что стоит тут и у всех христарадничает…
- Нет, ты послушай только, как он ржет, - говорила она, смеясь, и передразнивала Гнедка: - Ге-ге-ге-ге… Точно гусак шепчет…
Николай стоял, опустив руки в карманы потертого осеннего пальто, и улыбался сестре веселыми любящими глазами… Его здоровые слегка загорелые щеки с едва опушенным подбородком комически надулись, брови насупились, а губы сложились в трубочку. И в таком виде он, подделываясь под голос сестры, пропищал:
- Точно гусак шепчет!
И немедленно получил за это шлепок по руке.
- Еще дразнится!.. Какой, ведь, подумаешь…
- “Подумаешь”, презабавно тонируя за нею, повторил он и, обняв сестру, просто и ласково сказал, направляясь к дому:
- Да, моя ты милая!.. Посмотри: солнца-то сколько, солнца-то!.. Ведь сегодня радуется всякая тварь, всякий червяк празднует…
Она прижалась к нему, подобрала юбки и, заглядывая на него снизу вверх, молча улыбалась согревающей улыбкой.
- Эх, не поэт ч, а то бы вот так стихом и разразился. Смотри-ка, воробьи-то в скворечницу ломятся… Подожди, что они это соображают? Батюшки, да никак это они решают квартирный вопрос?.. Ты видишь, скворец что-то выбрасывает оттуда… Так и есть, это они зимою его место занимали, а теперь он их выдворяет… Вот так потеха… Ха, ха, ха!.. Ты только прислушайся: “Чей чин? Чей чин!”. Это воробьи-то о чинах… Ах, шельмецы, а зимою пели другое: “Чуть жив, чуть жив!”… А на базар прилетит зимою, все приценивается: “Это почем, это почем?” - спрашивает, а сам клюет да клюет у мужика из воза… Вот ты – Господи!.. Уж и верно, что весною всякая муха рукава засучивает…
- Да ты – поэт!.. – восторженно сказала девушка и поперхнулась собственным счастливым смехом.
- А ты – моя муза распрекрасная… - сказал он и, быстро подхватив ее на руки, перенес через широкую лужу…
- Ну, зачем ты, я, ведь, тяжелая…
- Стра-асть!.. – и поставил ее на крыльцо.
А она удивленно смотрит на него как на нового и невиданного, но близкого, близкого. Точно не может понять, что с ним?
А он спрашивает приветливо:
- Не пообедать ли нам, сестреночка?
Расхохоталась над ним от всего сердца, зазвенела как иволга, и, шаля, побежала вперед его в комнаты, а он ей вдогонку, комически подпрыгивая.
В своей комнатке у окошка стояла низенькая в черном чепце бабушка и, хлопнув себя руками по сухим бедрам, качала головой и смеялась беззубым ртом…
- Ах ты, дескать, зеленая молодость…
А в большой, хорошо обставленной зале уже звучал граммофон, разливая задорные звуки какого-то танца. И брат с сестрой, не раздевшись а только сбросив калоши, пустились в пляс…
Как утица в вперевалочку шла в залу бабушка и, радуясь веселью внучат, старалась перекричать музыку:
- Да будь же вы благословенны… А, штобы вас Богородица-то любила… Ишь че, ишь че!.. – лепетала она, изумляясь бурной шалости, охватившей молодых людей…
Вот зашипела пластинка, кончилась музыка, и, тяжело дыша, они оба бросились к граммофону, а потом, раздевшись, пошли в столовую и все еще широко улыбались и друг другу, и бабушке, и добродушной стряпке.
Сели за стол, пообедали аппетитно, разошлись по своим комнатам. Все снова стихло во всем огромном доме… Оранжевые и длинные лучи солнца прокалывали дом насквозь от окон до стен, золотыми пятнами ложились на ковры и стены, на утварь и цветы и навевали дремотную задумчивость.
Николай прилег с книжкой у себя на кровать и, по обыкновению, заснул, бабушка молилась, а Лиза, заложив руки за спину, медленно бродила из угла в угол по зале и потихоньку напевала.
Не было определенных дум и стремлений, и горя особенно не чувствовалось, а стало безотчетно тоскливо-тоскливо… И сама не знает, от чего бы это?
Вот подошла к расцветающему гиацинту, тронула его, понюхала и прижалась к нему щекой. Грустно улыбнулась. Отошла в уголок к этажерке с книгами… Прислушалась. В комнате слышался гулкий лай цепного Миртона…
- Лает… - произнесла неизвестно для чего и опустилась в качалку…
Покачиваясь, напевала потихоньку и мечтала о чем-то красивом-красивом… О Петербурге… Нет, о Париже, там французы милые, милые… Нет, не о Париже… Об Испании, там мужчины ходят в жабо, и борода у них клином, а глаза… Ах, как они умеют любить… Рыцари!.. Где это она читала?..
- Мм-му-у… - доносится со двора в большие безлюдные комнаты, и это напомнило каждодневное, скучное и однообразное до обиды…
- Коровы просят пойла… - сказала она сама себе.
Помолчала, устремившись в одну точку на полу, и вдруг разрыдалась… Сдержанно, придушенно, но неудержимо и горько. Точно кто ее грубо обидел…
Долго плакала, осушая слезы батистовым с кружевами платочком, даже голубые глаза покраснели и нос чуточку припух. Потом успокоилась, смолкла и неподвижно сидела в качалке, бездумно прислушиваясь к наступающей тишине сумерек…
Скрипнула дверь из комнаты брата, и он беззвучно вошел. Дотронувшись до граммофона, что-то ненужное поправил и, вздохнув, подошел к ней.
- Ну, что, моя сестренка?
- Ничего… - ответила и тоже вздохнула…
Помолчали, к чему-то прислушиваясь, и еще помолчали.
Сумерки сгущаются, обволакивая и изменяя предметы. Вон в углу фикус. Он похож на фигуру человека в черном плаще… А там большая пустыня комнаты; может быть, в них сейчас беззвучно ходят тени умерших, папы и мамы…
- Коля… - как-то странно нарушает тишину короткий звук.
- Что?..
- Я боюсь…
- Ну, перестань, Лизочка, ты ведь не ребенок…
- Иди ко мне, ближе…
- Ну, вот я…
Сел рядом, взял нежную ручку и гладил ее, лаская.
Она прислонилась к нему, такая нежная и ароматичная. Обвила шею, и волосы ее коснулись его.
- Ну, что же ты боялась?..
- Нет, я так… Я уже не боюсь…
- Сестренка моя, - ласково произносит он, слегка отстраняя ее. – Какие мы с тобой одинокие, одинокие…
- Да?..
- Ну, есть у тебя что новое сказать мне?
- Да…
- А что же? Говори…
Помолчала, вздохнула и с усталой грустью ответила:
- Не знаю…
- Да что с тобою, Лизочка?
Уронила головку себе на ладони в платок и опять заплакала.
- Вот тебе на!.. – ласково засмеялся он. И она засмеялась и впотьмах приблизила к его лицу свое, мокрое смеющееся сквозь слезы и такое по-детски забавное.
- Ну, прошло?..
- Да…
- Ах, ты, капризница этакая!.. Зажги-ка лампу – да смекнем насчет чая… Попьем чайку, отпугнем тоску…
И, обнявшись, пошли в темноте искать спички…
III
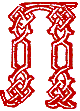 иза хлопотала с приготовлением к Пасхе. Это была первая Пасха, которую Лиза встречает в селе за последние десять лет. В фартуке, с засученными рукавами в каком-то цветном повойнике поверх волос, она разрумянилась возле удавшихся куличей. Была возбужденно-весела, звонко смеялась и боялась каждого своего промаха в кулинарном искусстве. Николай мимоходом и издали любовался ею и радовался своей нежной, братской любви к ней.
иза хлопотала с приготовлением к Пасхе. Это была первая Пасха, которую Лиза встречает в селе за последние десять лет. В фартуке, с засученными рукавами в каком-то цветном повойнике поверх волос, она разрумянилась возле удавшихся куличей. Была возбужденно-весела, звонко смеялась и боялась каждого своего промаха в кулинарном искусстве. Николай мимоходом и издали любовался ею и радовался своей нежной, братской любви к ней.
Бабушка вторично говела и не вмешивалась в хозяйство Лизы, в распоряжении которой были влюбленные в нее две молодые, да одна старая бабы. Одна из них была чем-то вроде горничной и даже спала в комнате Лизы.
Когда наступила Страстная Суббота, и Николай, уставший за хлопотливый день в магазине, пришел домой, то он застал сестру украшающей углы комнаты кедровыми ветвями. Как-то особенно хорошо пахло хвойным бальзамом, и Лиза, вскочив на стул, зажгла в переднем углу лампадку.
Лики суровых святых озарились добротою при розовом свете лампадки, и Лиза, спрыгнув со стула, с важностью в лице погрозила насмешливо наблюдающему за нею брату.
- Ты смотри!..
- Я и смотрю… А что?..
Она упорхнула в кухню, где бабы заканчивали что-то кондитерское.
Николай устало опустился в качалку и, не переставая улыбаться тихой хорошей улыбкой, приумолк.
- А все же хорошо на белом свете!.. – сказал он вслух и посмотрел на иконы.
Чем-то старинным, монастырским пахнуло на него из переднего угла, уставленного иконами и освещенного слабым светом лампадки…
Задумался, удаляясь памятью в прошлое.
- А ведь верилось когда-то, со страхом и трепетом верилось… А теперь осталось от этого одна лирика… - тихо говорил он с собою…
- Прекрасные бисквиты, ей Богу… Я никак не ожидала… Попробуй-ка… - на бегу щебетала Лиза, - посмотри, какие пышные!.. Попробуй!..
- Зачем же ты меня искушаешь, ведь скоромное, - сказал он полуиронически.
- Ах!.. – вскрикнула она и выплюнула изо рта нечаянно откушенный кусочек. – Господи, я ведь это по рассеянности… Честное слово!.. – искренно опечалилась она…
- Ах, ты, глупенькая… Ну, что же тут преступного…
- А ведь верно… - сказала она серьезно. – И я чувствую маленькое угрызение, когда переступаю эти бабушкины заветы… Что бы это значило?..
- Да, представь себе, мне сегодня утром, когда погребали Христа, так хотелось плакать и молиться!.. – сказала она и, взяв кончик фартука, загляделась через окно на погасающую зарю. – И вспомнился Ваня… Бедный, он так далеко от нас…
- Зато там, в городе, шумно, весело ему…
- Не знаю, но я нынче с удовольствием, с удовольствием встречаю Пасху… Никогда так еще не встречала…
- А если бы ты знала, как я рад, что ты со мною… Высказать не сумею… Ведь в прошлом году – это что-то ужасное было… Я не знал, как убить время. И весна казалась осенью… А нынче я так счастлив…
-Да?.. – сверкнув глазами, улыбнулась она и положила белые руки ему на плечи и прижалась к его груди.
- Пойдем сегодня к всенощной?
- Пойдем, - улыбнулась она ему и нежно, как бы жалея, посмотрела на него.
А он братски-ласковым тоном продолжал:
- А все-таки, Лизочка, хорошо на свете, ей-Богу…
- Да? – наивно переспросила она.
- Нет, если только понять, если почувствовать и понять всю жизнь в целом, то это самое – “хорошо”-то всегда с нами. Вот я сидел тут без тебя и философствовал: а что, мол, было бы, если бы я был в шумном городе?.. Было ли бы лучше?.. И заключил, что нет, а было бы хуже и гаже, скажу я тебе… там столько соблазнов и недосуга, недосуга, пошлого, мелочного до бессмысленных забот о запонках и воротничках включительно, что, право, и помечтать-то не пришлось бы… А человек только тогда и живет, когда он углубляется в себя и читает свою душу… Фу, да я бы тебе на эту тему целую лекцию прочел…
- Я тебя слушаю… - сказала она и села на край качалки. Лицо ее сделалось важным, будто она готовилась к причащению…
- Как бы это короче? – сказал он, чувствуя важность момента и не желая утомить ее напряженного внимания, - вот та самая сутолока, которую называют цивилизованной жизнью, мне напоминает большую ярмарку. Всякий пришел либо купить, либо продать. И всякому хочется быть пестрее, заметнее других… А для чего? Для того, чтобы просто “пошабарчать”, как говорят наши крестьяне, то есть погреметь, тем или иным прославиться, потому что в славе будто бы есть наслаждение… Может быть, и есть это наслаждение, но оно в самой своей сущности гадко, потому что слава давит других… А тут как к чупрыну этой славы стремятся все, то получается какая-то давка, спешка, бессмыслица, а для чего, опять я спрашиваю… Для первенства!.. Да на кой оно мне черт, когда из-за него у меня жизни-то моей настоящей нет?! Но люди все-таки лезут один через другого, давят друг друга и когда ухватятся за чупрынь – радешеньки!.. Это какой-то дурацкий спорт… А ведь по настоящему-то человеку надо разве много?.. Поэтому самое главное, мне кажется, это надо уметь ценить жизнь, время и беречь и лелеять то, что есть духовно-красивого внутри нас… Ей Богу, в том, что я понимаю красоту нашей реки, или в том, что я не хочу мешать людям жить как они хотят, гораздо больше смысла, чем в том, если бы я был великим проповедником и умел бы любить только одно “высокое и прекрасное”… Я хочу сказать, что для того, чтобы ценить жизнь, надо уметь быть просто человеком, а не человеком со знаками отличия… Не отличия дают счастье, а только внутреннее самосознание своей человечности. Разве всякий человек, несмотря на его знание, состояние и происхождение, не может любоваться красотою, например, нашей реки или любить и ценить жизнь так, как это делают люди со знаками отличия? Ты меня понимаешь?.. Ведь мы с тобою вот говорим же о высоких материях, где-то у черта на куличках, в горном ущелье… И всякий мужик, по-своему, мог бы говорить то же самое… Ведь вот ты, моя сестренка расхорошая, заставляешь же меня радоваться всему, что есть на свете доброго и дурного!.. Почему это?.. Ведь я не писатель и не тайный советник, а только рядовой обыватель… Поняла ты меня?..
Лиза молча подняла на него свои голубые глаза и сквозь слезы улыбалась ему…
- Может быть, умом я и не поняла, а сердцем все поняла… - сказала она дрогнувшим, хрупким голосом и задумалась.
Они помолчали. Николай вдруг как-то особенно хорошо почувствовал себя после своего монолога. Он понял, что слова свои он говорил не столько для сестры, сколько для самого себя. И он понял сам от себя, что это так, и впервые в жизни почувствовал, что ему нет надобности куда-либо стремиться от того, что он имеет.
Сумерки обволакивали силуэт сестры, и она, склонившись, сидела молча рядом с ним на краю качалки и, видимо, о чем-то глубоко думала.
- Ну, так идем к всенощной?..
- Хорошо… - тихо сказала она и, вздохнув, направилась на кухню, чтобы сделать там остатки своего хозяйственного дела.
И шла она медленно и сосредоточенно, будто несла в себе, что-то драгоценное и боялась расплескать…
 а берегу красивой горной реки, на широком
отлогом подоле рассыпано большое и довольно опрятное селение. Много новых точно
восковых крыш, белая стройная церковь с зеленым куполом и синими главами,
каменный магазин и ряд лавок говорили о том, что в селе живут не только мирные
землеробы и охотники, не только скотогоны и пасечники, но и “люди из города”…
а берегу красивой горной реки, на широком
отлогом подоле рассыпано большое и довольно опрятное селение. Много новых точно
восковых крыш, белая стройная церковь с зеленым куполом и синими главами,
каменный магазин и ряд лавок говорили о том, что в селе живут не только мирные
землеробы и охотники, не только скотогоны и пасечники, но и “люди из города”…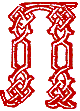 иза хлопотала с приготовлением к Пасхе. Это была первая Пасха, которую Лиза встречает в селе за последние десять лет. В фартуке, с засученными рукавами в каком-то цветном повойнике поверх волос, она разрумянилась возле удавшихся куличей. Была возбужденно-весела, звонко смеялась и боялась каждого своего промаха в кулинарном искусстве. Николай мимоходом и издали любовался ею и радовался своей нежной, братской любви к ней.
иза хлопотала с приготовлением к Пасхе. Это была первая Пасха, которую Лиза встречает в селе за последние десять лет. В фартуке, с засученными рукавами в каком-то цветном повойнике поверх волос, она разрумянилась возле удавшихся куличей. Была возбужденно-весела, звонко смеялась и боялась каждого своего промаха в кулинарном искусстве. Николай мимоходом и издали любовался ею и радовался своей нежной, братской любви к ней.