 екто, кто был мне дорог, с нежной улыбкой сказал: "Ну, теперь сам беги по траве".
екто, кто был мне дорог, с нежной улыбкой сказал: "Ну, теперь сам беги по траве". Г.Д.Гребенщиков
 екто, кто был мне дорог, с нежной улыбкой сказал: "Ну, теперь сам беги по траве".
екто, кто был мне дорог, с нежной улыбкой сказал: "Ну, теперь сам беги по траве".
Малышу три года, но он еще ни разу не ступал по траве. Ее прохладное и нежное прикосновение щекотало ноги и просто валило с ног.
Он не хочет падать, но не может удержаться, и падает, заливаясь счастливым смехом, потом, почувствовав запах земли, он тихо лежит, принюхиваясь к траве. Простота и вечность — вот аромат земли, и взрослые отравлены им.
Нанюхавшись ароматов земли, ребенок поднял глаза и увидел что-то яркое, блестящее, от чего сразу зарябило в глазах. Он потянулся, пытаясь схватить это. Но любимый голос предупредил: "Не трогай! Обожжешься. Это осколок стекла, сверкающий на солнце".
Мальчик склонился над ним и стал рассматривать сквозь осколок стекла радужную бездну, как будто бы он рассматривал сквозь малюсенькое оконце внутренности земли. Он увидел совершенно другой мир, далекий, незнакомый, раскрашенный всеми цветами радуги. Вот это солнце! Тем временем настоящее солнце весело улыбалось ему с небес, касаясь своими теплыми лучами его светловолосой головы, как бы приглашая малыша взглянуть на него.
И мальчик, подняв глаза к солнцу, зажмурился и засмеялся от необъяснимого счастья:
"Мама, ... солнце!".
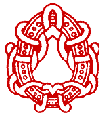 т забора соседского огорода в сторону хижины шел близкий малышу человек в красной рубахе. Он улыбался. Было так необычно и приятно видеть его улыбающимся. Даже вздернутый кожаный козырек его кепки, казалось, улыбался, как и букетик ярко-красных огоньков, прикрепленных к ней.
т забора соседского огорода в сторону хижины шел близкий малышу человек в красной рубахе. Он улыбался. Было так необычно и приятно видеть его улыбающимся. Даже вздернутый кожаный козырек его кепки, казалось, улыбался, как и букетик ярко-красных огоньков, прикрепленных к ней.
В одной руке у него была кожаная уздечка, в другой — букет полевых цветов: огоньков и диких пионов. Он подошел к крыльцу и заговорил с женщиной, сидящей на нем:
"Ну, наш Карий (жеребенок) станет сильным, он пасется на лугу с остальными лошадьми".
И протянул сыну аленький цветок. Мальчик обрадовался, что их жеребенок пасется на лугу, где растут такие цветы. Потом посмотрел на цветок — он был такой красивый. Цветок сверкал и как будто бы улыбался, его лепестки трепетали на ветру. Весь он улыбался, даже черная сердцевина, придавая, казалось, особый смысл словам, сказанным отцом и матерью:
"В цветке мед. Дикие пионы уже распустились. А стадо пасется на лугу".
Первый цветок продолжал улыбаться. "Папа! Цветок?".
"Да, сынок. Это огонек".
 крошечной деревушке, затерянной в горах, отмечали весенний праздник — Пасху. С утра до ночи звонил церковный колокол, ярко светило солнце. На узких улочках и у домов мелькали яркие рубахи, платья, платки. Хороводные песни были слышны далеко за деревней, в открытом поле, покрытом свежей зеленой травой. По полю верхом на запряженной лошади мчался босоногий мальчишка, голова, как одуванчик. В одной руке яйцо, красное, дорогое, подарок матери.
крошечной деревушке, затерянной в горах, отмечали весенний праздник — Пасху. С утра до ночи звонил церковный колокол, ярко светило солнце. На узких улочках и у домов мелькали яркие рубахи, платья, платки. Хороводные песни были слышны далеко за деревней, в открытом поле, покрытом свежей зеленой травой. По полю верхом на запряженной лошади мчался босоногий мальчишка, голова, как одуванчик. В одной руке яйцо, красное, дорогое, подарок матери.
"Эй, люди, смотрите! — кричал он, — я еду сам, без мамы!...Тпру!". Маленькие озерца вешних вод в лощинах между гор казались синими, бездонными, у мальчика аж голова закружилась. Он боялся подойти ближе, так как крошечный берег был не больше детской ладошки и обвалился бы, если бы он по нему прошел, а внизу была синяя бездна. Розово-белые и белые облака, похожие на косматого коня вверх ногами, плыли над этой бездной. Смотрите, вот плывет большое белое мягкое облако, если попасть на него, то можно лечь и плыть под колыбельную хоровода. Но в какой синий, бескрайний и незнакомый мир унесет тебя это облако? Упаду или не упаду? А мама? Лучше подождать и съесть разбившееся яйцо.
Но что это? От брошенной раскрашенной скорлупы всколыхнулась водная гладь. И сразу стало видно дно, совсем неглубокое, поросшее травой. Мальчик храбро ступил ногами в воду„а воды было по колено.
Вода в озерце пошла рябью. Синяя глубина исчезла, и где-то глубоко в душе мальчика осталось незабываемое удивление: что это было? Откуда оно взялось и почему исчезло?
Неожиданно он непроизвольно поднял глаза. Там, над голубой горной вершиной плыло мягкое белое облако, оно выплывало откуда-то из глубины, скользило по соседним вершинам, оно было похоже на старого всадника с белой кудрявой бородой, сидящего на горном хребте, как в седле.
Так впервые четырехлетний босоногий мальчик увидел небо, облака и первую в своей жизни гору.
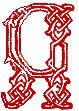 ркий полдень. Отец и мать, одетые в чистую белую одежду, в честь первого дня жатвы берут маленького сына на поле. Возможно, он уже бывал там, но не помнит. Теперь же он даже замечает, что телега увита ветвями дикой вишни, размягченной на огне и согнутой в венки.
ркий полдень. Отец и мать, одетые в чистую белую одежду, в честь первого дня жатвы берут маленького сына на поле. Возможно, он уже бывал там, но не помнит. Теперь же он даже замечает, что телега увита ветвями дикой вишни, размягченной на огне и согнутой в венки.
Черногривая серо-коричневая кобыла, запряженная между коренными, стоит чуть ближе к резвому белому жеребцу. Позади телеги носится туда-сюда, как челнок, косматый черный пес с высунутым влажным языком. Когда выехали за деревню и подъехали к первому холму, то их взорам открылись зеленые и голубые горы. Справа от холмов у громадного серого утеса что-то блеснуло, оно привлекло внимание и даже заворожило мальчика.
"Это Уба, сынок", — сказал отец мягко и в то же время значительно, указывая кнутом на серебристую синеву.
Холмы и горы сменяли друг друга, и Уба, казалось, тоже отдалялась, а потом и вовсе исчезла из вида. Тем не менее, слово "Уба", полное детской непосредственности и благоговейного трепета, навсегда осталось в душе мальчика как что-то голубое, живое, завораживающее, манящее.
Так мальчик впервые увидел родную горную реку Убу, которую никогда не было видно из деревни, ютившейся в горах. Когда он подрос, то стал забираться на холмы и любоваться веселой рекой.
С их поля, расположенного на высокогорье, горы были видны отчетливее и казались еще больше. Особенно большой казалась гора, поднимавшаяся за рекой, рядом с утесами. Она была похожа на спящего богатыря с изогнутой каменной бровью, красивым прямым носом и длинной бородой, покоящейся у него на груди. Великолепие и спокойствие этой картины, казалось, передавалось всему остальному миру — землепашцам, занятым своим тяжелым трудом, полям и лугам со стрекочущими кузнечиками и поющими жаворонками: спящий воздух в ожидании могучего и радостного пробуждения. Так казалось мальчику, когда его мать, нежная и мечтательная женщина, склонившись над серпом и шуршащей сухой пшеницей, затягивала грустную песню о чем-то далеком и светлом. Голос у нее был высокий, чистый и
чувственный. Часто случалось, что, когда он слушал мать, его сердце сжимало такое горькое сострадание, что он не смел взглянуть
на нее, потому что знал, что по ее еще свежим, теплым щекам текут слезы, обжигаемые солнцем и ветром.
В те жаркие дни жатвы мальчик не имел даже представления о ее стремлениях и мечтах, но всегда на самой грустной ноте он смотрел на гору, на голубую речку, бегущую в горах и, казалось, завернутую в радугу и подернутую рябью.
 осле трудной работы в шахте отец мальчика отдыхал на полевых работах, которые, казалось, никогда не утомляли его.
осле трудной работы в шахте отец мальчика отдыхал на полевых работах, которые, казалось, никогда не утомляли его.
На заходе солнца он, бывало, запрягал лошадь, косил свежую траву, сажал ребятишек на телегу и начинал петь фальцетом, который сливался в сумерках со стуком и скрипом колес. Он любил петь высоким голосом, подражая матери, но так как их песни были непохожи, они никогда не пели вместе. Она пела дома или в поле в одиночестве. Он же пел, управляя телегой. В памяти мальчика он так и остался навсегда — едет на телеге, вглядывается вдаль и поет песни, которые почти всегда были без слов.
Однажды, когда мальчик ехал с отцом на телеге, убаюканный его песней, малыш задремал на свежескошенной ароматной траве, согрев ее своим телом. Он то засыпал, то просыпался, и песня рисовала картины прошлого и будущего, и он чувствовал себя одновременно печальным и счастливым. Ему было жаль отца, мать и самого себя, но какой-то таинственный внутренний голос шептал, утешая его: "Ничего, подожди немного, пока вырастешь".
Затем вдруг, когда они подъехали к самой высокой горе, ребенок увидел над ее вершиной ранее невиданное чудо, разноцветное, блестящее, как будто бы там светились таинственные дворцы. Их было великое множество, близко и далеко, огромный великолепный город, повисший над горой, сверкающий разноцветными огнями и переливающийся, как радуга. С тех пор, когда бы мальчик ни проезжал мимо этой горы, он всегда щурил глаза, чтобы еще раз увидеть это потрясающее зрелище, но мог только представить радугу, которая потом всю его жизнь наполняла теплым светом.
 линными зимними вечерами, когда отец мальчика работал в шахте или когда вместе с другими мужчинами возил вагонетки с рудой, когда метели свистели и завывали над маленькой хижиной, а иней покрывал окна и сырые углы, дети собирались на полатях и слушали новые песни матери, еще более печальные, чем прежде. Склонившись над шитьем или штопкой, она сидела у стола, а песня, казалось, уносила ее в другой, незнакомый мир. Ее лицо, освещенное тусклым светом огарка свечи, было
линными зимними вечерами, когда отец мальчика работал в шахте или когда вместе с другими мужчинами возил вагонетки с рудой, когда метели свистели и завывали над маленькой хижиной, а иней покрывал окна и сырые углы, дети собирались на полатях и слушали новые песни матери, еще более печальные, чем прежде. Склонившись над шитьем или штопкой, она сидела у стола, а песня, казалось, уносила ее в другой, незнакомый мир. Ее лицо, освещенное тусклым светом огарка свечи, было
необычным, как лицо с иконы. Она пела, и ее песня уносила ее маленького сына к
голубым горизонтам, высоким горам, прежде не виденным, к озерам и рекам, долинам среди rop, где поднимались великолепные дворцы. Эти дворцы не составляли город, нет, они, казалось, стояли по одному и отличались необыкновенной архитектурой. Среди необычных людей, живших там, был один, который нравился мальчику, это был громадный храбрый всадник с копьем в руке, он скакал, как будто бы спешил на поле битвы или на праздник. Когда догорал огарок свечи, мать забиралась к детям на полати, чтобы отогреть замерзшие ноги, и рассказывала им в темноте сказки.
Ребенок жадно слушал ее рассказы, и ему казалось, что он живет в них. Когда, где и какой сказкой было навеяно видение небесного града, он не мог вспомнить, но сохранил его на многие годы.
Лунная ночь в горах. Где-то вдали поднимаются горы, освещенные луной, как неподвижные облака, висящие над землей и похожие на распахнутые крылья. У подножья, в лощине между крыльями на равнине стоит белый замок, возможно, это храм или, может быть, жилище всадника. Сквозь огромные открытые окна и двери лунный свет проникает в замок, а у входа в него и в саду стоят стражники — кедры, ели и лиственницы. Ни в самом замке, ни поблизости нет никого, но окна и двери широко раскрыты, как будто бы хозяин только что вышел и скоро вернется, но его все нет и нет, и вернется он нескоро. Всадник далеко, он скачет на огромной лошади, похожей на гору. Он похож на всадника в облаках, которого мальчик видел давно-давно. Он скачет по голубой долине среди синих rop, и горизонт перед ним прозрачен и далек, кажется, что между небом и землей есть еще одна страна, она похожа на дорогу, соединенную с нашей планетой и ограниченную горами. Эта страна тянется на тысячи километров, и все же ее бесконечность видна невооруженным глазом. Кажется, ее великолепие переходит в бесконечную песню. Мальчик боится, что песня оборвется, потому что, если она оборвется, то эта страна исчезнет, и всадник погрузится в пучину и никогда не достигнет своей цели и никогда не вернется в свой покинутый замок, стоящий на равнине и ждущий его.
Таковы мои первые детские видения и образы моей родины.
 аступила двенадцатая весна моей жизни. Запомнились две крупные обиды: с нашей старой хижины сорвало ветром крышу, а в школе лохмотья нищеты моей слишком раздражали и смешили моих сверстников...
аступила двенадцатая весна моей жизни. Запомнились две крупные обиды: с нашей старой хижины сорвало ветром крышу, а в школе лохмотья нищеты моей слишком раздражали и смешили моих сверстников...
И когда отец отнял меня из школы, чтобы взять с собой в горы за добычей леса для новой избы, я испытал первые восторги ожидания великих перемен в моей судьбе... Первая из них, конечно, новая изба, которая должна принести какую-то большую радость прежде всего матери. Ибо не было тогда ничего более желанного, как счастье и улыбка матери, которая больней всех нас страдала от нужды... А потом где-то гнездилась новая мечта — увидеть что-то новое и радостное там, за чуть видневшимися синими горами...
Добыча строевого леса в горах — тяжелая задача и длится долгие недели, даже месяцы, и на нее решаются идти только артелями.
Артель из нашего села составилась около двадцати двух колесных таратаек,.нагруженных сухарями, сушеным мясом, солью, инструментами, крепкой обувью и теплой одеждой. В каждую таратайку запряжена была лошадь в седле, и на каждом седле был всадник, одетый в особенно старую и отменно крепкую обувь и одежду. Кроме запряженных было пять запасных лошадей. Артель направлялась почти за двести верст в глубь гор и на долгие недели отрывалась от семьи, от жен и от хозяйства. На первых же переправах через Убу артель сдружилась и стала одной веселой, дружной семьей. До тех пор самые неприветливые, даже злые мужики нашей деревни стали улыбаться, помогать друг другу, балагурить, а ночью у костров и при пастьбе лошадей стали принимать участие в заунывных песнях или же во внезапно вспыхивавших буйных и веселых плясках. Здесь взрослые и старики сравнивались с малыми детьми, и даже мы, подростки, осуждали их за легкомыслие.
Начались лазурные, незабываемые дни. Все дышало смолами, цветами, чистым ветерком. И улыбались нам холмы, луга и пашни. Узкая коленчатая дорожка все капризнее виляла по склонам гор, все чаще забиралась на высоты, все круче падала в долины. Наконец пошли густые перелески, и наш обоз то приближался к берегу реки, то удалялся от нее куда-то в сторону. И с каждым выездом на берег река Уба все опускалась ниже между крутых rop и то и дело пряталась в глубокой и извилистой долине.
Бывало, день нахмурится, налетит туча, прольет дождь, и по липкой, жирной грязи обоз наш тяжело одолевает целые полдня какой-либо подъем. Слабые лошади не могут вывезти своей поклажи, некоторые сорвали себе плечи, где-то сломалась оглобля или колесо. Весь обоз надолго останавливается. Нас застигает вечер на опасном склоне. Все мокрые и грязные, на скользком косогоре весело и шумно, с шутками и смехом кое-как устраивают свой ночлег...
Подседельник — постель, седло — подушка и верхняя одежда — покрывало. Спишь и чуешь, как по лицу или по телу ползут какие-то букашки. Или с косогора прибежит дождевой ручей. Мокрые, в пару и в запахе от пропитанных лошадьми подседельников, мы жмемся друг к другу, пока чуть свет веселая команда не вспугнет:
— Эй, ребята!... Все лошади куда-то убежали...
Все вскакивают, как один, в тревоге озираются, многие бегут искать лошадей. Но кто-то от задымившего костра кричит вдогонку:
— Ку-уда вы?... Как хранцюзы из Москвы...
И все догадываются, что была ложная тревога, что разбудили для того, чтобы пораньше начать новый поход.
В долинах густой туман, но из тумана слышится ласковый лепет шаркунцев и колокольчиков и окрики дежурных пастухов...
Медленно ползут туманы по горам, все выше, выше. Вот мостом повисли через реку. Вот разорвались и в первую расщелину на косогор врываются слепящие потоки утреннего солнца...
Всем снова делается беспричинно радостно, и новый день похода, новые труды, опасности и одолевания высот кажутся заманчивыми, как веселая игра.
Вот вереница нашего обоза медленно сползает на дно узкого ущелья и переходит вброд бурную речку, потом поворачивает и идет вдоль этой речки, то и дело повисая над обрывами. Вот узловатым червячком нитка лошадей и таратаек вновь вползает в густой лес и вновь выходит на головокружительный отвесный обрыв над рекой Убой, где, кажется, одно неловкое движение лошади — и весь воз вместе с седоком загромыхает в пропасть... Но вот передовая лошадь снова вышла на зеленый луг, и где-либо на краю поляны, у опушки темно-зеленого елового леса перед нами вырисовывается маленькая брошенная на все лето хижина зверолова и охотника. Крытая берестой и глядящая двумя неровными узенькими оконцами, она, как лесная колдунья, хитро или подозрительно смеется нашей общей радости по поводу остановки возле нее на новый, более уютный и веселый ночлег.
Чем глубже проникали мы в глубь гор, тем дичей и безлюдней была дорога, тем опасней крутые косогоры и карнизы или переправы. Только на десятые сутки мы снова с большой опасностью переправились на другой берег, достигли подножия огромной горы Порожной, вокруг которой зеленел и шумел высокий, еще никем не тронутый строевой лес.
Это была дикая необитаемая местность, населенная медведями и гулким, раскатисто-певучим эхом. Наши руки, лица и губы покрылись трещинами и царапинами. Сапоги растрепались, и мы их то и дело связывали веревками. Волосы слиплись от смолы, как у дикарей. Но глаза наши, часто через слезы разных приключений, не могли налюбоваться на все то, что окружало нас в горах в течение четырех недель. Прежде всего перед нами всегда была вечно движущаяся и поющая голубая река, которая становилась серой только после ливней, когда она вдруг прибывала и, мечась в своих берегах, бешено ревела. Но как только прояснялось небо, река постепенно убывала и принимала свой сине-голубой, прозрачный цвет, такой прозрачный, что разноцветные гладкие камни на дне ее можно было все пересчитать. И тогда мы, четверо подростков и еще тридцатилетний маленький и глуповатый Тютюбайка, киргиз-пастух, пользуясь каждой свободной ми- нутой, спешили в заводи или под бучило порогов ловить удочками рыбу. И какое было счастье после многих ухищрений и хлопот поймать серебристого хариуса (форель), или скользкого налима, или красноперого, упористого окуня.
Даже самая тяжелая работа: спуск по скату или возка смолистых, пахучих и тяжелых бревен — была для нас непрерывной радостью. Едешь верхом, а за тобой тянется и звучит бревно, хрустят камни, шуршит трава, а лошадь непрерывно кланяется, отмахивая головой комаров и мошек. Едешь и непременно весело поешь. Голос звучит переливчато, откликается на.той стороне Убы и учетверенный прилетает обратно в густой зеленый и пахучий лес, уходящий сплошной армией на высокие, крутые склоны rop.
Так, однажды, сидя в седле на нашем старом Игрении, я вез бревно, привязанное к особым волокам, от которых шли оглобли к гужам и дуге моей запряжки. На этот раз дорожка шла по опасному косогору, но я все же пел и прозевал один пенек, который должен охранить мое бревно от ската вниз.
Конец бревна скользнул через пенек, и в один миг со мной что-то произошло непонятное. Я помню, что лошадь закричала не по-лошадиному и что произошел провал всего: земли, и гор, и неба... Но странное чудо!... Я продолжал сидеть в том же седле, вцепившись в гриву лошади, хотя на одной ноге у меня не было сапога и мое седло было на боку лошади... Кроме того я был где-то в колючих кустах над косогором в яме. Лошадь подо мной душилась в хомуте, а бревно висело в воздухе, зацепившись серединой за висевшее над обрывом толстое дерево. Лишь после мне рассказывали спасшие меня мужики, что не будь этого дерева, мы с Игрением должны были продолжить наш полет в восхитительную Убу с высоты не менее двухсот футов. Я даже не помню ощущения боли или ужаса, но отлично помню, что почему-то, не смея слезть со стонущей лошади, кричал единственное спасительное слово "мама"...
Как знать, быть может, именно эта молитва к матери и дух ее любви спасли мне жизнь тогда, как много раз спасали после... Во всяком случае этот полет в пропасть и это чудесное спасение оставили в душе моей глубокий след как знак особого ко мне благоволения гор.
Когда весь лес веселыми грудами лежал на гальках берега, началась самая горячая работа по составлению и скреплению плотов. Самые крепкие мужики, бродя по пояс в быстрой воде, принимали бревна и, борясь с волнами, подводили их в стройные ряды, тогда как другие, стоя на двух бревнах, быстро скрепляли их жгутами из крепких прутьев акации и, заклинивая тесаными поленьями, прочно подтягивали к следующей паре бревен.
Помню, было яркое утро, когда в безлюдии реки внизу показался идущий в лодке на шесте вверх по течению высокий бородатый мужи
к. Я и раньше видел, как мужики ходят в лодке на шесте против течения, но на этот раз даже все наши мужики бросили работу и залюбовались, как этот человек, точно играя шестом, скользил против быстрых, зыбких волн реки.
В белом холщовом длинном кафтане с красной оторочкой по краям и на воротнике, с красными ластовицами под рукавами, он был еще не стар, но бородат, и войлочная шляпа, скатившись на затылок, открывала его смелое, суровое, открытое лицо. Проходя мимо плотов почти по середине реки и борясь с волнами, он зычно крикнул на берег:
— Здорово, мужики. - Здравствуешь ты, Викул Спиридоныч, — дружно ответили мужики. Это был богатый старовер, имевший выше горы Порожной пасеку и заимку, и в одно из воскресений некоторые наши мужики приносили с его заимки свежие калачи, туесья с простоквашей и мед (вспоминая теперь этот мимолетный образ, я могу с уверенностью сказать, что именно этот момент был первым зерном моей эпопеи "Чураевы"...).
В то время, пока плотились плоты, все лошади отдыхали и паслись на лугах. От изнурительной работы все они были худые, с высунувшимися ребрами, многие хромали, у многих были раны на плечах и спинах. Вид у них был жалкий и унылый. Но вот прошло три дня, плоты были почти готовы, и лошади поправились и повеселели. Для нас, подростков, наступило самое торжественное утро.
Под командой Тютюбая мы должны были гнать всех лошадей домой, за двести верст, через дикие леса и горы.
Весь тяжелый груз, двухколески и сбруя поплывут домой на плотах, а на лошадях остались только узды да колокольцы или шаркунцы и ботало на шеях.
Мы, пять всадников, с мешками за спиной, с небольшими тючками позади седел, уже простились с нашими отцами, и весь табун лошадей под крики, гиканья и свист всех мужиков стали силой гнать через реку. Но, лошади, боясь быстрины и глубины, не шли, некоторые выбегали на берег. Только когда наш старый Игрений понял и отважился первым поплыть на противоположный берег, за ним поплыли другие лошади, а после всех должны были плыть на наших лошадях и мы, юные всадники. Трудно передать эти минуты страха и отваги, когда на берегу остались кричащие и хохочущие мужики и когда на другой берег уже выходили первые лошади нашего табуна, а мы, богатыри, отважно погружались в ледяную, пенившуюся реку.
Я плыл в седле, весь отдавшись воле Божьей и благословляя и безмерно любя в эту минуту свою лошадь, за гриву которой я держался. И никогда больше не переживал я большего восторга и упоения своей отвагой.
Наконец копыта лошади стукнули о гальки, и я, сброшенный течением, повис около стремени, цепляясь и карабкаясь в седло.
Не слышно было, что кричал с оставленного берега отец. Но помню, что солнце так ослепительно играло на воде, и так изумительно торжественна была минута. С меня и с лошади текла вода. Стараясь быть наст
оящим всадником-богатырем, я поскакал по каменистому берегу вслед за товарищами и за повисшей на первом обрыве вереницей блестящих от воды лошадей.
Еще минута, и первое ущелье скрыло от нас длинную ленту восковых плотов, и мужиков, и реку... Мы были предоставлены сами себе или судьбе, вернее — передовому лошадиному вожаку, старому Игреньке, который уже много раз бывал в лесу и хорошо знал тропинку, ведущую домой.
Невозможно описать всей красочности и лазурности тех радостных дней и ночей, выдавшихся без единого дождя...
На двадцати пяти лошадях звенела музыка из двадцати пяти различных шаркунцев, колокольцев и ботал. Мы пели непрерывно и каждый свою песню. Мы любовались всем, что нам встречалось. Мы любили всех и все на свете, а главное, друг друга и в особенности самого малого из нас ростом, но самого доброго и самого заботливого киргиза Тютюбая... Он так забавно лепетал по-русски, так смешно пел по-киргизски и так самоотверженно пас лошадей ночью и седлал для каждого из нас рано утром новую лошадь.
Много было разных приключений. Много было слез, когда однажды Игрений, спутавши тропинку, завел нас куда-то в дикое ужасное ущелье, где должны были нас съесть медведи... Но еще больше было радости, когда, одолев все дикие перевалы и опасные переправы, мы, не потеряв и не изуродовав ни одной лошади (в чем и заключалась наша задача), на четвертые сутки увидели широкие просторы наших родимых предгорий.
Пригон из леса лошадей в деревню — целое событие. В последние минуты мы держались как испытанные победители. И гнали лошадей галопом. Звон двадцати пяти звонков всполошил и поднял на дыбы всех деревенских собак. Десятки женщин и детей выбежали нам навстречу... Ведь мы же привезли с собой весть о том, чтобы послезавтра все жены и дети со свежими шаньгами и калачами, с чистыми праздничными рубахами для мужей выезжали на берег Убы...
Ровно через два дня там, вдали, на плесе у скалы Целиковой сопки должны показаться первые плоты трудно доставшегося строевого леса...
На плотах будут развеваться из старых, порванных в лесах рубах особые флаги. По этим флагам каждая жена узнает своего мужа...
И событие встречи вырастет в большой весенний праздник... Так свершилась самая большая радость моих отроческих дней. Не будь ее, быть может, весь Алтай прошел бы мимо моей души. Захваченного на прозаических равнинах тяжелой борьбой за жизнь, меня, наверное, не поманило бы с такой силой в родные горы. Именно эта радость детства напитала дух мой и преобразила всю мою дальнейшую судьбу.
 рошло еще двенадцать лет, как целое столетие, и бывший нищий мальчуган стал богатым и цветущим юношей. И в горах Алтая он появляется уже как управляющий золотыми приисками одной из крупных компаний. В Сибири, как и в Америке, возможны подобные превратности судьбы.
рошло еще двенадцать лет, как целое столетие, и бывший нищий мальчуган стал богатым и цветущим юношей. И в горах Алтая он появляется уже как управляющий золотыми приисками одной из крупных компаний. В Сибири, как и в Америке, возможны подобные превратности судьбы.
В это время в городе Усть-Каменогорске один из самых лучших домов был моей квартирой. Кроме двух троек для разъездов по приискам, у меня был чистокровный вороной рысак и иноходец — для разъездов в городе. В рабочем кабинете у меня был несгораемый шкаф, и откуда-то явилось привычное небрежное умение считать рубли на тысячи.
В то время, и в особенности в 1907 году, с прогремевшей славой рудника Удалого на южном Алтае, по левую сторону течения Иртыша, была особенная золотая лихорадка.
Но странное дело. Несмотря на свой азарт найти и заявить побольше новых площадей для нашей компании; несмотря на то, что я руководил просечением новой штольни (хотя и не был горным инженером); несмотря на то, что я спешил с окончанием новой золотопромывальной фабрики (хотя и не был архитектором) — я в этот год острее, чем когда-либо, носил в себе мечту, взлелеянную детской сказкой. Она жила во мне и вырастала в пламенное беспокойство, изредка выливаясь в слабые стихи или в восторженные письма к другу. Помню, как однажды, в чудный день перед закатом, мой экипаж поднялся по извилистой кочевой дороге на одну из командующих вершин Джумбинского плоскогорья... Я оглянулся вокруг и увидел, что на все четыре стороны уходят зачарованные волны гор, зеленых, лесистых и безлесных, мелких от травы или мохнатых от лесов, причудливых от скал и кучерявых от облаков. Да, это была та самая дремлющая и необитаемая синяя страна, в которой где-то тут, у стыка гор, должен стоять чудесный богатырский замок...
Предзакатное солнце осветило далеко на северо-востоке выглянувшее из-за синих гор белое облачко. Оно было похоже на два острых девичьих сосца и было также бело-розово в лучах предзакатных. Я вгляделся и увидел, что это две луки окованного серебром седла, и конь-гора — голубой, цвета голубя, масти, как часть иной земли стоит за зубчатыми горизонтами... Да, да, это тот же самый конь — первое видение детства, но где же всадник? .. Где богатырь великий? .. Где ходит он, оставив свой замок и коня? ..
И выплетались новые узоры новой сказки и наивно-дерзких упований. В том же году, в том же месяце июле дух беспокойства увел меня от золотой карьеры, и были широки круги моих новых скитаний и исканий по земле. Я увидел Россию и Москву, я был в Италии и Франции и остатки своего богатства отдал своему большому другу для проигрыша в Монте- Карло. Из Франции судьба закинула меня на Кавказ, а оттуда я уехал искать первых литературных удач в Петербург...
Но холодно приняла столица полудикого пришельца из Алтайских гор, и горы вновь позвали меня, как ласковая, всеутешающая мать.
И начались мои скитания по горам. Густой паутиной перепутий и тропинок увиты все долины и кручи гор, и плелась, плелась сказка дум, и вымыслов, и былей. Лишь изредка спускался с rop, чтобы упиться вольными просторами сибирских степей. Но сизо-голубое кружево из rop на северо-восточном горизонте лелеял в своем сердце, как вечный град, обетованный и взыскуемый восторженной душой моей.
 астала страдная пора жизни. Но где бы ни был, что бы ни случилось горького и тяжкого, какая бы ни окружала пасмурная осень или суровая зима — в сердце всегда живет и согревает светлая мечта:
астала страдная пора жизни. Но где бы ни был, что бы ни случилось горького и тяжкого, какая бы ни окружала пасмурная осень или суровая зима — в сердце всегда живет и согревает светлая мечта:
— Вот придет весна и — в горы... В воображении рисуются узоры гор, сине-белые зубцы с нанизанными жемчугами облаков и целая симфония надежд.
И так и было. Лишь начинался май, из Томска или из Петербурга ехал в Барнаул. И здесь уже хранились у приятеля: испытанная легкая телега, сбруя, котелки, таган, седло, палатка... С парохода шел прямо на конный базар, выбирал пару простых крепких лошадок, и через два-три дня, нагруженный всем необходимым, выезжал на большой Змеиногорский тракт...
Верст десять путь идет красивым, ярко-зеленым сосновым бором, а там выходит на раздольную равнину, по которой на сто верст вокруг развертывалась свежая пахота, с песнями пахарей, с мелодичным ржанием точеных и упруго-гибких жеребят, с непрерывным щебетанием равнинного певца — жаворонка...
И так от балагана к балагану, от села к селу, не спеша, дыша всей rpyдью, все и всех любя, вольный и ни от кого не зависимый, с десятками рублей в кармане, но с самочувствием миллионера, бывало едешь двести, триста верст на юг, границей гор и степи, пока какое-либо синее ущелье не заманит на неделю погостить у родных или друзей...
Чаще всего ехал навестить отца и мать, побыть на пашне возле братьев и на огороде возле сестер, послушать жалобы стареющих дядей и теток, погрустить на кладбище у какого-либо нового креста над недавно отошедшим старым человеком, побродить по знакомым холмам, поаукать над заброшенными, завалившимися шахтами, из которых так настойчиво и звонко отвечает все тот же голос, с которым перекликался еще в детстве...
И снова, хотя мать с тоской в голосе упрашивает погостить еще, взор тянется к голубой Убе, к ее ущельям, и дальше, глубже, выше в горы. Иногда колеблешься, куда ехать: прямо, направо или налево? Всюду хорошо и всюду хочется побыть в конце мая, в начале самого буйного цветения бесчисленных алтайских цветов...
Едешь между rop, по той сочной и живописной проселочной дороге, по которой еще в детстве начинался путь в леса, в верховья Убы, и вдруг ре шаешь и поворачиваешь влево, по отлогим холмам к чудесным, почти сказочным скалам и озерам Колыванского лесничества, где величаво стоит на страже юго-западных предгорий легендарная гора Синюха.
И начинаются дни, полные каких-то пьяных, солнечно-лесных и травяных очарований. Лазурны думы на берегу Белого озера. Незабываема охота на опушках сосновых и еловых лесов за тетеревами и перепелами в конце июня. Нескончаема песня души на широких лугах в соседней степи.
Но дымчатые горы неотвратимо тянут в глубь, к прелести альпийских высот и к той убогой, первобытной жизни, которой живут обладатели этих красот — алтайцы.
На этот раз я избираю себе путь вверх по долине Чарыша до Тюдралы, а, может быть, и дальше, смотря по обстоятельствам и по погоде.
Я выезжаю по направлению к устью реки Белой. Видавшая виды тележка хорошо починена, хотя постанывает колесо, многозначительно потрескивают дроги. Пара гнедых, отгулявшихся на сочных травах, бойко рысит по глубоким колеям проселочной дороги.
Погода ясная и тихая, после дождей воздух чистый и звонкий, краски яркие, ласкающие. По краям дороги еще много высокой и густой нескошенной травы, густо засеянной цветами. Но много травы скошенной, она лежит увядшими рядами и благоухает ароматом свежего сена.
Сенокос в разгаре: всюду разноцветные рубахи, юбки, фартуки, платки, кое-где растут стога, сверкают косы, тают звонкие голоса, пущенные вольной грудью.
Я еду легкими холмами, и красавица Синюха с пышными лесами у подола долго провожает меня, все гуще покрываясь синевой, все величавее командуя над широким раздольем предгорий.
Вскоре влево развертывается необозримая гладь равнин и синеватой линией далеко примыкает к небу. Первое время кажется, что я еду не в глубь Алтая, а к этим далеким горизонтам прозаической равнины. Но вглядываешься вправо, и снова — во власти горных Тигирецких высот с обширными полями вечных снегов. И так я долго еду гранью между необозримых равнин и недоступной горной грядой, пока глубокая и капризная долина реки Белой не поглотила все, спрятав за собой оба царства. Как будто она одна хотела захватить мое внимание своей кристальной голубой водой, таинственным говором и совершенно белыми, выстланными гладко отшлифованной галькой берегами... Вблизи от ее устья на правом берегу в живописном беспорядке расположена русская деревня — Усть-Белая. Мой путь лежит мимо нее. Паром стоит без перевозчика — "г
уляет". На этой стороне заимка, у заимки баба с ведрами, высокая и загорелая; густым и важным голосом советует:
— Теперь она обмелела, вон там ниже-то бродят...
Я постоял, подумал. Затем подобрал ноги, подобрал вожжи и направился в реку. Вода закипела у самых дрог, а лошади, запинаясь о гальки, неуверенно резали своими крупами светлую быстрину реки. Вода хлынула в кузовок тележки, и я очутился в кипучей, шумной волне. Но лошади рванули от испуга и вынесли на берег.
Проверив, что подмокло, что оборвалось, что сломалось, я вскоре направляюсь дальше к длинному подъему на горы.
Надвигался вечер, а в девяти верстах от деревеньки предстояла страшная гора Плакун. Плачут на ней люди — слишком высок, крут и опасен там подъем.
Поэтому необходимо было выбрать такое место для ночлега, чтобы был и корм для лошадей, и вода близко, и, по возможности, люди.
Дорога ползет все в гору, извиваясь между покосов и хлебов, которые здесь раскинуты на крутых, высоких склонах и висят, как развешанные для просушки зеленые шелковые ткани.
На одном из холмов распутье и косцы, а подле них палатка, ручей, зеленая лужайка.
По заведенным здесь обычаям допрашивают: кто, куда, зачем — и разрешают ночевать.
Через полчаса я чувствую себя, как дома, и хозяев покоса принимаю у себя в палатке как гостей, Они делаются более приветливы. Видя, как я быстро распрягаю лошадей, разбиваю стан, готовлю ужин, они хвалят мою расторопность, щупают палатку, спрашивают о цене ружья, седла, о том, о сем...
У ярко запылавшего костра за общим ужином мы в дружеской беседе провожаем солнце, встречаем влажные сумерки, а вскоре и луну, которая тихо шествует по вершинам гор, как бы подсматривая за спрятавшимся солнцем.
А ночь так хороша, и так причудливы лунные светотени, что мне особенно приятна роль пастуха и конюха...
Обычная музыка ночи — отчетливые кастаньеты перепела, густой, немного хриплый басок коростеля, и вкрадчивая, почти непрерывная трель гремучих змей, всю ночь перекликающихся между собой, — навевают тихую полудрему-вдумчивость. Воспоминания и мечты, надежды и красивые желания, как радужные нежные видения, встают и плавают вокруг, и все реальное и грубое окрашивается в фантастические краски, и сама жизнь куда-то отступает, оставляя место лунно-звездному очарованию и тихому созерцанию, близкому к небытию. И вновь встают и воскресают детские грезы, и подвешенный невидимыми нитями горный град из радуг, и уезжающий в иные синие миры всадник-богатырь... И пустынный замок под защитой приподнятых великих крыльев-гор.
Всю ночь я брожу по росистой траве. То сажусь на теплые камни, то подолгу неподвижно стою у лошадей и молюсь без слов, пою без звуков, сплю с открытыми глазами, думаю без мысли...
И засыпаю лишь с восходом солнца, когда наевшиеся и напившиеся лошади улеглись в траве возле прикола. Я сплю и вижу сизо-лиловые громады гор, похожие на грозовые тучи; они далеко впереди молчат и зовут, и мне кажется, что я протягиваю к ним руки и руки мои делаются крыльями... Я взмахиваю ими, отрываюсь от земли и лечу к горам легко, и плавно, и беззвучно... Только воздух мягко шелестит мимо меня и шепчет что-то в уши...
Это утренний ветерок прокрался под палатку и гонит мой короткий сон..
 авно где-то покинут мой экипаж, оставленный у предела колесной проселочной дороги. Одна из лошадей надломила копыто и, хромая, оставлена на попечение в глухом скиту у старого пчеловода.
авно где-то покинут мой экипаж, оставленный у предела колесной проселочной дороги. Одна из лошадей надломила копыто и, хромая, оставлена на попечение в глухом скиту у старого пчеловода.
Суров и молчалив мой спутник Агафон. С большой черной бородой в кошемной шляпе и крепком домотканом зипуне он едет впереди меня, точь- в-точь как "едет по лесам дремучим, хлеба кус жуя, Богатырь зело могучий Дедушка Илья".
Мы уже перевалили много высот с альпийскими цветами и болотами и попали в те места, где ютятся редкие заимки звероловов и охотников. Здесь настойчивые россияне, побеждая зверя, нашли для себя новый выгодный промысел — разведение горных оленей, рога которых они доставляют и продают в Китай на вес серебра.
Странное чувство испытал я при виде табунов этих прекрасных диких пленников, которые на Алтае имеют свое название — "маралы".
И никогда я не забуду историю одного горного оленя, рассказанную мне простой женщиной и преломившуюся в моем воображении как глубокая символическая сказка-быль.
Передам эту быль так, как она отобразилась в моем сердце: "Был на исходе март.
Твердый снежный наст не стал держать острое маралье копыто. Только по утрам снег был тверд и надежен.
Но молодых неопытных зверей манило из-под заиндевевших кедров на южные склоны гор, где уже вытаяли прошлогодние бурые травы.
Спрятав девятимесячного детеныша у ствола листвяги, на таком же, как маралья шерсть, саврасом ковре из старой хвои, марал с безрогой своей подругой вышел на опушку леса и, вытянув шею, чутко насторожился, осматриваясь...
Где-то близко бормотал тетерев, а далеко внизу синела наледь горной реки. Медленно падали с хвойных ветвей крупные хлопья инея, и сверкала на солнце поверхность крепкого снежного наста.
Самка повернула голову назад, где остался сын, и раздумчиво стригнула длинными острыми ушами, а марал стоял неподвижно и слушал. Казалось все благополучно.
Снизив точеную, с темными подпалинами голову, он положил тяжелые ветвистые рога себе на спину и стрелой скользнул вниз, словно на лыжах. Его подруга, как тень его, не отстала ни на шаг, она беззвучно и легко, как воздушная, неслась с ним рядом, еле касаясь острыми, тонкими ногами снега. Вместе, точно в легком танце, перепрыгивали через старые, поваленные деревья, через черные незастывающие горные ручьи, через крупные, поросшие мхами, камни. Прыжки их были так легки, что на снегу не оставалось даже оттисков копыт.
Скрылись за семьей пихт и снова замерли на месте, словно высеченные из камня. Черные, выпуклые глаза искрились от снежного сияния, а из расширенных ноздрей вылетали тонкие струи пара, будто выбрасывались и растворялись в воздухе острые, серебряные мечи. Никого не было вокруг. Успокоились и стали щипать стебли старых диделей.
Так паслись до полудня. В полдень пригрело солнце. Немножко вздремнулось у теплых стволов. Он задел нечаянно ветви кедра, и с них посыпались крупные, холодные капли. Встряхнулись и отошли на снег. Но снег уже не держал. Легкими прыжками отпрянули назад и покосились друг на друга. Он вздрогнул, заметив в ее глазах тревогу. Почуял что-то и еще вздрогнул, насторожился. Издалека долетел собачий лай. Близился. Метнулись в глубь леса. Он остановился, а она стрелой унеслась в горы. Так было надо — там сын, прикрытый старой хвоей.
Собаки лаяли совсем близко, по следам. Выбежал на снежную поляну и, ныряя по ней, вихрем понесся вниз, удаляясь от преследующих звуков. Вслед, вместе с лаем собак, гнались человечьи голоса. Снег рыхлел все больше, холодил и смачивал бока, мелким бисером унизывал шерсть...
Убегал без мысли и пути, куда несли ноги, застревал в чаще, оставлял клочья шерсти на сучьях и на пнях, падал в рытвины и ворошил снег в высоких травах. И долго так бегал, влажный от пота и снега, выбрасывая белые мечи из ноздрей и оберегая свои красивые рога.
Падали в рвах и сугробах собаки, падали взмыленные, изнуренные на доступных косогорах лошади, кричали люди в разных концах леса и взвизгивали лыжи, попадая со снега на камни. Опасность окружала, затягивала петлей, несла безумное отчаяние уверенно и неизбежно.
Он терял свет и сознание, терял дорогу и солнце, а злоба собак росла вместе с хищной выносливостью людей — охотников. Если бы подстыл снег — у него еще хватило бы силы уйти от погони, но снег рыхлел все больше, и он терял силы и легкость ног и терял надежду на спасение.
Застряв в густом кустарнике рогами, утонув в снегу, он покорно ждал смерти и, когда за шкуру уцепились псы, не издал ни одного звука. Только широко раскрытыми глазами жадно смотрел на раскинувшиеся внизу и наверху лесные дали, но не видел там ни сына, ни стройной подруги своей. С благодарностью и не моргая посмотрел на ярко-огненного тепло-золотого бога в небесах и затаил дыхание... Вот сейчас раздастся оглушительный стук смерти. Пусть... теперь все равно... Но где теперь она, таящая в глазах молчаливый ужас прощения?.. И вдруг опять, вместе с вырвавшимся вздохом, помаячила надежда: рвануться. Уйти?!
Рванулся, но веревки оскорбительно и больно потянули за рога точеную с подпалинами голову. Вдруг осердился, бросился на человека, хотел выбить ему сразу оба глаза — эти страшные препятствия к свободе — но веревки перекручивали шею, ноги, и на него со всех сторон, с криками, с остервенением навалились победители.
— Вот она и смерть... Но нет, не убивают. Мучают и наслаждаются победой, но не убивают. Связали еще крепче, взвалили на салаги, сделанные из лыж, и повезли куда-то на мучительную, медленную смерть...
Прошло лето. Вблизи зеленеют сочные алтайские леса и травы. Вдали маячат синевой склоны горных далей. Победно ходит солнце, сияют вечные снега на заоблачных высотах. С них шумно и певуче падают в ущелья белые потоки. По утрам дымятся горы, кудрявыми парусами над ними гуляют облака, и потихоньку шепчется о чем-то с ветром хвойный лес. Цветут луга, умытые чистыми росами, и стройной гармонией поет насекомое и птичье царство.
По склонам и косогорам узловатыми узорами раскинуты маральи сады — жердяные изгороди. А в них целые табуны саврасых маралов. Они все ходят около изгороди, вдумчиво посматривают в голубые дали, на волю, в зовущие дымчатые горы и леса и ищут выхода. Около изгороди от постоянного хождения — торная тропа. Лишь изредка, когда за городьбой близко появится человек, все тесным табуном, беззвучно и легко, как во сне, несутся прочь от городьбы и поодаль, на середине обширного сада, застывают, недвижные, высоко подняв красивые, с настороженными ушами головы.
Один из них, самый стройный и легкий, с огромным кустом рогов пугливее и дичее всех. Это он пойман в марте. Он ходит все время один. Его семья осталась в лесу. Еще рано петь любовные песни, но он поет их длительно и переливно. Он все зовет свою подругу и маленького сына. Все хо дит у изгороди и ищет выхода. Но не идет его семья, и нет выхода из тесноro пригона.
На закате солнца легкими прыжками отбежит в глубь сада, выстроится там наедине и, вытянув шею, запоет свой тоскующий призыв... Долго слушает переливчатое горное эхо и так стоит, очарованный печалью своего ожидания. Стоит, пока влажные сумерки не затмят румянца зари, пока не заструится небо золотом далеких звезд.
Оттого, что мало ел и пил, был худ и легок, как птица. Иногда вспоминал свой страх при погоне, укусы собак и крики людей, и точно вновь кто-то гнал его к смерти, срывался с места и носился по саду быстро и дико. Приводил в смятение других и не знал, где спрятаться.
Однажды утром, пока соседняя гора осторожно подбирала раскинутую на маральники голубую тень, к саду подъехали верхом на конях люди и, спешившись, вошли в него.
— Вот теперь уже окончательно раздастся стук смерти... — И как сама испуганная мысль, впереди всех в тоскливом страхе пленник носится по саду.
Да, люди хотят изловить именно его. Они стали его первым гонять по саду, стараясь отрезать ему все пути и выходы.
Его рога стали тяжелыми от переполнившей их горячей весенней крови, но он легко держал их на голове и не хотел бежать в предательский жердяной открылок: знал, что в конце него — тесная ловушка — двор, и там ждет стук смерти... И носился по саду вдоль и поперек, готовый защищаться до последнего издыхания.
Люди злились, бросали петли на рога и на ноги, становились с укрючи- нами поперек его пути, но он, положив рога на спину, ускользал от них и носился по саду, как молния. Тогда люди бросились к нему толпой, с жердями и веревками и, прижав его в угол, решили придавить к земле, насесть на спину, изувечить, но срезать драгоценные рога.
Но он метнулся, изловчился, боднул рогами, ушиб ловца и ринулся через толпу врагов. И прыжок его был так быстр и легок, что, казалось, он полетел по воздуху.
Вырвался из толпы людей и понесся вниз по косогору, прямо на высокую изгородь. Но добежав, метнулся вправо, влево и на одно мгновение замер на месте, присел, спружинил ноги и отнялся от земли... Померкнул свет, мелькнули горы и леса, а тонкие ноги четко брякнули об изгородь копытами. Упал на колени, сунулся мордой о твердый косогор, но, почуяв волю, быстро выпрямился и помчался прочь, растаяв в горах, как легкое видение.
Наступил сентябрь.
Осень с задумчивой улыбкой ходила по горам и по лесам и раскрашивала их в золотисто-оранжевые цвета. Обрывала листву, клонила травы, застилала желтым и пахучим ковром землю, пудрила безлесые вершины первым снегом.
Уже прошла пора маральих песен, уже медовый их месяц август истек, и маралы-самцы равнодушно ходили возле своих жен, не произнося ни звука. Все они были безрогие, с тупыми корнями рогов, похожими на старые пни, с понуро опущенными к корму головами.
Но вот в одно раннее утро в сады с далеких гор донесся протяжно-трубный звук. Маральи жены подняли головы и, качнув ушами, прислушались. Маралы ревниво покосились на них и насторожились. Звук повторился и пронесся над садами, как печальная песня одиночества. Она приближалась и росла, и вскоре на горе, близ сада, с высоко поднятыми, звонкими рогами нарисовался беглец...
Теперь он пел отчетливо и звучно, призывая свою потерянную и не разысканную семью. Зорко всматривался в сады на чужих детей и жен и длительно и мерно повторял звук своей печали. А люди, услышав его голос, спешили седлать самых ретивых коней для новой погони. Марал почуял это, положил сухие, легкие рога на спину и снова понес свою тоскливую, запоздалую песню в горы".
 аступил август. На высотах холодно и блистательно-светло. Многие вершины покрылись обширными полями нового снега. Но мы настойчиво одолеваем высоту за высотой и попадаем, наконец, в то новое для меня царство древнего алтайского племени, которое наводит уныние своей реальной действительностью, но которое восхищает и возносит своим духовным устремлением в иные, надземные миры.
аступил август. На высотах холодно и блистательно-светло. Многие вершины покрылись обширными полями нового снега. Но мы настойчиво одолеваем высоту за высотой и попадаем, наконец, в то новое для меня царство древнего алтайского племени, которое наводит уныние своей реальной действительностью, но которое восхищает и возносит своим духовным устремлением в иные, надземные миры.
Я впервые присутствую на камлании знаменитого шамана, и мелодии совершавшихся мистерий как бы раздвинули передо мной завесу и открыли частицу того самого мира, который грезился мне только в сказках.
Под слабые, наивные песни, под плавные, с неуклюжим прыганьем пляски развертывалась мистерия алтайского камлания и вставала как невиданное зрелище, как чудесная поэма в неслыханной доселе опере.
Эту поэму невозможно описать и передать словами. Но я попробую дать приблизительное представление о самой мистерии шамана, уносящегося в своем молитвенном экстазе за пределы реального бытия.
У корней двух могучих лиственниц, как у створа огромных железных ворот, построенных между двух склонов скалистого ущелья, сидит Бахса-певец, сказитель и мудрец. На бронзовом его теле овчины, на ногах, подогнутых под себя, кисы (обувь) из оленьих ушей, на голове высокая, клиноподобная меховая шапка, из-под которой сзади крючком торчит черная и жесткая коса. В зубах трубка, в руках двухструнная домра. Раскосые глаза, широко раздвинутые плоской переносицей, прищуренно и полудремотно смотрят вдаль, как будто через горы и леса он видит что-то ему одному понятное. Сиповатым, разбитым говорком он бесстрастно журчит:
— Я пою: эй, эй, люди, сорок племен угнетающие, слушайте и молчите — я правду пою. Я заклинаю, я усыпляю песней самого Эрлика, неукротимого бога подземелья, неумолимого духа мести, от тысячелетних дымов черного, от безмерной ярости косматого. Вот я пою, я пою, я заклинаю, я усыпляю песней моей Эрлика. Эй, люди, сорок племен угнетающие. Молчите и зажмурьтесь: я открываю ворота к светлому престолу Ульгеня, моего крылатого бога покоя, ленивого духа радости, слепого от доброты своей и потому вас милующего... Эй, алтай-кижи, сорок времен ожидающие, молчите и зажмурьтесь... Молчите... Я пою!..
Он смотрит вдаль, и под его песню как бы открываются врата, обнаруживая ослепительный склон Алтая. Вдали, на бирюзовом фоне неба, точно выкованная из серебра — вершина Чуйских ледников. Из них, как по старческим морщинам слезы умиления, по ущельям скользят перламутровые водопады, образующие вдали влево лиловую долину величайшей алтайской реки Катуни. По подолу белых гор, как эмалевые инкрустации, нанизаны вершины кедров, лиственниц и пихт, а ближе, смягчая очертания и краски, большими семьями сбегают по склонам темно-бурые предосенние леса, оранжевые осины, пунцовые рябины и ярко-золотистые березы. Березы, как бесчисленное множество танцовщиц в золотых, развеянных от вихристого танца платьев, вдруг замерли на одной, высоко оголенной белой ножке. Как будто горный дух околдовал их. Потому что посреди них на поляне с только что примятой, но еще свежезеленой отавой, совершается самый торжественный и последний момент камлания — благодарственное моление за выздоровление знатного богатого алтайца. Потому и собрание гостей особенно многолюдно. Здесь много почетных гостей и бедноты, собравшейся попировать после камлания.
Уже снята шкура с жертвенного коня буланой масти и висит на длинной жерди головой к востоку и вверх, хвостом к западу и вниз, изображая скачущего в небеса коня. И жертвенное конское мясо давно кипит в котле, который устало лижут языки догоравшего костра. Уже произведено обрызгивание свежей аракой (вино из молока) огня, земли и воздуха. Уже исполнено шаманом "многое-много" молитв, мистерий, плясок и полетов. Остался самый важный и великий полет к Ульгеню. Вокруг костра широким кругом, с трубками в зубах, в лисьих и собольих шапках, в овчинах и расшитых чегедеках (шубы) или полуголые, неподвижно сидят гости и хозяева, а среди них в кругу, в полном одеянии, устало замер с высоко поднятым бубном, переполненный экстазом и умолкнувший шаман. Маленький седенький старик с редкой бородой и закрытыми глазами, он отягчен тяжелыми священными одеждами, знаменующими книгу Вселенной.
Как неизбежный и несменяемый сопутник всех народных празднеств, Бахса-певец вечно бодрствует, хотя и всегда в полудремоте. Он снова поет.
- Я пою: молчите, слушайте и смотрите люди всех племен... Молчите, — шаман поднимается.
Шаман делает зыбкое и легкое движение вправо, потом влево, негромко ударяет в бубен и произносит еле слышно, как стон спросонья:
— Ок-пуруй! — и гордо поднимая голову, но не открывая глаз, торжественно шепчет:
- Мой конь стоит передо мной, буланый, созданный из дыхания Ульгеня, солнечных нитей, горящих углей и молочного пара. — Усиливая и затягивая слова, шаман продолжает мистерию:
- Я, шаман Карамес, сын сынов и внуков первого великого шамана, обманувшего самого Эрлика, я говорю: седло на моем коне из утреннего ветра. Подпруги сплетены из молний. Узда из радуги и зорь вечерних, ок-пу-руй! Ок-пу-руй!... Хвост и грива из облаков кудрявых, что надышала в эту ночь Катунь. Глаза коня, как горные озера, таинственны, ясны и глубоки... Ок-пуруй! Копыта у коня, как яшмовые горы... Мой надежен, верен конь!
Шаман все повышает голос. — Я смело поднимаю от земной пыли подол моих одежд... Я ставлю ногу в стремя, звонкое, как крик марала в августе. — Ускоряя пляску, расширяя ее круги, шаман поет уже полной грудью:
- Ок-пуруй! Ок-пуруй! Я сел на моего коня... Я взялся за поводья, мягкие, как косы молодой невесты. Я припадаю к его шее, мягкой и душистой, как летние травы... Вот я закрыл глаза... От сладости материнского баюканья я закрыл глаза... Буланый конь галопом зыбким меня укачал... Ок-пу-руй! Буланый конь понес меня на небеса... К Ульгеню! .. К Богу светлого покоя, к Богу радости, к Богу голубых видений... К Богу ленивых снов... В бесконечность неба... Ок-пуруй! Земля осталась глубоко внизу, и я, как в горностаев мех, закутан в гриву. Как зайчонок в гнезде из пуха матери, я утопаю в теплом, ласковом, певучем встречном ветерке... Ок-пуруй! Я, шаман Карамес, говорю: буланый конь несет меня на небеса, к сиденью Ульгеня, к сколоченному золотыми гвоздями синему престолу. Не смею глядеть, но вижу: сидит и дремлет Ульгень... Ок-пуруй! Мой конь несется все быстрее и быстрее. Он прыгает со звезды на звезду, и от яшмовых копыт его звезды разлетаются в куски и падают осколками в разные стороны... Вот их много-много, как дождь при солнце... Ок-пуруй! Берегись земля — осколки звезд льются уже потоками — Буланый конь пересекает млечный путь... Вот я совсем ослеп от света, хоть
и не открывал еще своих глаз, я совсем близко подъехал к Ульгеню... Вот он, Ульгень, вечно празднующий и веселый, с белой бородой, как вечный снег Алтая... Ок-пуруй! Я, шаман Карамес, говорю: я не смею открыть глаза, но вижу: Ульгень прищурил от доброты и усмешки синий глаз один и сказал мне. — Шаман говорит и пляшет все тише, изнеможеннее.
— Сказал Ульгень: "Привяжи коня за кол золотой", — и показал на середину неба, на самую яркую, на полярную звезду.
Я привязал коня и пополз на животе к Ульгеню... Я, Кам Карамес, говорю: я на животе подполз к Ульгеню и сказал ему только одно слово:
— Езень! (Здравствуй). И ответил Ульгень, хорошо ответил, как отвечают самые простые люди при встречах на горной тропе:
— Езень! Не тыбышь? (Здравствуй. Какие новости?) Шаман еле шепчет слова и качается на месте.
— И подумал я: Ульгень добрый и слепой от доброты. Я еще одного хорошего коня пригнал ему... За всю жизнь много, целый табун хороших коней я пригнал ему... Зачем ему столько? Ок-пуруй! Ульгень! Ок-пуруй!
Шаман последние слова выкрикивает, как погибающий, и, качнувшись, падает в глубокий обморок. Хозяева и гости быстро встают со своих мест и, окружив котлы с вином и мясом, начинают шумно пировать, равнодушно перешагивая через неподвижное тело шамана.
Никем не замечаемый опять поет Бахса. Не прикасаясь к пище и вину, снова бренчит он на своей домре и лениво подпевает, в то время как надвинувшееся облако, как ворота, медленно закрывает светлое видение Алтая.
Бахса поет: — Я пою: вот упал шаман с высоты, как камень, брошенный Ульгенем. Упал шаман, разбился, потому что позавидовал Ульгеню и табунам Его... Теперь лежит, как пьяный среди пьяных, а когда встанет — я правду пою,— снимет с себя священные одежды, напьется араки и потребует с хозяев за камлание самого хорошего коня. Но хозяин не даст ему хорошего коня и скажет:
— Ты трех хороших угнал к Эрлику. четырех к Ульгеню — возьми хромую пегую кобылу.
Шаман рассердится, сядет на свою старую клячу и поедет по крутой тропинке в свой аил, и запоет обидно тонким голосом, как поют все простые, не видавшие Ульгеня люди:
— Всю жизнь камлаю у богатых, всю жизнь езжу к Ульгеню на светлых, к Эрлику на черных лучших конях, а к себе домой всегда еле плетусь на кляче.
И рассердится на клячу, согнется в три угла, станет бить в худые ребра железными стременами.
Эй, люди, сорок племен угнетающие! Смейтесь над шаманом, сыном сынов и внуков первого великого шамана, обманувшего самого Эрлика... Теперь смейтесь, люди, сорок племен угнетающие... Я пою: смейтесь до срока, когда я сам победно посмеюсь над вами...
Он поет долго и самозабвенно, без слов тянет мелодию и забывает о пирующих.
Проносится крупный дождь, и все участники камлания разъезжаются. У лиственницы лишь один пастух-певец.
Когда туча проносится и снова открывает вид на опустевший горный луг с висящей на жерди лошадиной шкурой, вдали на белоснежных вершинах золотится закат.
Песня Бахсы вместе с гудением домры журчит уже без слов, как одинокий горный ручей. И Бахса поет иную, лучшую сказку-песнь Хан-Алтаю.