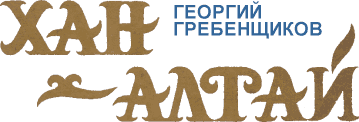
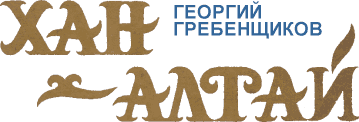

| Бывает ли тополь выше горы? Бывает ли красавица лучше моей? |
| Бывает ли конь быстрей моего? Бывает ли сын-богатырь милей моего? |
| У коновязи на Востоке чей бегунец? Чей? А на бегунце на этом чей молодец? Чей? |
| Ох, хорошо, светло, легко жить пастухом! На девятой весне стал Урсул пастухом. Бабочка на цветок садится мед кушать. Урсул-пастух может песни петь круглый год. |