 Федора Трунова было увеличенное сердце. Так говорил ему еще давно знакомый врач. Сказал же это он вот по какому поводу.
Федора Трунова было увеличенное сердце. Так говорил ему еще давно знакомый врач. Сказал же это он вот по какому поводу.Г.Д.Гребенщиков
 Федора Трунова было увеличенное сердце. Так говорил ему еще давно знакомый врач. Сказал же это он вот по какому поводу.
Федора Трунова было увеличенное сердце. Так говорил ему еще давно знакомый врач. Сказал же это он вот по какому поводу.
В глубокой провинции, где Федор был репортером газеты, лет шесть назад приехавший авиатор совершал полет на аппарате Блерио. Федор много слышал и читал о воздухоплавании, но не видал живого авиатора. И вот ему, как репортеру, пришлось не только видеть авиатора и говорить с ним, но и получить почетный билет на вышку ипподромного павильона, откуда было видно все до мелких подробностей.
Поразила Федора одна деталь: это когда аппарат только-только оторвался от земли. Этот невероятный, чудотворный момент отделения от земли и быстрый взлет в воздух аппарата вызвали из груди Федора громкий крик восторженного удивления... Это было так значительно, так сильно подействовало на Федора, что в одно мгновенье вся жизнь его, как говорил он, перепрокинулась. Уж чего удивительнее: никогда не писавший стихов, он в тот же вечер написал и дал редактору стихи под заголовком "К небу". Должно быть, стихи были приличные, если редактор напечатал их назавтра же вместе с отчетом о полетах авиатора. Только Федора убил корректор. В заключительной строфе вместо слов "И полетел он в воздух". Федор вдруг прочел ужасное: "И полетел он в воду..." По этому поводу назавтра был большой скандал. Федор хотел побить корректора; корректор обругал матранпожа и наборщиков, а авиатор прибыл в редакцию и устроил сцену редактору.
Но несмотря на это, минута восхищения Федора перед чудесным взлетом к небу, перед волшебным отделением от земли, не омрачилась, и он ходил как юноша, впервые поцелованный влюбленной чистой девушкой, - сияющий, подвижный, говорливый, - и почуял в душе оттенок, который освещал ему совсем иначе его одинокую и нервную жизнь.
Минута эта ему так запомнилась, что он часто улыбался ей и удивлялся вслух:
- Ведь полетел!.. Снялся с земли и полетел!..
И вот однажды в лирическом настроении со знакомым молодым врачом он заговорил:
- Нет, больше я не пессимист... Было у меня одно мгновение в жизни, которое меня переродило, открыло, вдохновило, и я чувствую, что жить и мучаться имеет смысл... Я верю, например, что теперь я соприкоснулся с каким-то Божьим откровением, и жизнь моя нужна... По крайней мере, я не напрасно копчу небо.
Федор вспыхивал и продолжал проникновенным голосом:
- Вы понимаете, вот иногда, и сплю, и вдруг во сне вспомню, как он отнялся от земли и полетел... Сплю и во сне удивляюсь, что человек летал вверху как птица, и что смерти на земле для человека быть не может... Мне сделается радостно и удивительно, а сердце затрепещет как птица, выпущенная на волю... И я просыпаюсь...
Вот тут-то доктор и сказал ему:
- А ну-ка, дайте я послушаю ваше сердце... Кажется мне, что оно у вас сильно увеличено... - И, послушав сердце, врач прибавил: Ну, так и есть! Скажите, часто вам бывает жаль кого-нибудь?
- Что вы этим хотите сказать? На жалость способно только больное сердце?
- Нет, я хочу сказать, что у всех чувствительных людей сердце всегда увеличено...
Федор подумал и вспомнил, что первая жалость родилась у него в раннем детстве, когда он вместе с сестренкою хоронил в игрушечную могилку щепочку, и воображая, что это - братец Васенька, плакал горькими слезами...
Так и пошел он в жизнь с жалостливым, увеличенным сердцем. Но здесь, вблизи от передовых позиций, в числе своих товарищей-солдат он не встречал сочувствия ни своими стихам, ни трогательным письмам, которые он посылал на родину и которые прочитывались вслух, и постепенно замкнул в себе свои думы и чувства и, смешанный, потерянный в серых рядах, стал как и все, угрюмым, молчаливым и одетым грязно, по-рабочему.
Однако как-то расписываясь в получении посылки с родины, он обнаружил внимание командира своей грамотой и попал в полковые писаря. А здесь, поблизости к бумаге и чернилам, в часы досуга, опять пописывал стихи и, думая над ними, снова давал работу сердцу. Часто по ночам он слышал, как сердце в груди живет своею жизнью и без отдыха все идет куда-то, идет, то ускоряя свои шаги, то замедляя... И казалось Федору, что сердце когда-нибудь устанет, остановится и навсегда замрет, не совершив желанного пути. А путь для него велик, как необъятна жизнь, непостижимы тайны мира, в которые хотелось бы проникнуть неугомонному сердцу!..
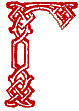 рязной, сырой осенью в штаб полка из ближнего города привезли четырех молодых гусей. Привезли их в мешках, по два на каждой лошади, как переметные сумы, и пожалели всех сразу колоть. Три гуся были серые и один белый. У всех были розовые лапы и красные носы. Были ли в числе их гусихи, никто не интересовался. Два дня все гуси ходили кучкой без крика, без шума, только от удивления перед новой обстановкой потихоньку перешептывались и много пожирали ячменя, съедая в день не менее двух лошадиных мер.
рязной, сырой осенью в штаб полка из ближнего города привезли четырех молодых гусей. Привезли их в мешках, по два на каждой лошади, как переметные сумы, и пожалели всех сразу колоть. Три гуся были серые и один белый. У всех были розовые лапы и красные носы. Были ли в числе их гусихи, никто не интересовался. Два дня все гуси ходили кучкой без крика, без шума, только от удивления перед новой обстановкой потихоньку перешептывались и много пожирали ячменя, съедая в день не менее двух лошадиных мер.
Федор Трунов из крошечного окошка походной канцелярии, вкопанной в землю в горном косогоре, случайно увидал гусей и удивился любознательности одного из них, белого. Этот вытянув шею, заглянул в окошечко и слегка побарабанил носом о стекло. Потом голубой круглый глаз его остановился на человеке и критически покосился на мелко исписанный лист, лежавший на окошке. Федор пододвинул лист к стеклу. Гусь еще побарабанил по стеклу, предполагая, вероятно, поклевать черное семя на белом листе.
Так познакомился Федор с гусями и невольно призадумался об их судьбе. В досужий час он выходил к ним, просил у конюхов горсть овса и бросал гусям. Гуси быстро освоились с новой обстановкой и на третий день уже кричали по какому-то незначительному поводу, как деловитые хозяева, наводящие порядок. Только на четвертый день Федор вдруг проснулся в полночь от протяжного гусиного крика, и почему-то сердце у него забилось от испуга.
Гусь кричал протяжно, как будто протестуя и вместе призывая и тоскуя. Федор до утра не мог уснуть. Утром же увидел, что денщик полковника ощипывает одного из серых. И в тот же день Федор увидал у окошка белого гуся одиноким. Пара остальных ходила поодаль, причем один высоко и гордо подымал голову, а другой голову держал пониже, и от того шея его казалась толще и короче Федор понял, что это гусиха и что белый гусь, потеряв свою подругу, отделился от счастливой пары. Теперь для Федора белый гусь стал ближе всех, и жизнь его привлекла все его внимание.
Всех трех гусей щадили и не закололи даже к Рождеству. Это вероятно потому, что для командира привезли из тыла пару битых, жирных и мороженых.
Федор однажды заговорил с полковником:
- Ваше высокородие! Разрешите спросить: вы не охотник?
- А что? - сурово отозвался командир. - Ты берлогу что ли обложил?
- Никак нет... Я полагал, что вы знакомы с птичьими нравами...
- Что такое?! - ехидно и недоумевающе отозвался командир. - Ты меня по зоологии экзаменуешь?..
Федор растерялся, промолчал и снова долгое время не решался заговаривать с полковником. Но полковник вскоре сам заговорил с ним.
- Ты, кажется, хорошо откормил этого белого... Надо его заколоть!..
- Ваше высокородие!.. - вдруг почти взмолился Федор. - Прикажите заколоть другого, серого... А этого не надо!..
- С какой стати, - тот с гусихой... Она нам к Пасхе яиц наносит... А этот по ночам спать не дает, - все орет и орет.
Но все-таки полковник пощадил гуся, хотя его ночные крики нагоняли сущую тоску. они пронзительно вырывались из закутанного в сугробе хлевка, носились над темным ущельем как скорбный плач, как грустная песня, и всякий раз будили Федора.
И думы Федора из затхлой, душной землянки неслись на родину, где он как-то осенью после жатвы и молотьбы ходил по опустелым пашням с ружьем и слушал крики гусей, только не домашних, а диких, проносившихся на юг в прозрачном небе дружными станицами.
Потом к нему в сердце закралась обида: почему так сложилась жизнь его? Ни мужик, ни барин, бесправный, полуобразованный, а чувствовать способен, как неспособны многие из тех, перед кем приходится тянуться, унижаться и молчать!..
Все бы ничего, если бы не было дано такого чуткого, слишком внимательного сердца!.. Все-то оно замечает, собирает и складывает в себе, чтобы при первом звуке жизни все вновь отозвалось печальной музыкой!..
Когда в ночной тишине, в глубоком мраке по ущелью разнесется звонкий и печальный крик гуся, Федор вспомнит сразу тысячи обид, несправедливостей и унижений, рассыпанных по необъятной родине, которая теперь ему казалась опустелой, давно непаханой пашней. Тогда он забывал свои обиды и оскорблялся за родной народ, который так вынослив, так рабски терпелив и так бесправен!.. И осенила Федора несбыточная мысль, - написать или сказать громко, так, чтобы услышала вся Русь, такое сильное, правдивое и смелое слово, которое в одно мгновение преобразило бы всю родину!.. Ведь может же человек сразу понять дурное, отвернуться от него и пойти к хорошему! Ведь может! - уверял себя Трунов и так волновался, что начал курить казенную махорку. Цигарку за цигаркой, пока не закружится голова.
 ришел март. Первые три дня его шел пышный и обильный снег с вьюгою. Казалось, во всем своем величии пришла зима. В землянках водворился белый сумрак, матово-скучный полусвет, от которого сами закрылись глаза и хотелось долго, безмятежно спать.
ришел март. Первые три дня его шел пышный и обильный снег с вьюгою. Казалось, во всем своем величии пришла зима. В землянках водворился белый сумрак, матово-скучный полусвет, от которого сами закрылись глаза и хотелось долго, безмятежно спать.
Вдруг Федор услыхал перед обедом оглушительный гусиный гвалт и в тревоге выбежал на воздух. И здесь произошло такое, во что он и потом не мог поверить.
На белом снегу площадки стояла смеющаяся юная девушка в белой косынке и с красным крестом на груди. Она была перепугана или обрадована, высоко вздымала кверху руку и звонко смеялась. А гуси, распустив крылья, танцевали вокруг девушки и неистово приветствовали ее криками.
Когда Федор, думая, что они клюют ее, подбежал их отогнать, серый гусь напал на него, как бы защищая девушку, а девушка обняла Федора и лепетала что-то непонятное, невнятное для Федора. Он хорошо запомнил только запах ее платья и холодок румяной щеки, прикоснувшейся к его подбородку...
В это время вышел из своей халупы полковник и с изумлением смотрел на всю эту картину.
Потом девушка, как бы сконфузившись, вырвалась из объятий Федора и побежала к командиру. Она трясла ему руку, лепетала что-то. А шум в тихом лагере, между тем, все нарастал, отовсюду выбегали солдаты, говорили что-то, удивлялись и смеялись. Сначала Федор объяснил себе все таким образом: гуси подумали, что к ним пришла их хозяйка, и, обрадовавшись, напугали девушку, а она с перепугу ухватилась за Федора, как за спасителя. Но тут ему припомнились ее слова, такие звонкие, как звуки струн:
“Я принесла вам радость!.. Свободу!.. Сказку!.. Я так спешила, чтобы первой придти”.
Федор знал и раньше эту девушку. Во время большого боя под Остроленкой она первая пришла и последняя ушла с их перевязочного пункта, а потом, на Пасхе, подарки раздавала, а потом на Рождество приехала одна верхом и устраивала елку для солдат. Полковник называл ее дочуркой. Вот эта несбыточная для Федора пани становила многих раненых на ноги всякий раз, когда она бывала в лазарете.
Но никогда приход ее не заставлял так сильно биться сердце Федора и никогда полковник с такою злобой не кричал ему:
- Чего стоишь как пень!.. Ошалел должно быть!.. Марш на дежурство к телефону!..
Этот крик и тон, и взгляд перевернули душу Федора. Как будто Федор видел дивный сон, видел его только одно мгновение. Проснулся, а кошмарная действительность злобно глядит на него и оскорбительно рычит.
Он ушел и сел к телефону, но плохо слышал и часто переспрашивал батальонного телефониста; зато слышал хорошо, как девушка настойчиво, почти капризно звенела:
- Нет, я хочу сказать при всех... Всех соберите, всех! Я требую, я вам приказываю!.. Я шла пять верст пешком, и вы не смеете мне отказать...
Полковник что-то рокотал своим приглушенным басом, но девушка звенела все настойчивее, и, наконец, полковник сдался, крикнул вестовому:
- Собери всех на площадке... Кроме дежурных и дневальных!
Несколько молодых офицеров, недоумевающе посматривая на окошки командировой халупы, прошли мимо Федора, и вскоре на крылечке халупы зазвенел чуть слышный и невнятный для Трунова голос девушки.
Он сидел у телефона и лучше, отчетливее всего слышал, как возилось в нем сердце... Он чуял, что устами девушки вещает ангел, и вещает он что-то радостное и великое... Такое, перед чем даже полковник смолк и явно растерялся...
Потом она нашла заделье к телефону: надо ей было сказать в свой отряд, что она здесь пробудет до сумерек и потому просит подать ей лошадь. Но Федор радостное почуял, что она хотела отыскать его. Что она первая, единственная угадала, что в нем бьется чуткое большое сердце и он лучше других поймет ее порыв и оценит ее юношеский лепет.
- Я знаю, вы не простой солдат! - сказала она. - Вы сумеете все объяснить товарищам... Я буду присылать вам свежие газеты, а вы им читайте и объясняйте... Хорошо?.. Даете слово?..
Федор смотрел в ее лучистые глаза, в ее лицо, горящее от радостного возбуждения, и все еще не знал, о чем она говорит, но сердцем уже чуял, что говорит она о том, о чем всегда так тосковало его сердце, о чем пел ветер на родных степях, о чем молчали облака, когда плыли в светлой лазури над созревшими нивами, о чем кричали поздней осенью уносящиеся к югу стаи перелетных птиц... О чем кричали гуси, милые и беспокойные его друзья в этом глухом ущелье!..
Он не помнит, сказал ли он ей “да”. Но помнит, что она взяла своей теплой тонкой рукою его руку и как бы вытащила его на свет Божий из глубокой темной и холодной ямы...
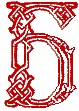 ольше Федору уже не страшны свирепые глаза полковника, не оскорбительны его тяжелые слова. Он с радостью и необычной быстротой предупреждал беспрекословно всякое желание командира, и, наконец, полковник сдался:
ольше Федору уже не страшны свирепые глаза полковника, не оскорбительны его тяжелые слова. Он с радостью и необычной быстротой предупреждал беспрекословно всякое желание командира, и, наконец, полковник сдался:
- Ишь, как свобода прыти прибавила!.. Ну-ну!.. Если хочешь быть достойным гражданином, так и должен поступать!..
И без труда стал называть Федора на вы, в то время как другим за это “вы” житье настало хуже прежнего.
- Эй, “вы”, гражданин!.. Р-республиканец!.. - следовало два-три крепких слова, а потом опять: - Да не оглядывайся! К тебе я обращаюсь, старая корова!.. К одному тебе!.. Ну, посмотри ты на себя: на кого ты похож?.. Грязный, оборванный, растрепанный... Что вылупил глаза свои бараньи?.. Идиот!.. Как нужно стоять, когда с тобой командир говорит?! Да не так. У-у... - и снова вылетали из щетинистого рта полковника скверные слова.
Все приказы получал и переписывал Трунов и запоминал их почти наизусть. Потому, когда после отказа офицеров выступить с речами перед солдатами, полковник обратился к Федору:
- А ну-ка, вы, социалист!.. Прочтите им разъясните, как сумеете, а я послушаю!
Федор вспыхнул небывалым вдохновением и громко, подобранно ответил командиру:
- Слушаю, господин полковник!..
Это было первое его обращение без титулования, и оно так было почтительно, что полковник поглядел на Федора и сказал:
- А ведь если бы все были такими солдатами, как ты, пожалуй, и я всех называл бы: “господин республиканец”.
- Лучше меня будут, господин полковник, - отозвался Федор и прибавил, - когда поймут, переродятся все!..
Полковник сомнительно покачал головой, и, вспомнив, иронически спросил:
- Ах, извините, я вас, кажется, на ты назвал?
Федор промолчал, не зная, что сказать, и добродушно улыбнулся. Эта улыбка опять смягчила командира, он закурил и сказал:
- Ну, уж, папиросу, извините, я вам не предложу... И сесть в моем присутствии, здесь, на службе, без разрешения не позволю!.. Тут вы меня хоть расстреляйте, это уж вы меня простите...
- Я сам без разрешения не сяду и не закурю, господин полковник.
- Ты-то, я знаю, не сядешь, = опять перешел на дружеское ты полковник, - а другой хулиган нарочно сядет и ноги грязные положит мне вот сюда, - он показал себе на голову, и в глазах его опять забегали злые искорки, а кулаки непривычно сжались и искали, на кого бы им обрушить злобу.
С вечера перед присягой все вымылись в бане, надели чистое белье, а утром встали рано. Из батальонных резервов подошли целые тысячи и выстроились на косогоре равными и серыми рядами, как на параде. Офицеры робко стояли возле своих рот, сливаясь с ними, и, зная строгий нрав полковника, не смели рта раскрыть, угрюмо ожидая, что скажет “сам”. К полку, вместе с командиром, подошел священник.
Полковник обошел ряды, поздоровался, выругался, потому что солдаты поздоровались не гладко: одни кричали по-новому: “господин полковник”, а другие еще по-старому: “ваше сок-род!”.
- Как бабы на базаре!.. Господам офицерам ставлю это на вид! Неаккуратно исполняют приказы...
Потом он приказал сомкнуть ряды в каре и, поворачиваясь то направо, то налево, начал:
- Небось, вам всем раньше меня сорока на хвосте принесла известие, что произошли у нас большие перемены?..
Кто-то крикнул весело из задних рядов:
- Немцы на полотне написали!..
- Что написали? Когда?
- А-ж второго марта!.. Царь-де ваш с паники убежал!..
По рядам пронесся гул сдержанного смеха.
- Смирно!.. - вдруг рассердился командир. - Знаю я ваши источники!.. Ну, так слушайте же!.. Вот батюшка вас приведет к присяге новому правительству!.. Теперь служить все будем не царю, а одному отечеству!.. Но чтобы у меня не было бабьих сплетен и кривотолков, - при этом командир угрожающе поднял кулак. - Если отбились от одного берега, надо прибиваться к другому, а не плыть по течению, иначе пропадем!.. Я приказал при мне все разъяснить вам вашему же товарищу!.. Ему, небось, вы поверите лучше, чем мне... Трунов! - властно зыкнул командир и показал на землю возле себя, приглашая из рядов Федора Трунова.
 рядах наступила мертвая тишина, когда на середину, съедаемый тысячами глаз, вышел бледный, тонкий, небольшого роста полковой писарь Федор Трунов.
рядах наступила мертвая тишина, когда на середину, съедаемый тысячами глаз, вышел бледный, тонкий, небольшого роста полковой писарь Федор Трунов.
Он почему-то снял фуражку, откашлялся и, не глядя на командира, осмотрел все серые ряды, не видя их, не чувствуя под собою ног, но видя небо голубое, беспредельное, видя пегие горы и синие леса и слыша легкий шум ветра на вершинах ближнего леса.
Он совсем не знал, что скажет, и думал, как бы сделать так, чтобы командир не рассердился и не помешал вылить из души все то, что там накопилось и о чем уже звучало его сердце.
И он уцепился за слова командира, как за опору и за случай сделать молчаливым и внимательным самого полковника.
- Братцы!.. Товарищи!.. - начал Федор звонко, но голос его сорвался, он хлопнул по руке фуражкой и взял тоном ниже, но тверже и торжественнее: - Защитники многострадальной родины!.. - Федор помолчал, не веря, что все это происходит наяву. Он, вчерашний обезличенный солдат, сегодня - гражданин, впервые говорящий о свободе, - и где же?.. - перед целым полком, на передовых позициях!.. “Это неправда!.. Этого не может быть!” - сверлила его мозг навязчивая мысль и мешала подбирать необходимые слова. Но он снова вспомнил фразу командира и схватился за нее как за якорь спасения.
- Командир наш нам сказал сейчас, что надо плыть к другому берегу, если отплыли от одного... И это - правда; в этом - все!.. Тот берег, с которого мы бросились в бурную реку, - страшный берег, там царит чума, проказа, там - несправедливость, унижение, там - плач и скрежет зубовный!.
Федор посматривал на командира и на офицеров и увидал, что все они смотрят на него и слушают, как будто сами в первый раз почуяли все то, что чувствовал теперь Трунов.
- Нам надо переплыть на другой берег, надо крепче стать на нем; на нем все - новое, все свежее, все чистое!.. На нем наша новая, свободная, прекрасная жизнь должна устроиться!.. Но, братцы и товарищи, вы - сами пахари и труженики, и вы знаете, что новая земля, новая почва - целина, она требует труда и бережного отношения к себе... Вымоемся же в реке, которую переплываем, хорошенько!.. Очистим грязь того берега, искупим ее своими страданиями!.. Ведь река, которую мы переплываем, - река из слез и крови нашей, братцы, из народных стонов и страданий, и нам ли, братцы, того не знать!?
Федор, сам того не замечая, воодушевлялся все более и более, голос его звенел резко, точно не просил, а приказывал и то, что слушали его все офицеры и сам командир, вливало силы в его голос, душу, сердце, мысли.
- Не побоимся, товарищи, новых необходимых лишений и горестей. Нам недолго осталось потерпеть!.. Но потерпеть необходимо, потому что есть за что терпеть! Поймите это все и уговоримся терпеть все, что придется, но не возвращаться назад, на зараженный, страшный берег... Будь он проклят!..
И вдруг солдаты без команды, без согласия своих начальников, как один человек огласили ущелье гулким ревом:
- Ур-р-а-а!..
- А-а-а-а... - понеслось эхо по горам.
И Федор, почуяв в себе магическую силу над полком, вдруг уверенным взмахом руки погасил возгласы и водворил опять немую тишину. И с еще большим воодушевлением продолжал:
- Сегодня мы примем присягу. Мы поклянемся, братцы, умереть за то, что впервые испытываем сегодня истинную радость. За то, что сами мы, и никто более, будем хозяевами нашей жизни!.. Мы поклянемся послужить нашему отечеству так, чтобы нам, его сынам, его строителям, не стыдно было перед белым светом за наши дела и поступки!.. У меня, товарищи, нет более громких слов для выражения моей радости... Я не смею даже верить, правда ли все это? Правда ли, что я, как равный, стою возле полкового командира и говорю с вами от его имени?.. Я этому и верю и не верю, и радость моя так велика, что я говорю с вами без шапки потому, что от всего сердца молюсь неведомому Богу! Помоги нам, Господи, быть достойными дарованной Тобой радости!..
Голос Федора пресекся. Глаза наполнились слезами. А командир полка, невольно подчинившийся последней фразе Федора, торжественно скомандовал:
- На молитву!.. Шапки долой!..
Батюшка начал молебствие. Солнце заиграло на его ризах.
... Через неделю Федора послали в Киев делегатом от полка.
Он ехал, слушал стук колес, глядел в окно вагона и ничего не слышал и не видел, кроме сильно бьющегося сердца, кроме юной, звонко говорившей что-то девушки, вокруг которой танцевали гуси и заглушали ее голос радостными кликами...