Г.Д.Гребенщиков
ФЕДОР ШАЛЯПИН
(Из неизданной книги “Русский жемчуг”)
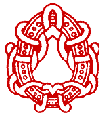 днажды из окна художественного павильона в Нью-Йорке я случайно увидал, как молодые скульпторы - он и она, - втаскивали в свою мастерскую две большие глыбы дикого камня. Рабочие в Америке грубы и не сделают лишнего движения, если это не оплачено или не предписано унионным кодексом. Они сбросили камни в садике и уехали. У художников, конечно, не бывает таких средств, чтобы оплатить сверхурочные минуты американскому рабочему. Рядовой художник даже в Америке - бедняк, и это никого не волнует. Здесь обычно выражение: “Он беден, потому что он артист”... Так что слабенькая девушка-скульптор в Америке должна сама, с дрючком в руках, с нечеловеческим напряжением втаскивать в свою мастерскую глыбу камня для своего будущего создания.
днажды из окна художественного павильона в Нью-Йорке я случайно увидал, как молодые скульпторы - он и она, - втаскивали в свою мастерскую две большие глыбы дикого камня. Рабочие в Америке грубы и не сделают лишнего движения, если это не оплачено или не предписано унионным кодексом. Они сбросили камни в садике и уехали. У художников, конечно, не бывает таких средств, чтобы оплатить сверхурочные минуты американскому рабочему. Рядовой художник даже в Америке - бедняк, и это никого не волнует. Здесь обычно выражение: “Он беден, потому что он артист”... Так что слабенькая девушка-скульптор в Америке должна сама, с дрючком в руках, с нечеловеческим напряжением втаскивать в свою мастерскую глыбу камня для своего будущего создания.
У меня был порыв, пойти, помочь, но я побоялся унизить своею жалостью американских скульпторов, которые, конечно, горды, сильны и поголовно все спортсмены...
Приходилось лишь наблюдать, с какими муками, рискуя каждую секунду изувечить руки или ноги, молодые скульпторы возились с глыбами гранита...
Я наблюдал за самоотверженной работой молодых людей, восхищаясь их веселыми и вдохновенными лицами. Смотрел на медленно ползущие серые глыбы. И подумалось мне тогда, что вот этим безликим холодным мрачным гранитным камням, уготовлено судьбою, рассказывать, согревать и радовать.
Сотни тысяч лет пролежали эти камни в утробе какой-то горы, и вот настал их час, через мысль и труд художника, стать каким-то символом человеческой жизни.
Спустя два месяца зашел я в мастерскую скульпторов и увидал, как ожили те самые каменные глыбы...
Из одной медленно рождается женщина во всем очаровании ее наготы, а из другой уже сформировалась мать, обнимающая и прижимающая к груди своей ребенка - символ вечной радости, скорби и любви.
И вспомнил я Венеру Милосскую - апофеоз величия и красоты - и подумал, что, и она когда-то была только мраморной безликой глыбой и когда-то никому неведомый художник, наверное, бедняк, рождал Ее в великих муках... Пройдут тысячи и миллионы лет, и, может быть, снова из-под развалин Парижского Лувра встанет Живоносная Всепобеждающая красота Ее во всем своем неистребимом обновлении и любви...
Тяжела, быть может, непосильна для меня малахитовая глыба - Шаляпин. Быть может, я и не осилю, не втащу ее в свою мастерскую: тяжела она непомерно и, при всей своей внешней простоте, загадочна.
Однако пробую, хожу вокруг да около и не знаю, как приступить, где взяться. Ибо не пером описывать, долотом надо вырубать его гигантскую фигуру, молотом выковывать, резцом выгравировывать. Как-то писал его маслом художник Н.В. Харитонов. На эстраде у рояля на фоне малинового бархата стоит величавая фигура во фраке, и стройные ноги уходят куда-то в бесконечную глубь земли, как две колонны, а голова превыше гор... Но губы сомкнуты. Он еще думает, какую песню петь тем тысячам людей, которые там, в утробе зрительного зала, затаив дыхание, ждут...
Многие художники писали Шаляпина, все по-разному, но все - каким-то великаном, загораживающим собою целые пейзажи, целые города и страны. Вспомните Кустодиевского Шаляпина на фоне Нижегородской ярмарки. Весь Нижний Новгород - только декорация для этого разудалого добра-молодца. Люди там внизу - какие-то букашки... Совсем не важно, что они там где-то существуют. Важно, что вот он, Шаляпин, в русской бобровой шубе и шапке идет по ярмарке и весело любуется сотворенным для него белым светом...
Сколько о Шаляпине писали и как писали! И сам он о себе писал, “рассказывал себя”, подчас довольно откровенно, и чудачества его все знают... А все-таки Шаляпин - сфинкс. Много вокруг его имени и льстивой лжи, и неподдельного поклонения, и зависти. Царю будто бы поклонился - одни шарахнулись от него. Большевикам улыбнулся - шарахнулись другие. А как запел - и те и другие все забыли, все простили и преклоняются, цветут улыбками, гордятся: наш Шаляпин!
Появление Шаляпина на эстраде во время концертов - до жути знаменательно. По толпе пробегает шорох всеобщего волнения. Вот он появился, и как будто наступил на электрический выключатель - весь зал озаряется светом ликования. Шаляпин сам полон ликования. Он любит свой успех, как пьяница любит вино, и не бог бы, пожалуй, жить без славы. Но в эти торжественные минуты он царствует над толпой, он милостиво протягивает к ней руки, словно благословляя ее, говорит:
- Ну, будет... Ну, уймитесь: сейчас получите.
И начинает щедро осыпать толпу червонцами... Нет, не червонцами, а настоящим наркотическим и хмельным напитком... Всех сразу в одну секунду напоит из одной неупиваемой волшебной чары, напоит до одурения и зыбкою медвежьей походкой почти виновато удалится со сцены...
Черт его знает, что за колдун такой и откуда у него такое приворотное зелье! Тысячи и тысячи людей не существуют, не сознают себя, когда с “Ухнем” он проходит мимо них по Волжскому берегу в артели разудалых бурлаков... И, несомненно, Илья Ефимович Репин в белокуром верзиле, в центре его знаменитых “Бурлаков”, нарисовал именно самого Шаляпина, бывшего тоже когда-то бурлаком.
Вглядитесь в картину, вы поймете, почему Шаляпин в этой народной песне так душевно передает всю неизмеримую глубину и потрясающую мощь человеческой тоски и удали.
Вот они откуда эти мощные электрические токи, озаряющие светом людские сердца. Вот откуда взята глыба бессмертного гранита, малахита или яшмы, родившая алмазный перстень - талисман Шаляпина.
Да, да, в муках и нужде великой родил Народ Российский этого редчайшего великана.
Как Венера Милосская, бывшая некогда простым серым камнем, стала владычицей дум всего творящего человечества, так и Федор Шаляпин, бывший парень, сын простого серого народа, ломоть черного ржаного хлеба, стал великим Аполлоном, чародеем, стал пасхальною трапезой для многих народов мира.
Федор Иванович, конечно, твердо знает свое родство с простым народом русским. Не мне напоминать ему об этом. Но мне, пришедшему оттуда же, из недр русской земли, хочется приблизится к этому сфинксу и сквозь богатые покровы славы рассмотреть простые человеческие черты, которые мне рассказали бы о внутреннем горении души великого народного героя.
* * *
Встречался я с Шаляпиным всего лишь несколько раз. И даже не слыхал его, как следует, до Нью-Йорка. Помню, раз стоял в очередях около Мариинского театра в Петербурге и в Москве около Большого. Тысячи и тысячи студентов и студенток героически мерзли дни и ночи, и лишь немногим удавалось попасть на самые последние места. Так однажды и я попал на галерку, на “Хованщину”, но на такую голубятню, откуда ничего не было видно, и где духота была смертельная. Однако незабываемы те минуты, когда я услыхал и как-то трепетно увидал его. Если существует благостная магия, то тогда я впервые познал ее - магическую силу забвения самого себя.
Не легко добиться свидания с Шаляпиным. Но он, оказывается, не забыл, что Максим Горький на Капри, в Италии, перед войной читал ему мои сибирские рассказы.
Помню я нашу первую встречу с ним в Петербурге в начале войны у того же Горького на Кронверкском проспекте. Певец сидел тогда напротив меня, за чайным столом, и рассказывал Горькому о каких-то квартирных неурядицах, а я любовался им, и в глубине души моей к нему росла нежная и молчаливая любовь. Непередаваемо чувство удивления и восхищения перед силой обаяния этого человека как собеседника.
Понятно, что в задуманную мною книгу “Русский жемчуг” я включил имя Шаляпина, как выражение могущества народной стихии, и понятно, что здесь в Америке мне захотелось повидать его и побеседовать с ним поближе.
Федор Иванович Шаляпин скоро и приветливо ответил на письмо и 23 декабря 1925 года двери его квартиры в отеле Маджестик открылись передо мной.
Откровенно говоря, мне хотелось посидеть у него и побеседовать, но Шаляпин как-то куксился, чувствовал себя не совсем здоровым. Я решил, что не буду оставаться, поприветствую знаменитого певца и уйду. Однако не успел я еще и рот открыть как сразу за мной в комнату влетела врачебная в лице доктора-француза.
Доктор, не обращая на меня никакого внимания, как из пулемета начал сыпать свои нежности и покровительственно спасать от гибели великого певца, так что я не мог вставить своего прощального приветствия, и ждал. Болезнь оказалась не смертельной, но серьезной: у Шаляпина был насморк а для чистоты голоса, это, во всяком случае, весьма опасно...
Беседуя с доктором, Шаляпин сидел возле рояля, брезгливо морщился, показывая на нос, и излагал свои страдания. Доктор, в свою очередь, проделывал жестикуляции возле Шаляпинского носа, заглядывая в него и, наконец, дал особо решительные предписания. Сеанс скорой помощи был окончен. Нежно напевая ласкающий мотивчик: “мое милое дитя”, доктор также быстро вышел как и вошел.
Не знаю, молчание ли мое или, может быть, какая-либо тень улыбки заставили Шаляпина прервать мое намерение уйти.
- Ну, куда вам? Посидите!
И точно рухнула какая-то бутафорская стена. Он посмотрел на меня проще, хотя и продолжал страдальчески морщится.
Шаляпин словно не находил нужных слов, и лениво процедил любезное:
- Нам давно бы надо повидаться...
Вздохнул. Лицо его, как тогда у Горького, вдруг все мелкими морщинками собралось к носу, и рот открылся.
- Как?..
Он напустил на себя глухоту и важность, а из-под гримасы, как из-под талого весеннего снега - вдруг прорвалась самая настоящая, немножко даже конфузливая, улыбка с легким лукавым подмигиванием.
- Видали, как “они” работают?
Жест в окно, в сторону строящегося у Центрального парка собвея.
- Я, батюшка, гляжу, гляжу на них и надивиться не могу. И все-то у них выходит, - приседает, делает выразительный бросок лопатой снизу вверх, - весело!.. Вот так, с улыбкой... А?
Прошелся по комнате, помолчал... Поморщился от телефонного звонка... Шепотом:
- Кто там?
- Просят маленькое интервью на десять минут...
- Кто?
- От какой-то газеты...
- Когда? - Пауза. Весь лоб в густых морщинках. - Хорошо, завтра около двенадцати.
- Поете ли вы в “Борисе”, здесь, в этом сезоне? - спрашиваю теперь я.
- Нет, сейчас еду в Филадельфию, потом пою в Калифорнии, потом во Флориде, а там Лондон и... В Австралию на лето... Хочу посмотреть, как на том полушарии люди живут...
Мне почуялось, что ему это полушарие наскучило. Из глаз его блеснула сталь какой-то острой молчаливой боли. Он сделал широкий жест вокруг себя, как бы очерчивая весь свет, и трагически, приглушенной октавой, сказал:
- Не знаю, что “это” все нарошно сделано или не нарошно?..
Мы оба помолчали и переменили тему разговора.
- Бывали ли вы когда-нибудь в Сибири? - выдвинул я своего большого необъезженного коня.
Федор Иванович, неожиданно для меня, оживился.
- Вот страна, о которой всю жизнь мечтал... Коров бы там хороших завести и жить.
Он прочно сел на диван, расставил ноги, широко развел руками и молча сыграл великолепного сибиряка-скотовода. Я сразу увидел на нем зипун, валенки, и волчью шапку... Я был в восторге. А он вздохнул и докончил:
- Не удалось побывать в Сибири, жаль, что мне уже 50 лет. Мне, знаете, иногда так еще хочется побегать по базару жизни, покрычать, руками помахать и посчитаться...
Вдруг Шаляпин встал и позвал:
- Василий! Принеси-ка нам “кваску”!..
Вскоре на круглом столике появился графинчик с французским квасом...
И хотя квас был совершенно безалкогольный, Федор Иванович деловито наклонился, заглянул под стол, под диван и прошептал:
- Нет ли там полиции?
Потом поднял лицо, подмигнул мне и вдруг озарился такой солнечною улыбкой, будто он, Бог знает, допустил какое озорство.
И налил два стаканчика.
- Ведь эти, тут, заглядывают мне в рот и считают, сколько я котлет съедаю... Да ежели у меня хороший аппетит - я двенадцать котлет съем - какое тебе дело?.. А те там...
И вдруг на лице его отразилось столько боли, идущей из глубины души... И стал рассказывать... Два слова, один жест, а остальное все в глазах и складках меж бровей, - глубокая поэма скорби, сыгранная в душе самим Шаляпиным - можно ли ее изобразить пером?..
Потом, опять молчание.
Привожу ему рассказ Варвары Ивановны Страховой, (его друга, большой оперной певицы) о том, как Федор Иванович, однажды любовался мастерством сапожника, разглядывая свои собственные ботинки.
- А это видите ли почему? - вдруг подхватил Федор Иванович. - Есть такие архивариусы в жизни - “Есть ли Бог и стоит ли на свете жить?” - Этакие мудрые бездельники... Нет, ты вот это... - (Шаляпинский выразительный жест руками) - Покажи, как надо делать жизнь... А надо жизнь делать умело, прочно, хорошо... Ведь то и дело слышишь об искусстве: это плохо, это хорошо... А ведь - (трагическая боль в чертах лица) - не понимают! Вот я, когда обучался сапожному мастерству, Хозяин мой, бывало, разложит перед собой подошвенную кожу... - (Играет хозяина: руками провел по животу, как будто живот должен помочь думать. И я вижу в нем хозяина, в фартуке, с ремешком вокруг волос, с длинной бородой и строгими глазами) - И смотрит, понимаете, с полчаса... Наметит ножиком так и эдак и, наконец, начнет кроить... И обязательно, вместо двух подошв, выгадает три. И вот таких малюсеньких кусочков не изрежет зря... Вот, это, я понимаю, искусство!..
И, как будто нарочно, в этот самый момент секретарь докладывает:
- Сапоги принесли...
- А ну-ка, поглядим... Где они?..
Секретарь ввел маленького черненького, хорошо одетого молодого человека, из лучшей Нью-йоркской сапожной мастерской. И началась забавная и поразительная сцена осмотра и примерки сапог. Сапоги - лаковые открытые туфли, заказанные для парадного фрака. Но, оказывается, нужно было сделать их так, чтобы они не только были удобны, не стучали и не закусывали сзади края брюк. - (Федор Иванович показывает, как это смешно, особенно с эстрады), но чтобы в туфлях можно было ходить его-де косолапыми ногами.
Два маленьких человека, секретарь и сапожник, сидят с двух сторон на корточках у ног Шаляпина, а он стоит и демонстрирует свои ноги, так и эдак, доказывая, что они у него похожи на ноги дикаря. Те не верят ему, и я не верю, но никто не возражает.
Потом он сам опускается на корточки, и разъясняет недостатки новых туфель. И эта сценка показалась мне самой трогательной. Теперь уж все трое сидят на полу, на корточках.
Сапожник уверял, что он понял, но Шаляпин не верил ему и настаивал на своих деталях, а секретарь молча кивал, подтверждая каждое слово Федора Иваныча.
Кончилось тем, что сапожник поклялся, что сделает совершенно новые сапоги, только бы мистер Шаляпин дал его фирме свой портрет с надписью...
- Ну, ладно. Дам портрет, только сделай мне то, что нужно. Федор Иванович смотрит на меня страдальческим взглядом, безнадежно машет рукой и произносит с горькой жалобой:
- Ну, разве же они смогут сделать так, как русские сапожники?.. Те уж отольют, бывало, так... Забыть нельзя их мастерство...
И мы снова беседуем, как два хороших опытных сапожника, о настоящем истинном искусстве простого труда и единодушно решаем, что настоящая жизнь должна зацвести в скором будущем, как никогда.
Тогда я снова вскакиваю на своего коня:
- И вижу я вас, Федор Иванович, в Сибири... В каком-то совершенно новом городе, в новом театре-храме... И ваши слушатели все люди новые, все понимают лучше, все загораются... И все они, простые, по-своему красивые, пахари и скотоводы, охотники, сапожники, извозчики, шахтеры, бурлаки и вся бывшая ваша братия. Ведь вы же чистокровнейший боярин от земли.
О, если бы... О, если бы. - Чуть слышно повторил Федор Иванович, и лицо его прояснилось, стало простым, почти иконописным и ясным, как солнечный день. И показалось мне в эту минуту, что этот человек способен встать, оставить славу, мишуру и поклонение восторженных толп, надеть азям, отрастить бороду и, взяв котомку и костыль, пойти туда, в просторы русских далей, для создания новой жизни среди старых заскорузлых бурлаков...
Ибо там, я чую, воистину грядет достойное Шаляпина перерождение крепкого гранита. Только мало мастеров, которым были бы под силу каменные глыбы, назначенные быть новой все объединяющей, все любящей Венерой.
Только бы поверить. Вернее, - только бы не заглушили в русских людях их великого дара - созидать.
* * *
... Вскоре я узнаю из американских газет, что Шаляпин ночью спустился в ночлежку бездомных босяков Нью-Йорка и там на своем несовершенном английском языке всю ночь беседовал о русском бездомном бродячем народе...
Кто-то обмолвился, что это очередное чудачество. Но я почуял, в этом знаменательный символ глубокой тоски о Человеке и о Родной Земле, о Великом сердце русского народа, ожесточенного вековой неправдой, но жертвенно-открытого навстречу величайших испытаний.
Когда видишь и слышишь Шаляпина, когда чуешь, что и для него весь мир без России неуютен и мал, - как не забьется сердце, как не затоскует душа о Родном Народе?..
Когда-нибудь позже, я расскажу, как говорил об этом сам Шаляпин. А сейчас мне хочется лишь сказать о том, что русское искусство делает нас равными среди неравных, что оно радует, бодрит и окрыляет надеждами и связывает нас с Родиной.
В песнях Шаляпина я слышу твой зов, Родная Земля! И я не подниму руки своей на тебя как бы скорбь и гнев твои не исказили лик твой. Где бы я ни был, как бы ни был тобой забыт или гоним, я богат и счастлив, когда перебираю драгоценные жемчужины, рожденные твоими недрами и разбросанные твоею щедрою рукой по просторам всего мира.
О, эти зерна русского великого искусства и страдания! Они не могут не взойти, не могут не расцветать прекрасным садом на радость всему миру, на славу Русской Земле.
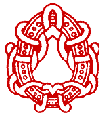 днажды из окна художественного павильона в Нью-Йорке я случайно увидал, как молодые скульпторы - он и она, - втаскивали в свою мастерскую две большие глыбы дикого камня. Рабочие в Америке грубы и не сделают лишнего движения, если это не оплачено или не предписано унионным кодексом. Они сбросили камни в садике и уехали. У художников, конечно, не бывает таких средств, чтобы оплатить сверхурочные минуты американскому рабочему. Рядовой художник даже в Америке - бедняк, и это никого не волнует. Здесь обычно выражение: “Он беден, потому что он артист”... Так что слабенькая девушка-скульптор в Америке должна сама, с дрючком в руках, с нечеловеческим напряжением втаскивать в свою мастерскую глыбу камня для своего будущего создания.
днажды из окна художественного павильона в Нью-Йорке я случайно увидал, как молодые скульпторы - он и она, - втаскивали в свою мастерскую две большие глыбы дикого камня. Рабочие в Америке грубы и не сделают лишнего движения, если это не оплачено или не предписано унионным кодексом. Они сбросили камни в садике и уехали. У художников, конечно, не бывает таких средств, чтобы оплатить сверхурочные минуты американскому рабочему. Рядовой художник даже в Америке - бедняк, и это никого не волнует. Здесь обычно выражение: “Он беден, потому что он артист”... Так что слабенькая девушка-скульптор в Америке должна сама, с дрючком в руках, с нечеловеческим напряжением втаскивать в свою мастерскую глыбу камня для своего будущего создания.