 ело, в котором поселился Виктор, когда-то давно было спрятано тайгою, но под ударами переселенческого топора тайга все отступала от села, все уходила дальше, и село постепенно очутилось на просторной кочковатой и болотистой поляне.
ело, в котором поселился Виктор, когда-то давно было спрятано тайгою, но под ударами переселенческого топора тайга все отступала от села, все уходила дальше, и село постепенно очутилось на просторной кочковатой и болотистой поляне.Георгий Гребенщиков
 ело, в котором поселился Виктор, когда-то давно было спрятано тайгою, но под ударами переселенческого топора тайга все отступала от села, все уходила дальше, и село постепенно очутилось на просторной кочковатой и болотистой поляне.
ело, в котором поселился Виктор, когда-то давно было спрятано тайгою, но под ударами переселенческого топора тайга все отступала от села, все уходила дальше, и село постепенно очутилось на просторной кочковатой и болотистой поляне.
Но отступавшая тайга, окружая поляну темно-синей каймою, все еще властвовала над селом как тюремные стены.
И то, что в трех верстах от села краем поляны каждый день в определенные часы взад и вперед проносились поезда, ныряя из тайги и в тайге же исчезая, не только не оживляло села, но еще больше подчеркивало его ненужность и убожество… Ни на минуту не задерживали свой бег эти поезда, а мчались быстро и гордо, будто ничего не замечая, без свистка, потому что против села ни станции, ни разъезда, ни даже будки стрелочника не было…
Только иногда во время ветра удушливый дым от паровоза расстелется по поляне и медленно ползет к селу уродливым и дразнящим чудовищем…
Жил Виктор в семье запасного солдата Григория в старом накренившемся на улицу доме, в отдельной чистой избе.
Семья Григория состояла из его жены, крещеной бурятки Анны, матери, рыхлой старухи Максимовны и двух дочерей — шестнадцатилетней Марьки, да пятилетней Аниськи. Все они помещались через сени в стряпчей избе, откуда постоянно слышался громкий говор Григория, звонкий смех или плач Аниськи и тягучее, басовитое молчание Максимовны.
Первое время Виктору обед и чай подавали в горницу, то широколицая и смуглая Анна, то тоненькая и щупленькая белокурая Марька, то тяжеловесная Максимовна.
Они молча входили и выходили и будто боялись сказать Виктору какое-либо слово, точно считали его немым или спящим.
И для того, чтобы как-нибудь слиться с семьей Григория и не быть одиноким, Виктор стал обедать за общим столом в стряпчей избе. Там было грязно, пахло чем-то кислым и было непомерно жарко. Но не это смущало Виктора. Его приводило в смущение то, и там при нем как-то все немели, и лица у всех делались строгими и вытянутыми… Даже маленькая Аниська пялила свои черные глаза на Виктора, как на букашку.
И Виктор опять уходил в свою избу с самоткаными половиками на чистом полу, с лубочными картинками на стенах и чахлыми гераньками и фуксиями на маленьких окошках.
Иногда, в праздники, в горницу заходил сам Григорий и, усевшись на лавку под маленьким и кривым зеркалом, закидывал ногу на ногу, опирался локтем на некрашеный стол, накрытый пестрой клеенкой, и заводил разговор о политике.
— Вот вы говорит все насчет, скажем хотя бы, правов рабочаго класса, — поучительно начинал он свою речь, — а я так полагаю, что спервоначалу всего о земле хлопотать надо…
— Вот говорят тоже, — продолжал Григорий после торжественной паузы, — што мол часы рабочие убавить, да все… А почто это у нашего брата, у крестьян, этих самых часов и в помине нету… Другой раз не токмо часы, а дни-то считать позабудешь, во до чего замотаешься в работе-то…Велика ли ночь летом и ту другой раз не спишь!..
Первое время Виктор охотно разъяснял все Григорию, по долгу и горячо говорил с ним, но Григорий, внимательно выслушав Виктора, слова его истолковывал по-своему.
— Знаа-аю!.. — перебивал он Виктора. — Пусть так, что рабочему и отдохнуть и поучиться надо, ну, а мы-то железные что ли? Нет, вы так доспейте, чтобы мужик-то мог жить поисправнее, ему льготу сперва исхлопочите…
И Григорий, совершенно убежденный в правоте своей программы, созданной очевидно в часы долгих размышлений, чем шире развивал перед ее перед Виктором, тем победоноснее смотрел на него…
И опять разъяснял Виктор, и опять приноравливался к пониманию Григория, выкладывая ему все то, что так стройно уложилось у него в ту ще пору, когда сам он горел, грел огнем веры и надежды…
— Ну. Нет, шалишь, мамонишь, на грех наводишь! — с улыбкой скептицизма говорил опять Григорий.
Виктор начинал горячиться и, убеждая Григория, ловил себя на том, что объяснения его выходят очень книжными и, что жизни-то народной он действительно не знает хорошо, но и согласиться с Григорием не мог, и в результате еще больше горячился.
А Григорий, заметив это, начинал успокаивать его:
— Нет!.. Так чё тут сердиться-то?.. Это ведь такое дело, что полюбовно надо! — и быстро переводил разговор на другую нейтральную тему.
— Печку не протопит вам? Может, холодно? Вы ничё, не стесняйтесь, дрова-то у нас, слава Богу, вон ведь из окна видно!..
В этом маневре Григория Виктор улавливал особую мужицкую деликатность, которой он не предполагал раньше, зная мужика по литературе и имея о нем понятие, как о сером, забитом и несчастном создании.
— Странно, черт возьми, — думал Виктор после того, как Григорий уходил из горницы, — выходит, что не их учить, а у них поучиться сначала надо.
А Григорий, между тем, так объяснял себе раздражение Виктора:
— Человеку и так не сладко, — думал он уходя от него, — можно сказать, в неволе человек, а я еще разговорами своими ему докучаю, — и он обещал себе не заводить больше этих разговоров… Но только приходил праздник, он шел к Виктору и опять как-нибудь сторонкой и невзначай подходил к тому же больному месту.
И часто, слушая Григория, Виктор улавливал нечто новое для себя и хоть раздражался тем, что Григорий много болтает и что самоуверенность его граничит с невежеством, но в то же время чувствовал, что словами Григория говорит сама жизнь.
— Что ж?.. Будем учиться этому здесь, около народа, — говорил Виктор и нервно ходил по горнице, стараясь разобраться в сложных противоречиях…
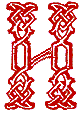 выходило как-то так, что в Викторе мало-помалу стал охладевать тот прежний жар, с которым он пришел сюда из далекой и родной страны.
выходило как-то так, что в Викторе мало-помалу стал охладевать тот прежний жар, с которым он пришел сюда из далекой и родной страны.
Странно, — думал часто Виктор, лежа на своей кровати и слушая певучие стоны зимних буранов, — точно эта сибирская стужа и кровь во мне заморозила…
— В этой среде и в этой обстановке совсем отупеешь, — озлобленно думал он и, встав, подходил к столу, на котором стояла маленькая жестяная лампочка, и хватался за какую-либо давно прочитанную книжку.
Но скоро бросал ее, потому что мысль уносила его дальше прочитанных страниц, услужливо рисовала забытое, воскрешала милые образы близких людей и, как штопором, сверлила мозг:
— Отупеешь! Остынешь!.. Отстанешь!.. — сверлил штопор, и Виктор быстро ходил по горнице, ерошил длинные, темные волосы, упирался тоскливыми глазами в темные впадины окон и опять бросался на свою жесткую и смятую пастель на деревянной широкой кровати и старался ни о чем не думать…
Иногда он засыпал прямо в потертой студенческой тужурке, а иногда и лампу погасив, и раздевшись, не мог заснуть вплоть до тусклого зимнего утра.
Утром пробовал занять себя какой-либо работой, шел во двор, помогал Григорию пилить дрова или отметывать сено, но выходило как-то так, что Григорий уступал ему лишь незначительную часть работы, как малолетнему, или просто говорил:
— Да не беспокойтесь!.. Чего вы: замараетесь только!..
И опять раздражался Виктор и, стиснув зубы, уходил из двора в деревню, шел по кривой пустынной улице, где из-под каждых ворот набрасывались на него собаки и поднимали страшный лай, люди же, разинув рты, смотрели на “ссыльного” и не догадывались даже унять своих собак.
— Звери, черт вас возьми! — озлоблялся Виктор, и совсем удрученный возвращался в свою квартиру, где снова начинал мучиться проклятыми противоречиями, и ему казалось даже, что его старания являются каким-то тяжелым недоразумением.
— Стоило ли бороться за людей, которые тебя считают ничтожеством?!
И вставала тогда во весь рост своя личная жизнь, властно требую широкой, свободной дороги к счастью, которое есть, которое должно быть… Но отрезаны все пути к счастью тем самым силовым кругом тайги, которая облегла и замкнула собою всеми забытое убогое село.
Вспомнилась мать, вдова-чиновница, из последних средств посылающая ему пятнадцать рублей в месяц… И так совестно и горько было сознавать Виктору, что все ее надежды на помощь сына окончились для нее таким тяжелым ударом. Садился за стол, писал длинное письмо матери, полное нежных слов и уверений, плакал над ним и, запечатав, пешком отправлялся на станцию, чтобы своими руками опустить его в почтовый ящик.
От села до станции было двенадцать верст, и Виктор шел туда по узкой кривой дороге, то и дело сворачивая от возов с дровами или с сеном, пока не выходил на полотно линии.
И странной одинокой и темной точкой исчезала вдали его сгорбленная фигура в поношенном плаще и желтом башлыке поверх старой фуражки с синим околышем.
А когда приходил, то, прежде всего, вбегал в грязный, но теплый зал станции и, отогревшись, искал глазами массивную фигуру жандарма, боясь, как бы не заметил он его, Виктора.
И когда удавалось опустить письмо незамеченным, как-то сразу становилось легче, точно вместе с письмом часть тоски своей ронял он в почтовый ящик.
Иногда Виктор дожидался поезда и в ожидании его нетерпеливо ходил по площадке. Видел всех тех же давно примелькавшихся начальника станции, жандарма, малолетнего сынишку стрелочника в отцовской тужурке, да еще неизменную толстую девицу, родственницу жандарма. Она всегда перед приходом поезда наряжалась в старомодный жакет, черную шапочку и муфту и с сияющим видом встречала и провожала все пассажирские поезда.
С веселым гулом подкатывал поезд, и паровоз как запыхавшийся громадный конь с красными ногами, грузно останавливался и, тяжело отпыхивая, переводил дух, а станция наводнялась тем особенным оживлением, которое делало ее в это время похожей на обрывок улицы шумного города. Все веселые, оживленные лица, молодые и изящные женщины с открытыми прическами, элегантно одетые мужчины, иногда студенты и офицеры, какие-то свитки, тужурки, пальто и простые азямы… И все смеются и шумно разговаривают…
Но вот третий звонок, все спрятались в вагонах, и железный конь с красными ногами пронзительно крикнул, выбросил облако пара и помчался дальше… И опять все смолкло на станции, опять те же начальник станции в красной шапке, массивная фигура угрюмого жандарма, мальчонка в отцовской тужурке да смеющаяся девица в старомодном жакете…
Долго смотрит Виктор вслед удаляющемуся поезду, а потом с еще более тяжелой тоской, нехотя и молча, направляется обратно к селу, и опять одиноко чернеется на белой дороге его сгорбленная фигура в старом плаще и желтом башлыке поверх студенческой фуражки.
Григорий встречал его у ворот приветливой улыбкой и спрашивал дружелюбно:
— Ну што, разгулялись?
Виктор ничего не мог ответить, а только, слабо улыбнувшись, вздыхал и, обернувшись, смотрел на оставленную позади тайгу, такую унылую и мертвую, что, казалось, никогда и ничто не разбудит ее тяжелого и холодного сна.
— Ну, проходите, самоварчик готов… проголодались поди?..
И только поевши и отогревшись чаем, Виктор чувствует себя странно уставшим. Засветло еще ложится на свою постель и крепко засыпает на всю длинную зимнюю ночь…
А утром опять та же тоска, опять то же тягучее одиночество, пока не войдет Марька и не позовет пить чай.
И не чему было приложить молодых сил, не к кому пойти, не с кем вспыхнуть ярким пламенем протеста против того гнетущего и темного, что давит все светлое тяжелым и злым равнодушием…
Иногда придет старуха Максимовна и посоветует:
— А вы бы к батюшке в гости сходили!.. Вот и веселей бы стало… У них подолгу вечерами-то сидят, поповны с учительшей все, знать-то, во “всяк свои козыри” играют…
А потом еще что-то скажет, еще кое-что посоветует, чтобы не так тоскливо было Виктору и уйдет, не получивши от него ответа.
А когда уйдет, Виктору совестно станет, что не ответил, потому что знал, что старуха утешить его хотела… И от этого становилось еще тяжелее…
А в праздники опять приходил Григорий и, стараясь развлечь своего квартиранта, начинал что-нибудь рассказывать.
Но это окончательно угнетало Виктора, потому что он чувствовал, что даже Григорий относится к нему как к больному ребенку.
А Григорий, желая очевидно посочувствовать Виктору, по простоте души своей, шел еще дальше в своем сочувствии:
— Эдакий молодец, можно сказать, а должон страдать на чужой стороне… Эка ты, Господи, Твоя воля!
Но Виктор, подавляя в себе все огорченья, пытался успокоить Григория:
— Ничего, Григорий!.. Ничего, привыкну и я… Это сначала только… А потом привыкну!..
Но чуял Григорий, как тяжело было Виктору и, уходя от него, он добродушно спрашивал:
— А печку вам не протопить?.. Вы не стесняйтесь, пожалуйста, дров-то у нас хватит!..
Молчал Виктор, стараясь ко всему привыкнуть. Оставшись один, бросался на кровать и, подавляя рыданья, глухо и отрывисто говорил пустой избе:
— Подождите… Привыкну… Закалю свои силы… — и уткнувшись в подушку, ей одной доверял Виктор свои тяжелые думы…
И не замечал, как в горницу входил опять Григорий и, поняв в чем дело, советовал простодушно:
— А вы бы сходили… Все разгулялись бы маленько!.. Куда же ведь деваешься?..
Как ужаленный вскакивал с постели Виктор и, отвернувшись к окну, старался смотреть вдаль, на лиловую кайму тайги и не мог ничего ответить Григорию…