Г.Д.Гребенщиков
У вечных снегов
Из путешествий по Алтаю
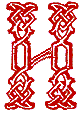 з узкого окна своей, расписанной какими-то цветами и птицами, избы я часто гляжу в бинокль за деревню, в даль, и невольно взгляд мой тянется к небу, в которое ушли белоснежные хребты... В ясную, безоблачную погоду больно режет глаза этот вечный и ослепительно белый снег, и потому я опускаю глаза ниже, на безжизненные альпийские поля, где сереют россыпи и желтеют гнилистые обвалы... Взгляд падает еще ниже, на границу леса, где ярко-зеленой лентой обвивают склон пышные луга и острыми пиками маячат погибшие от холода кедры и лиственницы: родившись ниже - они за десятки лет вытянулись в слой холода и поплатились жизнью за свое дерзанье...
з узкого окна своей, расписанной какими-то цветами и птицами, избы я часто гляжу в бинокль за деревню, в даль, и невольно взгляд мой тянется к небу, в которое ушли белоснежные хребты... В ясную, безоблачную погоду больно режет глаза этот вечный и ослепительно белый снег, и потому я опускаю глаза ниже, на безжизненные альпийские поля, где сереют россыпи и желтеют гнилистые обвалы... Взгляд падает еще ниже, на границу леса, где ярко-зеленой лентой обвивают склон пышные луга и острыми пиками маячат погибшие от холода кедры и лиственницы: родившись ниже - они за десятки лет вытянулись в слой холода и поплатились жизнью за свое дерзанье...
Еще ниже смотрю я, и бесконечной панорамой тянутся морщины мохнатых склонов, будто зеленое, поросшее крупной шерстью, тело какого-то великана... Еще далеко поодаль хребта, на котором горные складки пойдут еще гуще и тенистее, и на котором бесчисленные ручьи превратились уже в грозные, гремучие потоки.
Но вот взгляд мой спустился ниже подола хребта, где гуще и выше леса, где широкой волною падают последние террасы и отлогие раздольные луга бегут сюда под самую деревню, откуда я гляжу... И опять медленно и неотрывно бинокль мой идет вверх...
- Ты чего там выглядываешь все?..
Отнимаю от глаз бинокль. У окна стоит хозяин, Евлан Минеич, богач и старовер. Немножко иронически улыбается, берет в руки бинокль и плешиной поворачивается ко мне.
- Фу-у, братец ты мой, горы-то вот тут и есть... Ишь-че, а!.. Лошадей искать, когда уйдут в горы, хорошо!..
Отдает бинокль, поглаживает черную боярскую бороду, задумывается.
- Ну, вот еще о чем я спрошу тебя, - начинает, повысив тон, - Спасенье не в обряде, а в добрых делах... Ну, хорошо: вот, например, так будем говорить, - Пришел ко мне в избу киргиз, сел со мной за стол и стал бы из одной чашки хлебать, а я бы ему ничего не скажи!.. Как это по-твоему, а?..
- По-моему, грешнее будет, если ты его выгонишь из-за стола, а если посадишь, это - доброе дело...
- Тьфу!.. Да не токмо што посадить, я их и в избу-то, поганых, не пускаю!..
Наступает неловкое молчание, которое тотчас же мой хозяин нарушает, меняя тему.
- А ты тут во время ночи тайком не куришь? - и при этом хитро, испытующе улыбается.
- Нет, я совсем не курю!..
- Совсем?!. И никогда не курил?..
- Никогда!
Делает строгое лицо, опирается на подоконник и смотрит прямо в глаза.
- Вот доброе дело, милый сын... Эк, ведь, тебя Господь-то надоумил, а!..
Но все-таки я чувствую, что всовывая в окно свою голову, он принюхивается, не пахнет ли табаком? Но убедившись, что не пахнет, весело продолжает беседу.
- Зачем ты сюда приехал?.. Чего тебе в Омске не жилось, а?.. - Скажи пожалуйста... Неужели тебе тут не скушно!!.
В это время распахиваются ворота, и дружной гурьбой вбегает стадо коров. За воротами слышится крик работницы киргизки:
- Гоу, гоу, гоу!.. - это она скликает телят, а коровы жадно набрасываются на воду, что светлым ручьем бежит через двор.
Евлан Минеич отходит от окна и кричит на пастуха-киргиза, который въезжает верхом на худой, как у Дон-Кихота, лошади.
- Ты пошто не напоил их там?.. Мало тебе речек-то было?.. Ах, он, орда остроголовая!..
Киргиз молча и флегматично, подняв "союл" (палку), продолжает медленно ехать к коновязи, с каждым шагом пиная свою лошадь в худые бока...
Евлан Минеич поспешно подходит опять к окну и деловито спрашивает:
- Ну, ты поедешь завтра с нами в маральники-то?.. Рога смотреть?..
- Обязательно! - кричу я, обрадовавшись этому, долго желанному случаю...
- То-то, только смотри, раньше вставай!..
- Куда это? - проходя мимо и улыбаясь, спрашивает хозяйка, но не дожидаясь ответа, торопится к коровам, в руках подойник и ломоть хлеба.
- Агашка! - кричит она дочери, - Беги, зови скорее баб-то, доить надо!..
Ее красный сарафан, босые толстые ноги и рогатая повязка на голове мелькают уже за коровами, а Евлан Минеич смотрит ей вслед и, подмигивая мне, шутит:
- Вот поживешь у нас с годик, мы тебя на экой же мягкой женим!.. На "своды"*! А?
И уходит, рассыпая негромкий добродушный смешок.
Склоны гор порозовели, а из-за них выплыли оранжевые облака и стали кутать собою белые вершины, как бы ревниво пряча их от поцелуев закатывавшегося солнца...
* * *
Всего нас пятеро: кроме меня и Евлана Минеича, - его сын, крепкий, как кедр и осанистый, как древнерусский витязь, Харитон Евланыч, их сосед Сидор Григорич и работник-киргиз.
Я еду последним и слышу, как Сидор рассказывает Харитону и Евлану какую-то смешную историю и даже, копируя кого-то, повод бросил и жестикулирует. Слушатели смеются и время от времени Евлан осудительно ругается.
- А-а, будь они прокляты со свету!..
Сидор продолжает:
- ... Утром, чуть свет, а он без опояски, босиком идет мимо меня и свистит во всю головушку... Потом зашел к себе во дворишко, - у меня из дома-то все видно, - подкрался к амбару, где "она" спала, да и заревел песню... Вот, смотрю я, она оттуда и вылазит, простоволосая, к нему и давай петь оба... Ха-ха-ха!.. Потом, слышь, обнялись и пошли с песнями по улице...
Харитон строго скрепляет:
- Уж и правда говорится, што: "кому на ком жениться, тот в того и родится"...
Лошади в это время шли по крутому обрыву и то и дело виляя по узенькой горной тропе, тяжело дышали и останавливались. Хотелось слезать, чтобы было легче лошадям, но веселый разговор спутников, их смех и шутки действовали ободряюще: очевидно, для лошадей дело привычное.
Мы ехали еще в пределах леса, и картина гор здесь была совсем не похожа на ту, какая казалась в бинокль. Внизу, прыгая с яра на камни и с камней на мертвые деревья, ревела какая-то речка, под ногами вилась узенькая, спрятанная в высокой сочной траве, тропинка, то и дело карабкаясь на крутые обрывы, а вверху тихо и ласково шумели хвойные верхушки кедров и лиственниц... Громадные муравьиные кучи, гнилые буреломы, черные и красные смолистые пни и угрюмые, поросшие бурыми мхами, камни чередовались друг с другом... Русские люди, не умолкая, беззаботно о чем-то говорили, а смуглый киргиз тягуче и монотонно тянул какую-то родную песню... И его черные, как бы полусонные, глаза смотрели прямо перед собою, на гриву лошади.
- О чем он думает? - беспокоил меня этот вопрос... - О том ли, что не кочует он свободно, как другие, имеющие свой скот киргизы, или о том, что, за неимением средств на калым, все еще не может взять себе жены?.. О том ли, что некогда места эти населяли одни смуглые предки, или о том, что, ставши слугою русского мужика, он совсем забудет о степных просторах?
Тропинка ползла по совсем отвесному обрыву, и даже веселый разговор оборвался. Евлан Минеич опасливо глядел вниз и что-то бормотал себе под нос: может быть, молитву, а, может, ласкал свою лошадь.
Местами, где толстые вьюки и сумы задевали за стволы деревьев, лошади сами останавливались, пока седоки отцепляли сумы и, придерживаясь за дерева, чукнут на них. Иногда из-под копыт с дорожки срывались камни и, падая вниз, увлекали за собою взгляд... Тогда кружилась голова, и сердце слегка замирало... Лучше всего было глядеть назад, где посиневшие и затуманенные долины как бы провалились, и все тона слились в один лиловый тон, а высокие и стройные леса казались просто мелкой травкой...
Наконец, граница леса кончилась. Тропинка пошла ярко-зеленым и цветистым альпийским лугом. Кое-где в глубоких морщинах лежит оледенелый снег, и чувствуется как-то совсем иначе... Хочется хоть небольшой, но ровной площадки, где бы можно отдохнуть спокойно от продолжительного нервного напряжения, но спутники уже снова весело разговаривают и все едут, все лезут куда-то выше, по обрывистому и бесконечному косогору...
- Ну, что скоро перевал?
- Фу-у!.. Еще поскребем в затылке-то!.. К обеду, разве!..
Не так за себя, как за своего "Бураго", беспокоился я. Купленная вдали от Алтая, лошадь моя едва ли была привычна к таким поездкам. На шее, на боках и на спине у ней была пена, мышцы тряслись и дыхание перешло в хрип. Казалось, что она вот-вот падет.
Я отстал... А когда все мои спутники скрылись за первым косогором, я почувствовал себя страшно одиноким среди этой дикой, безжизненной пустыни. Конечно, они должны меня дождаться, если оглянуться назад, а как долго не оглянутся?.. Догнать их здесь немыслимо!.. И я, взяв в повод лошадь, пошел впереди ее, но как это было смешно!.. Лошадь то и дело толкала меня, я падал, хватаясь руками за камни и казался в собственных глазах чрезвычайно карикатурным... Сел в седло и потихоньку поехал...
Было уже должно быть очень поздно, когда я подъехал к своим спутникам, которые ожидали меня на вершине седловидного перевала у громадного снежного поля. Еще далеко внизу меня окутал мглистый туман и стал осыпать мельчайшими пузырьками влаги. Я едва мог видеть под ногами лошади узенькую тропинку, которая, впрочем, на голых каменьях часто терялась, но выручала лошадь, шедшая, видимо, по следам передних лошадей, благодаря своему чутью...
Стало совсем холодно и какой-то острый, не сильный, но настойчивый и холодный ветер пронизывал меня насквозь...
- Вот добро!.. - встретил меня смеющийся Евлан Минеич, - А мы думали, што ты к "Михайлушке" на перепутье заехал... Давай, паря, грейся, или иди сюда под камень!..
И он из пазухи вытащил и подал мне полкалача, которому я очень-таки обрадовался...
Где-то журчала вода, выбегая из снега, завывал сердитый ветер, и потели камни от сплошного непроглядного тумана... Лошади стояли в неудобных позах прямо на тропинке, пряча морды друг дружке под хвост... Затем крупными хлопьями пошел снег и не стало видно ни зги...
Спутники мои продолжали свой бесконечный разговор, шутили, смеялись, грелись в борьбе друг с другом... И славно было чувствовать себя возле них на этой высоте в облаках и у вечных алтайских снегов.
К маральникам, за хребет, мы спустились глубокой ночью.
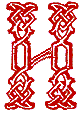 з узкого окна своей, расписанной какими-то цветами и птицами, избы я часто гляжу в бинокль за деревню, в даль, и невольно взгляд мой тянется к небу, в которое ушли белоснежные хребты... В ясную, безоблачную погоду больно режет глаза этот вечный и ослепительно белый снег, и потому я опускаю глаза ниже, на безжизненные альпийские поля, где сереют россыпи и желтеют гнилистые обвалы... Взгляд падает еще ниже, на границу леса, где ярко-зеленой лентой обвивают склон пышные луга и острыми пиками маячат погибшие от холода кедры и лиственницы: родившись ниже - они за десятки лет вытянулись в слой холода и поплатились жизнью за свое дерзанье...
з узкого окна своей, расписанной какими-то цветами и птицами, избы я часто гляжу в бинокль за деревню, в даль, и невольно взгляд мой тянется к небу, в которое ушли белоснежные хребты... В ясную, безоблачную погоду больно режет глаза этот вечный и ослепительно белый снег, и потому я опускаю глаза ниже, на безжизненные альпийские поля, где сереют россыпи и желтеют гнилистые обвалы... Взгляд падает еще ниже, на границу леса, где ярко-зеленой лентой обвивают склон пышные луга и острыми пиками маячат погибшие от холода кедры и лиственницы: родившись ниже - они за десятки лет вытянулись в слой холода и поплатились жизнью за свое дерзанье...