Г.Д.Гребенщиков
ДРЕМЬ
I
 о двадцатых годов Корней не выезжал из гор и даже как-то не расспрашивал о равнинах в той стороне за горами, куда каждый вечер закатывается солнышко. Знал, что оттуда на вьюках привозят белую муку, порох и расписные ситцы для рубах. Не любопытно ему было даже и то, что грамотеи старики всегда по праздникам о чем-то важно разговаривали в сумрачной моленной, иной раз спорили и, потрясая костылями, упоминали слово “Русь”, как будто сами были не русские. Корней и впрямь не знал, был ли он русский. Он слышал, что басурмане после смерти в ад пойдут, а басурманин тот, кто креста на шее не имеет и за стол садится не крестясь или не молясь ложится спать. И монголы, калмыки и киргизы, что за хребтом живут, где солнце всходит - тоже басурмане. Все же люди, проживавшие на речке Рассыпной, называются ясашные, и он, Корней - ясашный, а почему ясашный - никого не спрашивал. Знал только, что там на Руси почти всех молодых парней в солдаты берут, а царь печать антихристову к ним прикладывает, чтобы душу дьяволу отдать; ясашных же в солдаты не берут, и они не должны даже из одной чашки есть с теми, которые живут там, на равнинах.
о двадцатых годов Корней не выезжал из гор и даже как-то не расспрашивал о равнинах в той стороне за горами, куда каждый вечер закатывается солнышко. Знал, что оттуда на вьюках привозят белую муку, порох и расписные ситцы для рубах. Не любопытно ему было даже и то, что грамотеи старики всегда по праздникам о чем-то важно разговаривали в сумрачной моленной, иной раз спорили и, потрясая костылями, упоминали слово “Русь”, как будто сами были не русские. Корней и впрямь не знал, был ли он русский. Он слышал, что басурмане после смерти в ад пойдут, а басурманин тот, кто креста на шее не имеет и за стол садится не крестясь или не молясь ложится спать. И монголы, калмыки и киргизы, что за хребтом живут, где солнце всходит - тоже басурмане. Все же люди, проживавшие на речке Рассыпной, называются ясашные, и он, Корней - ясашный, а почему ясашный - никого не спрашивал. Знал только, что там на Руси почти всех молодых парней в солдаты берут, а царь печать антихристову к ним прикладывает, чтобы душу дьяволу отдать; ясашных же в солдаты не берут, и они не должны даже из одной чашки есть с теми, которые живут там, на равнинах.
Да и не было нужды Корнею о чем-либо беспокоиться.
Было у него одно определенное и ясное сознание, что он, как и Терешка с Климкой, как и все сыновья богатых пчеловодов, никого не бояться, ни в чем не нуждаются, самим Богом избраны для жизни в Беловодье, чтобы веру старую спасти.
Поэтому на всех, кто жил не с ними, не на речке Рассыпной, смотрели как на людей нечистых, по-настоящему не православных, табашников, никониан, еретиков и грешников.
Слыхал Корней, что раньше, лет назад полсотни, дедам приходилось трудно, даже отцы наплакались в горах без хлеба, без жилья, без охотничьих припасов. А главное - терпели много от начальства и от никонианских ересей. Как за зверями охотились за ними, и старики - как звери же: уйти далеко в глушь силы не хватало, там не было ни хлеба, ни жилья, ни топора. Все надо было на Руси добывать. И близко от Руси нельзя было жить. Жили, как волки, не близко, ни далеко от заселий. Уж потом только, когда силы набрали, тропки в глуши протоптали, исподтиха пасеками там обзавелись - тогда переселились к самым истокам Беловодья... И зажили, благословясь, на славу.
За то вот и благословил Бог: всякой благодати чаши полные и от грехов подальше, и к благочестию поближе - как в скиту.
Корнею вовсе думать ни о чем не доводилось. Все было само собою, все вовремя и в изобилии. Это после уж он начал разбираться: кто бедный, кто богатый, кто сытый, кто голодный; а что такое голод - понял только на охоте, лет семнадцати, и то, когда один на промысел пошел. А от того, что детство протекало гладко, сытно, беспечно, - не научился ни надеяться, ни вспоминать, ни думать, и потому не знал: что значит хорошо, что значит плохо. Знал только, что значит больно и что значит весело. Плакал же другой раз зря: либо о матери, которая уйдет по хмель или по ягоды, либо с досады на отца, который уезжал верхом в седле в горы, а его не брал.
Плакал как-то раз с испуга. Угнался за отцом по лесной тропинке, заблудился там и ночью кое-как пришел домой.
И плакал больше от того, что кто-то дразнился в лесу... Он плачет и тот плачет, он ругается - и тот ругается. И до сих пор Корнею кажется, что это черт. Потому-то никогда он теперь не поет и без нужды громко не кричит в лесу.
Да и все, живущие в горах, всегда едут по лесу молча. Только возле рек, всегда шумливых, быстрых и прохладных, начинают разговаривать и разговаривают громко, чтобы перекричать реку. И дома также громко разговаривают потому, что все дома стоят на берегах все тех же быстрых и шумливых речек. У многих речки даже дворами загорожены, чтобы не нужно было скотину гонять на речку: пусть пьет сама, когда захочет.
Скот ел и пил и десятки лет сорил навозом в речки, но речки так быстры и сильны, и так часто после дождей становятся могучими, что никогда не делаются мутными, всегда прозрачны, быстры и веселы.
Спокон веку так заведено: вверху полощут грязные рубахи, внизу берут воду на щи и кашу, и никогда никто не хварывал, и редко кто не в свое время умирал. И ребятишки росли пухленькие, с ниточками на ногах и на руках, с отвисшими, плотно набитыми ядреной кашей, животами.
Как солнышко пригрело - сейчас в речку, хоть весной, хоть осенью, когда забереги ледяные застывают.
А придет зима, все перед купанием в банях черных, дымных, жарких, до красна напарятся и прямо раскаленные, дымящиеся паром, крякают в ледяной реке, как от крепкой браги.
И избы приземистые, коренастые, из лиственницы и кедрача, присаживались к речкам плотно, навек. Покрытые березовой корою, с самодельною резьбою на коньке и над окошками, с глухими серыми крылечками, с восковыми, желтыми полами - они глядели узкими окошками степенно, строго и упрямо, и в них-то, в этих избах, в длинные зимние ночи, зачинались новые люди, новые поколенья, маленькие Климки и Терешки, что с трех-пяти лет навсегда запомнят: горы, леса и реки, травы, рыбы, звери - все это создано для них, и все это должно давать им пищу, тепло, уют и радости, и ту простую жизнь, от которой ни один из стариков, спущенных в долбленых крепких домовинах в каменные могилы на пригорке - не подумал добровольно отказаться...
И вот - до двадцати годов Корней не прожил, а пробаловал. А в двадцать лет - похоронил отца - лесиной его задавило на порубке. Потом разругался со стариками из-за веры - требовали они, чтобы он какую-то эпитимию понес - отца похоронил не по обряду, - а он не-то сглупа, не-то с досады брякнул им в моленной:
- А, ну вас к лешему!.. Не до того мне-ка теперь. У меня на руках сироты, пасека, хозяйство! Мать от горя слепнет... Надо - дак молитесь, это ваше дело, стариковское!..
Даже не смыслил Корней, какую он беду накликал на себя.
Не только старики, родной дядя, все соседи отвернулись от него, как от нечистого, а мать вовсе изошла слезами.
И пошло все достоянье, все отцовское обзаведенье на позор. Через год узнать нельзя было заимку: лошади, хоть ребра сосчитай, коров наполовину зверь в лесу задрал от недогляда, дворы поразвалились. Только пасека держалась, да и то пока там мать с меньшими ребятишками жила. А мать свалилась, пролежала лето на одре, и от пасеки осталось три десятка лежаков.
Но все это как будто не тревожило Корнея, хотя в глаза соседям он не стал глядеть: встретит кого, натянет шапку на глаза и отвернется. А чаще - набьет сумку сухарями, возьмет отцовскую винтовку и уйдет куда-нибудь дня на три, а то и на неделю. И ходил на промысел, не как заправские охотники - без собаки.
Расстреляет порох, явится худой, оборванный, голодный, и Климка с Терешкой, неразлучные друзья-товарищи, смеются, потешаются над ним, проходу не дают:
- Ладно они, барсуки-то, напугали тебя! Ишь бежал от них - как оборвался... Вот Парунька-то увидит - похохочет над тобой.
Пока смеялись просто, по-приятельски, Корней молчал и ухмылялся. А то, скажет простодушно:
- Я следы медвежьи видел... Све-ежие. Большие.
- И убег?
- Нет, пошто!.. Я где не то его настигну! - и уверенно и добродушно улыбается сверстникам.
Но как только они к своим насмешкам приплетали Паруньку, которая и без того Корнея стала избегать, Корней вдруг свирепел и схватывал себя за пояс, будто пробуя, достаточно ли туго подпоясан, а светло-серые глаза его щурились, голос становился сиплым и глухим:
- А ты што лезешь? Ну!?. Какое твое дело? Ну!..
А сам старался как-нибудь скрыться с глаз товарищей. И снова уходил в леса и горы. Там он делался смелее и беспечнее. По целым дням, не говоря, не думая, он превращался в слух и зрение и жадно искал случая напасть на след зверя, найти, убить. Сначала убивал из озорства и любопытства, потом - для пробы глаз и ружья, потом - для славы, чтобы было чем похвастать на заимке. А потом стал убивать потому, что уже не мог не убивать - в убийстве заключалось все: и жизнь, и развлечение, и слава. А слава открывала как бы дверь к Паруньке, и тут-то у Корнея завершалась радугой вся жизнь, все его звериные скитания по ущельям, по лесам, по россыпям и по трущобам.
Парунька была самый красный, самый ценный зверь, которого хотелось взять живым и приручить к себе вместо собаки, чтобы никогда не расставаться.
Но Парунька, как лисица: хитра и ласкова, увертлива и зла... Сегодня приголубит, завтра - насмехается... Всю разглядел ее Корней. Всю ощупал так и эдак. На всю жизнь запомнил запах ее сарафана, оспенные крапинки на шее, сосчитал все бисеринки в янтарях. Ртом испробовал пушок на шее, смуглую кожу на груди... Но глаза ее никак не мог запомнить и всегда, как только встречал, - глядел в ее глаза, глядел не отрываясь, но снова забывал, что надо разглядеть глаза, чтобы потом в лесу припомнить. Но как только начинал глядеть в глаза - все забывал и беспокойно ждал: вот заблестит в них волчья искра, вот оттолкнет и крикнет:
- Чего уставился? Не прицеливайся, я тебе не горносталька!
Если же не оттолкнет, не крикнет, тогда сам Корней начнет ей говорить:
- Парунька! Слышь ты. Парасковья1 Пошто ты Климку манишь?.. И с Терешкой прошлый раз сидела у амбаров... Чем тебе я хуже? Ну-ка ты, Парунька!.. Слышь ты... Утушка моя!..
И всматривался ей в глаза так зорко, так близко, что она оттолкнет его голову и захохочет, как рассыплет бисера.
- Чегой-то ты пристал? Валежина я тебе - навалился! Ну-у-ка! - и стряхнет с груди руку его, выскользнет из его объятий.
А потом, резонно так, заговорит с ним:
- Домашность-то отцовскую не берегешь? Коевадни на пасеку твою заехала - матка жалуется, што скотина ульи повалила. Пошто не огородишь? Городьба-то повалилась вся.
Корней глядел в ее теперь такие близкие, такие ласковые глаза и не умел ей ответить.
А она опять рассыплет бисер и спрашивает громко:
- А зверей-то много настрелял? Зверовщик!.. Поди, медведей-то боишься? Как я с тобой жить-то буду в пасеке? Медведь-то мед, ведь, любит: придет!.. - и рассыпает бисера - хохочет.
А у Корнея все растет, растет желание, страстное желание убить для Паруньки самого матерого, самого страшного зверя.
И он, размашисто перекрестившись, говорит ей, задыхаясь и сверкая светлыми простоквашными глазами:
- Вот те Истинный! Убью!.. Вот увидишь - для тебя убью!..
И льняные волосы его азартно встряхивались со лба на темя и обратно.
II
 Корнея израсходовались пули. Их и было-то всего четыре: две потратил на глухаря, окаянного какого-то, дьявол, что ли, глухарем прикинулся. Видно было: даже перья оба раза сыпались, а не душевредно: улетел. Третью пулю в воду уронил, когда перебродил Громотуху. После дождей вода взыграла по пояс. Штаны снял, нес в руках, поднимал выше головы вместе с сумкой и винтовкой, чтобы порох не подмочить - выпала из сумки. Даже слышал - что-то булькнуло. Подумал - пуля, так оно и есть: пуля выпала из сумки и утонула.
Корнея израсходовались пули. Их и было-то всего четыре: две потратил на глухаря, окаянного какого-то, дьявол, что ли, глухарем прикинулся. Видно было: даже перья оба раза сыпались, а не душевредно: улетел. Третью пулю в воду уронил, когда перебродил Громотуху. После дождей вода взыграла по пояс. Штаны снял, нес в руках, поднимал выше головы вместе с сумкой и винтовкой, чтобы порох не подмочить - выпала из сумки. Даже слышал - что-то булькнуло. Подумал - пуля, так оно и есть: пуля выпала из сумки и утонула.
А четвертая... Ну, это не к добру - когда последняя пуля у охотника по мелкому зверю тратится: барсука убил. Да жирный, пуда в полтора, едва продрался с ним через трущобы.
- “Соли нет с собой, - испортится - придется бросить”, - досадовал Корней.
А главное - не к добру это. И так уж на сердце не ладно что-то. Гром ли, дождь ли, темнота ли или зло, что пули стратил - что-то разбудило в душе тревогу.
Корней дошел до знакомых кедров, - четыре из них из одного корня лет полтораста росли, - бросил на землю добычу, оправился, достал огниво - и еще беда: трут не горит. Не то от поту, не то дождь попал, не то в реке купнул его невзначай - не горит, хоть выжми.
- Вот, Господи прости, оказия!..
А дождь, как из ведра поливает, и молнии глаза совсем ослепили, как стеклом их выкололи. И река рядом ревет, как семь зверей. В простую пору, когда все благополучно, даже не слыхать ее, уши привыкают. А сегодня, как на грех, ревет, - терпеть нельзя: оглушила. Под ногами грязь, и обогреться негде. “Надо хоть на лесину влезть, а то, если медведь есть близко - на барсука припрет... Барсуки они, погань, вонючие, за пять верст медведь их чует...”
Хорошо еще, топор был у Корнея. Вынул его из-за пояса, вырубил на стволе ступеньку, привстал, до сучьев руками дотянулся, влез повыше, срубил там три сука потолще и смастерил на кедрах лабаз.
Пока работал в темноте - вспотел, согрелся и повеселел.
И вышло хорошо: хоть спи.
Спустился вниз, набрал побольше хворосту с травой, настлал на лабаз, забросил туда винтовку с сумкой, сел поудобнее, достал сухари. Только первый сухарь сунул в рот, хрумкнул крепкими зубами, да так рот сжатым и оставил: услыхал потрескивание сухих валежных сучьев. И так ясно услыхал, - как будто речного шума вовсе не было. И правда, шум реки куда-то провалился, слышны были только эти новые и осторожные потрескивания бурелома.
- Так и есть - унюхал, варначина: подкрадывается. Ну, скажи на милость! Надо же мне было на себя эдакую приманку добыть... Да хорошо, что хоть с собой на лабаз не втащил. Сожрет там и уйдет, быть может.
Корней неслышно приготовился: пощупал нож у пояса, топор взял в руки, винтовку положил поближе, чтобы хоть тычком “ему” по морде дать. Лег половчее, лицом вниз, и потихоньку прожевал сухарь.
Даже усмехнулся, слушая:
- “Кряхтит, должно натолкнулся на сук вострый... - прошептал Корней. - Эк, што бы те брюхо пропороть да кишки вымотать...”
И вспомнил, что если медведь на что наткнется - начинает злиться и кричать и драться с виноватою валежиной...
Корней потихоньку доставал сухарики, грыз их с плотно сомкнутыми губами и ждал, что вот начнется рев и треск, драка с лесом.
- “Нет, притих што-то... Неужто человека чует?” - Корней вгляделся в темноту и снова услыхал тяжелый, все заполняющий собою шум реки, а увидать - так ничего и не удалось.
Откуда-то в ущелье ворвался ветер, тряхнул верхушками кедров и пролил на Корнея целые ручьи воды. Корней приподнял голову и сквозь черную поветь хвои, сквозь маленькую прореху серой тучи увидал звездочку. И лишь потом заметил, что дождя уже нет.
Опять лег на живот и стал приглядываться и прислушиваться. Долго так лежал. Даже спина озябла и отерпла рука, держащая топор под грудью. И мокрая хвоя под ним стала горячей. Ничего не видать и не слыхать.
- “Што за оказия? Неужто мне поблазнило?”
Корней снова усмехнулся над собою и подумал:
- “Увидали бы меня теперь Терешка с Климкой. Проходу не дали бы, черти. Застыдили...”
Потом Корней невольно вспомнил Паруньку, что она всегда горячая и мягкая такая, - “Уснуть бы с ней хоть раз когда-нибудь!”
Вспомнил и зажмурился.
Грехов еще больших за ним не было. Возле амбаров как-то раз уснул лежа головой у Паруньки на коленях и так-то хорошо спалось, что и грехи на ум не шли.
Корней даже опять почуял запах Парунькиного сарафана и рта: из рта ее всегда лиственной серой пахнет. И зубы ее вспомнил: крупные и белые - всегда смеется.
Так и забыл про все опасности и задремал Корней на лабазе.
Под неумолчный шум реки увидал пестрый сон: то будто зимнею порою по застывшей и засыпанной снегом реке мчится он на тройке вместе с Климкой и Терешкой, и подвязанные под дугой колокольцы звенят на все ущелье. То будто он плывет на льдине спиной вниз и не может перевернуться, - боится упасть в воду, а где-то по берегу бегут Парунька с Климкой и Терешкой и хохочут всеми голосами над Корнеем. А река шумит, крошит льдины на куски и мчит Корнея в пропасть, к разъяренным водопадам у Медведь-горы...
Корней вздрогнул, даже охнул и проснулся.
Проснулся и не сразу понял, где он. Под грудью у него в побагровевшей руке, на которой отпечатался узор домотканого зипуна, закоченел топор, к щеке прилипла веточка хвои, а на свалившейся с головы войлочной шляпе серебрился иней.
Чуть брезжило утро. Высоко на ломанном хребте горы, сквозь тяжелый и седой туман, процеживался бледный румянец зари.
Потом в уши ворвался ревущий шум реки, и лишь тогда Корней припомнил все.
Припомнил и взглянул под кедры. И опять упал куда-то, провалился шум реки, опять оцепенел Корней на лабазе, и только дрожь, ядреная и острая, как тысячи иголок, напомнила ему, что он еще не окончательно застыл, не умер, не оглох и не ослеп.
Широко открытым удивленным взглядом впился Корней в то, что видел внизу под кедрами и даже промычал с усмешкой и пробормотал чуть слышно осипшим, полусонным голосом:
- Гляди-ка ты: с семьей!..
Никогда и никому в жизни не поверил бы Корней, что вот так просто, почти среди бела дня, можно увидеть медвежиху с медвежатами... И не то, что как-нибудь мельком или в западне, а вот на воле.
- “Ни за что Терешка с Климкой не поверят!.. Честь честью, будто к куму в гости пришли и расселись при беседе...”
Это было занятно и так ново, что Корней даже забыл о страхе. Не шевелился и даже не дышал лишь потому, чтобы не спугнуть невиданного зрелища. Припал глазами к лабазу и глядел через сетку хвои вниз, и даже, несмотря на терпкий запах серы, чуял запах зверя: точь в точь такой же, как пахнут свиньи в хлеву.
Медвежиха сидела на заду, раскорячив задние лапы, отчего одна из них то и дело срывалась с покатого места и цеплялась когтями о грязную землю, оставляя на ней легкие царапины. Передней правой лапой опиралась о ствол дерева, а левая передняя висела и покачивалась в такт тому, как оба медвежонка тыкали тупыми мордами ей в брюхо.
И показалось Корнею, что глаза у медвежихи сонные и узенькие, и она лениво, нехотя глядела ими на деревья, а рот чуть-чуть открыт, и черный пятачок на носу едва шевелится, принюхивается к чему-то.
Медвежата, с добрую собаку ростом, толстые и пышные, то и дело ощетинивали свои хребты и делались круглыми, как ежики.
И у нее хребет то вставал дыбом, то приглаживался, и видно, как на кончиках щетинок посверкивали капельки росы.
Корней соображал и спрашивал себя:
- Неужто сон я вижу?
А потом опять глядел на медведей.
- Ишь, барсука-то слопала и подобрела: ребятишек призвала, накормит и уйдет... Али не уйдет? А ну, как она человека чует; ишь, носом-то юхтит...
И вот опять в Корнея вонзились тысячи иголок, он чуть не крикнул, припомнив: теленгиты и сойоты покойников на деревьях погребают, а медведи приходят, стаскивают и едят. - “Падаль они любят больше, чем свежинку...”
- Проголодается, проклятая, и будет лезть за мной... Либо ребят своих начнет учить. Продержит она меня тут суток трое и замучает!
И вдруг какое-то отчаянное чувство охватило парня. Вместе с тем невтерпеж стало лежать без движения. Чуял, - все в нем стало застывать, и вот-вот все развалится по всем суставам, как в гробу...
Внезапно обожгло его желание кричать. Сам не зная почему, - не то со страха, не то из озорства, не то от страшной боли, он наглотал полную грудь воздуха и хрипло закричал, отчаянно и дико.
Все тело его стало корчится, как в судороге, глаза заволокла слеза, а рот кривился и, не закрываясь, выпускал пронзительные крики ненависти, страха и отчаянья. А в уши ползли, как колючие и горячие змеи, другие вопли снизу, как будто там табун свиней живьем жгли на костре.
У Корнея сморщилось лицо, глаза стали как щелки, и в них совсем потухли зрачки. Он уже сидел на лабазе, рубил топором ствол кедра и кричал без слов, без смысла, одним сплошным криком, и крик его и вопли снизу сливались в общий рев и рассыпались многозвучным эхом по горам...
Но вот Корней нечаянно взглянул под кедр и встретил там такой же узкий, обезумевший зеленый взгляд вздыбившегося и ощетинившегося зверя. И точно состязаясь, Корней настойчивей и злее стал глядеть в эти зеленые, без зрачков, глаза на страшно сморщенной морде и, как бы дразня зверя, тоже сморщил нос, обезобразил отчаянною злобою и страхом свое лицо, и все сильней кривил его, и, не моргая, колол глазами медвежиху и ревел разными голосами все сильнее и упрямее.
И вдруг медвежиха попятилась и опрокинулась на спину, потом перевернулась на ноги и понесла свой крик в трущобы, вместе с сухим треском бурелома... И увидал Корней, что за нею потянулась тонкая и непрерывная нить, точно паутина за крестовиком, только не белая, а красно-зеленая.
И крик Корнея перешел в хохот, а потом сменился как бы заунывной песней и сразу оборвался: не хватило голоса.
Корней расправил ноги, потянулся, сел как следует, протер ладонями глаза и устало простонал чуть слышно:
- Фу-у, Господи!.. Что же это?
И медленно стал слезать с лабаза, уверенный в своей победе.
По свежему и жидкому красно-зеленому следу, оставленному на траве, по обрывкам растянувшихся кишок он медленно прошел в овраг и, не доходя до неподвижного и бурого, от которого шел свежий пар, он остановился с поднятым топором и прошипел:
- Ведь, напоролась!.. Вот оказия!.. А я думал и вправду, што с испугу они подыхают... - промямлил парень и стал подкрадываться к зверю.
Медведица лежала, как будто приготовилась для нового прыжка. Из-под хвоста ее вместе с поносом сочилась кровь, и Корней хотел снять шляпу, чтобы от радости перекреститься, но шляпы на голове не было. Вместо шляпы стали дыбом волосы и не прилегали как нужно.
Только теперь, по-настоящему, Корней оцепенел от страха.
Он медленно озирался по сторонам и синими губами чуть шептал:
- А маленькие-то куда девались?.. Ишь, утянулись, сволочи! Должно она их раньше услала...
Из-за горы скользнули в ущелье первые лучи солнца и будто откупорили уши Корнея. В них опять ворвался дикий, неумолчный рев речки Громотухи, прибывшей за ночь и катившей по руслу крупные, гладко отшлифованные камни.
С горы снимались и уносились в синюю глубь неба пышные клочья тумана, белые как пена и чудесные как первая большая радость.
Корней и верил и не верил, что так легко свалил он первого медведя.
И даже не стыдился хвастать сам с собою:
- Ну, теперь Терешке с Климкой нос утру я!
А сам не знал, как приступить к огромной туше зверя и как нести домой сырую шкуру.
Долго думал, провозился до полудня, снял шкуру и затащил ее на лабаз. Потом разостлал там шерстью вверх, лег на нее и проспал, как убитый, до новой ночи.
Только на другое утро, выбившись из сил, кое-как перевалил через Медведь-гору, злой и важный, спустился к заимке с медвежьей шкурой на плече.
III
 амбаров дьяка Саватея Карпыча, выстроенных на отлете, на пригорке, рядом с кладбищем, ярко пестрели красные, синие и желтые рубахи, сарафаны и платки.
амбаров дьяка Саватея Карпыча, выстроенных на отлете, на пригорке, рядом с кладбищем, ярко пестрели красные, синие и желтые рубахи, сарафаны и платки.
Праздновали Спас.
Корней сразу заметил желтые цветы на сарафане Паруньки и синюю рубаху Климки, который сидел рядом с девкой, грыз орехи и, низко наклонясь к ее лицу, должно быть, говорил ей что-то тайное.
Кругом сидели и стояли девки, ребята, и как кузнечики скакали и метались мелкие парнишки и девчонки - со всех заимок все молодое собралось к амбару Саватея на зеленую после дождя полянку.
Корней подумал:
- Пойду и брошу шкуру на Паруньку!.. - но тут же догадался, что испугает и рассердит девку. А Климка скажет: “Хвастаешь!..”
И стараясь не сгибаться под тяжелой шкурой, не глядя в сторону амбаров, направился домой.
Но его заметили и окружили ребятишки, потом остановили парни. Сняли с него, развернули медвежью шкуру, ахали и удивлялись. А от амбара прибежали остальные. Корней оглядывался и искал Паруньку, но Паруньки не было. Не было среди парней и Климки. А Терешка весело размахивал широкими рукавами расписной рубахи и, сдвинув на затылок шляпу, присел и мерил четвертями шкуру.
- Ай, да, Корня!.. Ухамаздал черта... Шестнадцать четвертей с лишком.
Корней привстал на носки и через толпу смотрел на желтые разводы сарафана и на синюю рубаху.
Как сидели они, так и сидят... Видно, что весь свет забыли при разговорах.
- “Разговаривают, будто мед пьют!” - мелькнуло у Корнея, и точно шилом укололо в сердце.
Он нахмурился, послал к чертям уже топтавшихся на шкуре ребятишек и волоком потащил ее прямо по земле.
Толпа ребят так и гналась за ним до дома.
Ослепительно и жарко, как всегда после дождей, глядело с неба раннее солнце. За стеной дома, в пригоне, пряча головы в тень, стояли прибежавшие из леса лошади. Старый Воронко, лениво помахивая унизанным репейниками хвостом, положил свою голову на спину Рыжке и задремал, и от этого вдруг показались Корнею дремлющими: старый дом с кривым крыльцом и заткнутыми вместо выбитых стекол красными подушками окошки, и темно-серые ворота с глубоко набекренившимся колпаком, и хмурые, вросшие в косогор амбары с давным-давно брошенными на них, позеленевшими от времени, старыми дровнями, и вся, как будто приплюснутая к жирно унавоженному речному берегу, заимка.
Корней пнул собак, которые, вздыбив щетину на хребте, испуганно залаяли на шкуру, толкнул подушку в раме, заглянул в окошко и позвал:
- Аганькя-а!.. Дункя-а!..
Из избы в окно пахнуло на него горячими мясными щами - значит в печке щи стоят, можно поесть.
Вместо ответа в разбитое окошко важно и лениво вышел кот, заспавшийся и сытый. Но увидав собак и зверя, вдруг стал коротким и высоким, выгнул спину и подавленно завыл:
- Ого-о-у-у!..
С речки прибежал белоголовый, синий от купанья и обрадованный шкуре, семилетний Патря.
- Убил?.. - спросил он брата ласково и удивленно.
- Беги, найди Аганьку! - приказал Корней сердито.
- Она на пасеке, - протянул Патря.
- А мамка?
- На пасеке... Мед резать поехали...
Корней вспомнил, что на Спаса всегда мед подрезают, что с отцом, бывало, всей семьей на пасеку дня на два уезжали. В меду, бывало, как в смоле. За Корнеем так рои мух и летали всюду.
- А щи кто варил?
- Они про-олиты... - виновато протянул парнишка.
- Ты пролил? - закричал Корней.
И Патря не узнал брата: такое у него лицо стало страшное, злое.
- Мамынька велела к загнету подвинуть, штобы не остыли. Я стал подвигать, а горшок...
Патря, как всегда, доверчиво поглядел на брата, а брат схватил его за белые, выцветшие от купанья волосы и бросил от себя как рукавицу.
Патря было заревел, но встал с земли и сморщенным обидою лицом глядел на брата с любопытством. Никогда в семье у них никто еще не дрался и к Корнею до сих пор, как к большаку, все относились ласково, и сам он всех всегда звал, как отец, - а Патрю даже в шутку величал:
- “Патрикей Максимыч”.
Корней вошел в избу, скинул зипун, заглянул в печку: на шестке стояла лывка щей с жирным янтарем поверху: видно, что кот не осилил всего счастья, только мясо стащил на пол.
Корней поднял мясо, вытер его о холщевую засмолившуюся рубаху, но есть не стал и выбросил в окно собакам.
Потом пошел в амбар, втащил туда, повесил шерстью вверх на край сусека шкуру и впервые в жизни с любопытством заглянул в сусек: там в уголке пополам с пылью было-небыло муки две меры.
- Вот, когда придется ехать в Русь.. - подумал он не то с досадой, не то с недоумением.
Потом взял с деревянной спицы узду, пошел в пригон, поймал Воронка и крикнул Патре:
- Айда, на пасеку поедем!
Сел на лошадь без седла, схватил за руку Патрю и забросил его за себя, как сумку.
Патря мокрыми глазами засмеялся, крякнул от натуги и обхватил руками потную, пахучую, широкую спину брата, как бывало сам Корней обнимал отца, когда с ним ездил на покос или на пасеку.
Ехали по узкой, скользкой и тенистой тропинке косогором и молчали. Только Патря раза два спросил:
- А ты его один убил?.. Из пули?..
Но большак не отвечал. Патря замолчал, слушая, как внутри Воронка “селезень крякает”. Босые ноги мальчугана сладко щекотала теплая шерсть Воронка, а изредка и слегка, - царапали прохладные иглы пихт. Из-за спины Корнея он не видел, куда едут, но чуял, что на Воронке, как в зыбке: так укачивает, так баюкает - так бы и упал на землю и уснул бы крепко-накрепко на мягкой, бурой прошлогодней хвое где-либо в тени под пихтой.
Пасека расположилась на припеке, в чащине, у изголовья светлого болтливого ручья, и в ней все было старое, с молодых лет знакомое Корнею. Все напоминало об отце и дедушке, который сам натыкал по ручью тополевых кольев, стоявших теперь стройной и высокой рощей.
Мать встретила его без радости и без упреков. Сказала только:
- Лошадь-то сведи под поветку, а то тут пчелы искусают.
Корней понял: - дескать, и на этот раз у него не хватает разума.
Корней нахмурился и слышал, как на радостное сообщение Патри, мать ответила устало:
- Ну-у, какая от медведя теперь польза? Летнюю-то шкуру в грош не ставят.
Корней отвел коня, зашел в омшаник, попросил у Дуньки хлеба, взял осотину меда и ушел к ручью. Там прихлебывал из пригоршни воду, жевал кусок с медом и будто не чуял сладости от него: так нехорошо стало на нутре, так скучен показался слишком белый день и вывернутые наизнанку легким ветром белые листочки тополей - от этого всего жмурились глаза и веяло тоской.
Солнце стояло на середине неба, сыпало на землю острые и раскаленные стрелы. Ручей журчал все одно и тоже, мелко и рассыпчато, будто повторял на ломаном ребячьем языке давно надоевшую глупость.
Корней посидел еще немного, посмотрел в чащу деревьев за ручьем и слушал, как все в лесу заполнило гудение пчел, спешивших с предосеннею работой. Потом лениво растянулся тут же у ручья на примятую прохладную траву; поглядел на небо, которое живою сеткой загораживал рой мошек, кружившихся над головой Корнея, закрыл глаза рукой, полежал немного, как всегда, без дум, и скоро захрапел всей грудью...
Проспал до вечера, а вечером поел, повеселел немного и снова лег уже в омшаник. Так и провалялся два дня, а когда вернулся на заимку, мать закричала на него:
- Возьми ты из амбара свою шкуру: дух такой, что и войти нельзя...
Корней вошел в амбар и выскочил обратно. Потом набил полынкой ноздри, взялся за шкуру, и в руках его остались полные горсти обопрелой шерсти.
- Вот, опасна боль! Надо было шерстью вниз повесить, - сказал он глухо.
Вырыл яму за двором, зарыл шкуру и еще сказал:
- Не путем добыта, не пошла и впрок.
А когда мать напомнила, что надо на Русь за хлебом ехать, Корней подумал вслух:
- Видно не заправский я охотник... Надо за домашность браться.
Когда же съездил в Русь и увидал, как велика там степь, как широка река, какое множество людей, - опять ушел на промысел и пропадал больше недели.
Бродил по лесу, пытался все обдумать и сообразить. Вслух разговаривал с собою, разводил руками, сидел часами где-нибудь на пне или на камне, пока его не начинала одолевать дремота.
И вот, как-то после Покрова, придя домой, он услыхал, что Парунька засваталась за Климку.
Услыхал, - и ничего... Даже сказал с усмешкой:
- На свадьбе, значит, погуляем!
И по первым снегам, на свадьбе Климки и Паруньки, впервые до пьяна напился, бушевал на всю заимку, плакал, до смерти загнал хорошего коня и полез в драку с Тимошкой.
Его связали мужики и связанного сдали матери.
Тогда мать позвала в дом Саватея Карпыча, чтобы тот молитвой отчитал непутевого сына.
Дьяк поглядел на связанного парня, тряхнул суровыми желто-серыми бровями и сказал:
- Эк, мотри, добро!.. Жеребчиков молоденьких вот так же вяжут, когда лечат... Аль и тебя лечить придется?!.
Корней не мог отвести глаза от зоркого взгляда старика. Лежал под лавкой и, оскаля зубы, засмеялся, потом сказал, украдкой подмигнув наставнику:
- Развяжи, слышь!
Старик собственноручно развязал и выругался в окно:
- Эк, окаянные, перетянули парню руки-то! Ишь, как затекли... Ну, как? - спросил он у Корнея и посадил его рядом с собой на лавку. - Долго еще добрых-то людей будешь смешить?
А потом сказал ему так просто, как будто посоветовал ему лекарства выпить:
- Давай-ка сынок, на мясоед-то поженимся! Поеду-ка я тут к соседу: девка у него бастецкая закисла...
Корней покорно, как только что поднявшийся с одра больной, сидел и по-новому тихонько улыбался. Ему даже любопытно стало, что высватают для него с другой заимки незнакомую.
Он подчинился и повеселел.
А когда женился - взялся за домашность, стал работать, жить и промышлять, как все в том крае.
Собаку у калмыков выменял на жеребчика...
Хорошую собаку добыл: за зиму триста с лишним белок взял с ней, между делом.
И Парунька испарилась из ума... Будто не думал о ней никогда.
* * *
IV
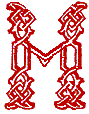 едведь-гора - как высоченный, накренившийся корабль посредине разволнованного синего моря, застывшего по чьему-то приказу в ту самую минуту, когда волны так зловеще раскачивались, что стали заплескивать на небо, и гребни их смешались с облаками...
едведь-гора - как высоченный, накренившийся корабль посредине разволнованного синего моря, застывшего по чьему-то приказу в ту самую минуту, когда волны так зловеще раскачивались, что стали заплескивать на небо, и гребни их смешались с облаками...
Застыло море и окаменело и потом, за тысячи годов, покрылось лесом, будто шерстью, - дивные морские чудища.
Прищурится и приглядеться на восток, когда солнце встает: золотые струны вытянутся от солнца и через хребты, через щетины леса всю землю тупо опутают, как будто идет где-то по глубокому берегу светлый богатырь - закинул на всю землю крепкий невод золотой и тянет ее всю к себе, как рыбину...
Потом опустит невод и пойдет на синюю равнину, не торопясь и весело:
- Плавай, дескать, рыбина, живи, Господь с тобою!..
А горы потихоньку скидывают с себя синие тени, раздвигаются и кажут солнцу зеленые и серые, лиловые и белоснежные свои бока и груди, все израненные, изможденные тысячелетними скорбями, непогодами и грозами. И раскрывает полуденному солнцу свою каменную грудь земля и млеет перед ним и оживает.
А солнце полюбуется, посмеется вдосталь, разожжет ее желанья до изнеможенья и начнет спускаться с голубой, недосягаемой горы туда, за гладкие белые тихие равнины, которые чуть-чуть виднеются с Медведь-горы, как узкая и длинная песчаная полоска берега, с которого уже можно рукой достать чистую и синюю лазурь небесной бездны.
Когда спускается туда солнце, за ним бегут-бегут и розовеют и толпятся облака, и, кажется, что это вздохи загрустившей, снова потемневшей земли...
А сверху, из неизмеримой глубины высот, спускаются и приникают неисчислимыми очами сны, непостижимые, извечные, и смотрят, смотрят, чуть дрожа ресницами, вниз, как будто сторожат заснувшую, усталую, похолодевшую и смутно грезящую землю.
А на востоке, между тем, опять чуть брезжит светлый путь ловца с золотыми мрежами...
С Медведь-горы, если сидеть на ней и день и ночь, открываются чудесные законы. О них не надо думать, не надо знать. Они сами собою постучатся в сердце человека, зверя, птицы и букашки. Сам Бог без слов рассказывает их всему живому и крепко-накрепко приковывает к высоте, к которой все живое тянется, потому что на высоте - солнце.
С Медведь-горы в погожий день видны белесые из гладких галек русла резвых речек, чуть голубеющие и сверкающие горные озера, лысые холмы, мохнатые и темные ковры из сосен, кедров, лиственниц и пихт, и пестрые под осень, яркоцветные березовые, тополевые, рябиновые и осиновые рощи, и кое-где, как клочья седины, густая сеть пригонов и дворов на пасеках и на заимках...
Проходят дни и ночи, быстро, будто бы земля, знай, только открывает и закрывает свои глаза...
Проходят зимы и лета, как дни и ночи... А Медведь-гора стоит все с тою же щетиной на хребте, все так же опустивши голову к реке, как будто пьет и не может напиться... Извечно стоят уши одинаково: одно торчком, другое чуть-чуть покривилось, будто медведь пьет и смотрит вверх по течению: не выплывает ли там из-за утеса охотник...
И так же все бежит, шумит, играет светлою струей река Быструха, и день и ночь, и зиму и лето, десятки лет... Откуда столько и воды берется? Когда и какое она озеро наполнит до краев?
Вон он, охотник, бредет через реку, и совсем не оттуда, куда так опасливо косится медведь. И впереди его собака.
Босой, со штанами и винтовкой в руках, в войлочной шляпе - он направляется прямо к морде зверя... Но он так мал, слаб, вода вот-вот повалит его и понесет как щепку...
Нет, перебрел-таки, только собаку отнесло пониже. Вот подошли к ноздрям Медведя и как мошки влезли в левую. Охотник там присел. Оделся и начал карабкаться по носу на широкий лоб...
Долго он ползет до правого уха и делается все меньше и меньше, пока совсем не исчезнет в густой и высокой щетине на загривке Медведя...
И собаки не видно.
Высоко выполз он из леса и, путаясь в кустарниках, то исчезая в них, то снова появляясь, как блоха в шерсти, ползет все выше, делается все меньше, незаметнее.
... Так исстари заведено: раз охотник полез на Медведь-гору, значит, пошел на медведя.
Вышел на вершину, отдышался, посидел, поел и огляделся, как заказано отцами - дедами, и стал искать тропинку в самый дальний Черный лес к четырем кедрам.
Нет более дикого трущобного места, как Черный лес. Еще дедушка Корней там “первача” убил, а дедушка Корней на своем веку одиннадцать их повалил.
- Уж там што будет: Господи благослови!..
И внук Корнея - Лукаха, - точь в точь как сорок с лишним лет назад Корней - такой же белоглазый, с рыженьким пушком на подбородке, в зипуне и войлочной шляпе, с той же самой испытанной кремневкой, но с хорошей дюжиной самодельных, верных пуль. Дедушка не раз наказывал: зря не трать пуль, не бей по мелочи, когда идешь на большого зверя, не подмочи серянок или трута.
Лукаха отыскивает полосатый камень на горе. От полосатого камня будет вересковый куст - вон он самый!.. А от верескового куста надо глядеть на полдень - там озерко всегда стоит от снега. Снег тут стаивает только к Петрову дню, а после Ильина дня - снова снег: внизу дождь, а на высоте всегда снежок идет...
Вот оно и озерко, а от него налево мочажинка будет - от мочажинки ручеек берется, самое начало - Господи благослови! - речки Громотухи.
Этим ручейком и надо снизиться до ельничка, а после ельничка начинается россыпь...
Все, как пописанному, находил и видел Лукаха, опускаясь с хребта в Черный лог, и все покрикивал:
- Бобрик!.. Бобрик!.. Не торопись, товарга!
Бобрик, светло-серый, точно свежий пепел, с бахромою на груди и острыми ушами, с крутым калачиком-хвостом и желтым быстрым взглядом то и дело останавливался и показывал Лукахе мокрый розоватый язык и бело-желтые хорошие клыки.
С Бобриком не скучно, можно словом перемолвиться, тропку отыскать вернее и опасность вовремя заметить.
Чем ниже опускался Лукаха, тем темнее и прохладнее становился лес и тем сильней гремела Громотуха возле тропки.
Сумерки сгустились, и заволоклись туманом хребты гор, когда Лукаха пришел на место.
Только оглядевшись, он нигде поблизости не увидел четырех кедров. Место, по всем видимостям, то, а трех кедров не хватает. Стоял только один высокий, толстый и кривой, и поднимал к небу уродливые и лохматые лапы, как озлобленный и перепуганный медведь.
Лукаха ближе подошел к нему и увидел три поседевших крепких пня. Тогда он догадался, что из трех построена избушка, которую где-то поблизости срубил дедушка Корней, когда здесь шишковал - орехи бил.
Побродив поодаль, Лукаха в косогоре над речкой отыскал избушку. Но в избушке не было ни окон, ни дверей, и вся она позаросла терновником и дикой высокой травою. Видно было, что в ней давно никто не останавливался и, может быть, никто, кроме дедушки Корнея, и не знал о ней.
Лукаха заглянул в избушку: оттуда пахло землей, и на черных стенах белели жирные грибки-поганки.
И Лукахе почему-то вспомнилась моленная и дедушка Корней, седой и бородатый, набожный и строгий - всегда с костылем: того и гляди - огреет, и сказал:
- Должно здесь спасаться начал... Молодой-то говорят, как тятька - в моленную-то не хаживал.
Бобрик, между тем, обнюхал все вокруг и не нашел, должно быть, ничего опасного и любопытного. А Лукаха спустился к берегу, сел на корточки и стал в воде размачивать сухари.
Вода плескалась меж каменьев, журчала, лепетала что-то, схватывала и несла вниз крошки. А Лукаха все сидел, глядел на речку и за речку, на хребты гор и на темнеющее небо и ничего не думал. Только, когда стемнело - вернулся к кедру и, приглядываясь, увидал, что кедр весь в старых ранах, крепко стянутых болонью, лишаями и уродливой корою.
А внизу, в стволе самых корней, кто-то выжег печку, и толстые смолистые обломки сучьев как бы жаловались Лукахе, что какие-то бродяги поджигали ими корни кедра, жарили дичь и рыбу и сушили грязные онучи.
Но кедр, как будто еще крепче уцепился за землю, и обуглившееся дупло, казалось сделано для того, чтобы ствол лесины никогда не сгнил и никого не соблазнял, чтобы не рубили его ни для стройки, ни на топливо.
Наверху Лукаха увидал остатки лабаза. Толстый сук когда-то очень давно застрял в развилке трех отростков дерева и так крепко врос в него, что никогда и никому его не обломить, не вытащить.
Как вбил его когда-то молодой Корней, наспех делавший здесь лабаз, так он и остался до внучонка.
Лукаха снял винтовку, вытащил из сумки веревку, закинул петлей на торчащий сук и, кряхтя влез на кедр.
- Бобрик!.. Бобрик!.. - поманил он и прибавил. - Фу-у, да тут, как на скамейке...
Бобрик прыгал у ствола и, просясь к хозяину, повизгивал.
А Лукаха отвечал ему повеселевшим голосом:
- Нет, товаринька, вдвоем тут будет тесно. Ты там медведя за штаны будешь хватать...
И тут же вспомнил:
- А вдруг он на собаку-то и в самом деле, как на наживку рыба...
И стал прислушиваться к шуму Громотухи, к шороху молодых кедров, густой семьею облепивших косогор.
С ним не было ни топора, ни винтовки - все осталось внизу возле избушки, и стало как-то страшно слезать с кедра: вдруг в эту самую минуту “он” и явится...
Сидел на дереве, молчал и чуял, как за воротник ползла холодная колючая хвоя... Нет, это не хвоя, а страх... И шляпа-то на голове шевелится, и будто слышно: где-то треснула валежина.
Широкими глазами всматривался в темноту, слушал с открытым ртом, боялся шевельнуть рукой, а в голову лезло смешное:
- Поди, внучатки той-то, дедушкиной, медвежихи выросли и явятся. Давай-ка, скажут, задерем Лукаху!..
И казалось парню, что медведи говорят и думают, и знают, сколько дедушка Корней и Лукахин тятька перебили медведей, и должна же наступить расправа...
А ночь все тяжелее надвигалась черной и холодной мглою на Лукаху, все сильнее рычала Громотуха, и внизу повизгивание Бобрика переходило в вой, и этот вой хватался за душу Лукахи и еще крепче приковывал его к вершине кедра, который почему-то начинал поскрипывать, как будто застонал от старых ран, занывших от холодного, Воздвиженского, разбушевавшегося к ночи ветра.
Медведь не приходил, а ночь без сна была длинна-длинна...
И только утром, на рассвете, когда на шерсти свернувшегося в дупле Бобрика заискрился иней, Лукаха как сидел на дереве, в развилке промеж трех коряжистых отростков, так и заснул хорошим молодым сном.
Внизу, где-то возле избушки стояла винтовка, а на избушке лежала сумка с сухарями, с порохом и с пулями.
... То-то, как бы медведь был подогадливей!..
Но он не приходил и на другую ночь, когда Лукаха приготовился встречать его смелее: не то у него других дел было много, не то он куда-то укочевал поглубже от Черного лога...
... Солнце поднялось высоко. Тучи разбежались, а за ним ускакал куда-то ветер. А Лукаха, внук Корнея, настойчиво и упрямо жил на лабазе и ждал.
Молча, неподвижно стоял кедр, как заговорщик, и приветливо протягивал к небу огромные уродливые лапы.
Глубоко дремали леса и горы с широко-открытыми глазами.
 о двадцатых годов Корней не выезжал из гор и даже как-то не расспрашивал о равнинах в той стороне за горами, куда каждый вечер закатывается солнышко. Знал, что оттуда на вьюках привозят белую муку, порох и расписные ситцы для рубах. Не любопытно ему было даже и то, что грамотеи старики всегда по праздникам о чем-то важно разговаривали в сумрачной моленной, иной раз спорили и, потрясая костылями, упоминали слово “Русь”, как будто сами были не русские. Корней и впрямь не знал, был ли он русский. Он слышал, что басурмане после смерти в ад пойдут, а басурманин тот, кто креста на шее не имеет и за стол садится не крестясь или не молясь ложится спать. И монголы, калмыки и киргизы, что за хребтом живут, где солнце всходит - тоже басурмане. Все же люди, проживавшие на речке Рассыпной, называются ясашные, и он, Корней - ясашный, а почему ясашный - никого не спрашивал. Знал только, что там на Руси почти всех молодых парней в солдаты берут, а царь печать антихристову к ним прикладывает, чтобы душу дьяволу отдать; ясашных же в солдаты не берут, и они не должны даже из одной чашки есть с теми, которые живут там, на равнинах.
о двадцатых годов Корней не выезжал из гор и даже как-то не расспрашивал о равнинах в той стороне за горами, куда каждый вечер закатывается солнышко. Знал, что оттуда на вьюках привозят белую муку, порох и расписные ситцы для рубах. Не любопытно ему было даже и то, что грамотеи старики всегда по праздникам о чем-то важно разговаривали в сумрачной моленной, иной раз спорили и, потрясая костылями, упоминали слово “Русь”, как будто сами были не русские. Корней и впрямь не знал, был ли он русский. Он слышал, что басурмане после смерти в ад пойдут, а басурманин тот, кто креста на шее не имеет и за стол садится не крестясь или не молясь ложится спать. И монголы, калмыки и киргизы, что за хребтом живут, где солнце всходит - тоже басурмане. Все же люди, проживавшие на речке Рассыпной, называются ясашные, и он, Корней - ясашный, а почему ясашный - никого не спрашивал. Знал только, что там на Руси почти всех молодых парней в солдаты берут, а царь печать антихристову к ним прикладывает, чтобы душу дьяволу отдать; ясашных же в солдаты не берут, и они не должны даже из одной чашки есть с теми, которые живут там, на равнинах. Корнея израсходовались пули. Их и было-то всего четыре: две потратил на глухаря, окаянного какого-то, дьявол, что ли, глухарем прикинулся. Видно было: даже перья оба раза сыпались, а не душевредно: улетел. Третью пулю в воду уронил, когда перебродил Громотуху. После дождей вода взыграла по пояс. Штаны снял, нес в руках, поднимал выше головы вместе с сумкой и винтовкой, чтобы порох не подмочить - выпала из сумки. Даже слышал - что-то булькнуло. Подумал - пуля, так оно и есть: пуля выпала из сумки и утонула.
Корнея израсходовались пули. Их и было-то всего четыре: две потратил на глухаря, окаянного какого-то, дьявол, что ли, глухарем прикинулся. Видно было: даже перья оба раза сыпались, а не душевредно: улетел. Третью пулю в воду уронил, когда перебродил Громотуху. После дождей вода взыграла по пояс. Штаны снял, нес в руках, поднимал выше головы вместе с сумкой и винтовкой, чтобы порох не подмочить - выпала из сумки. Даже слышал - что-то булькнуло. Подумал - пуля, так оно и есть: пуля выпала из сумки и утонула. 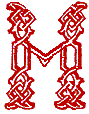 едведь-гора - как высоченный, накренившийся корабль посредине разволнованного синего моря, застывшего по чьему-то приказу в ту самую минуту, когда волны так зловеще раскачивались, что стали заплескивать на небо, и гребни их смешались с облаками...
едведь-гора - как высоченный, накренившийся корабль посредине разволнованного синего моря, застывшего по чьему-то приказу в ту самую минуту, когда волны так зловеще раскачивались, что стали заплескивать на небо, и гребни их смешались с облаками...