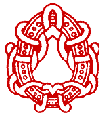 пять все загудело, застучало, заскрежетало и зашелестело многосложным походом по густым Мауэрским лесам.
пять все загудело, застучало, заскрежетало и зашелестело многосложным походом по густым Мауэрским лесам.Г. Д. Гребенщиков
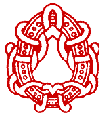 пять все загудело, застучало, заскрежетало и зашелестело многосложным походом по густым Мауэрским лесам.
пять все загудело, застучало, заскрежетало и зашелестело многосложным походом по густым Мауэрским лесам.
И чем дальше продвигались в тыл, чем ближе к русской границе, тем больше было признаков только что происходивших битв. То и дело попадались трупы русских и немцев, трупы лошадей, разбитые зарядные ящики, брошенные ружья, пулеметы, пушки…
— Это полковник Волошин немцев раскатал! – сказал начальник разведочного отряда Ветлин.
— То есть как? – спросил полковник Жарков. – Значит, батарея тридцать шестой нашей бригады здесь прошла?
— Так точно! Она идет в авангарде.
— Ну, значит, в Янове оправимся и ударим собранной силой.
— Во всяком случае, если не ударим, то в порядке отойдем на свою землю.
Этот небольшой диалог быстро облетел все головные части. Настроение вновь приподнялось. Пошли бодрее и стройнее.
Но тут же прискакал ординарец с приказанием от начальника бригады:
— “Первому артиллерийскому дивизиону повернуть назад!”
Полковник Жарков оторопел.
— Что это значит?.. Куда же идти?
— Не могу знать… Приказано: повернуть все ваши батареи назад.
Кто-то из штаб-офицеров уронил вопросом:
— Это значит, Янов занят немцами?..
Началась длительная и трудная операция с распряжкою и поворотом батарей вручную, потому что дорога в лесу была узка для поворота в запряжках. А когда батареи двинулись назад, полковник Жарков увидал, как уже спуталась, смешалась, поползла в неудержимом хаосе пехота… Уже не видно было целыми частями ни полков, ни батальонов. Даже роты дрогнули и беспорядочными толпами кишели в стороне пути, в густом лесу, расползаясь по трущобам, как потревоженные муравьи. Только артиллерия еще была в порядке и охраняла отступавшие и терявшие свои части и начальников пехотные полки. Оставшиеся без солдат, начальники частей поспешно собирались в группы, спрашивали друг у друга: что случилось? Спрашивали у Жаркова: где командир корпуса? Где командир такой-то бригады? Где командир такой-то дивизии? Но их вопросы оставались без ответа и вносили еще больше беспорядка. Одни части стремились вперед, другие назад, третьи толпились в кучу. Вид у всех недоуменный и потерянный.
Вот стоит третья батарея – восемь трехдюймовых скорострельных пушек — и не знает, что ей делать и куда идти. Командир ее, капитан Колендо, подъезжает к Жаркову.
— Разрешите включиться в ваш дивизион?
— А где же ваша часть?
Капитан, не отвечая на вопрос, повторяет просьбу одним многозначительным словом:
— Разрешите!
Полковник Жарков принял под свою команду батарею чужого дивизиона и послал поручика Ветлина вперед по направлению движения узнать, что там творится, а свой дивизион продвинул в арьергард.
Откуда-то из леса выехали два казака с пиками. Они гнали перед собою пять пленных немцев. Полковник Жарков видел и не успел остановить, как один из казаков толкнул пикой немца. Он слышал, как другой казак, увидевши начальника дивизиона, стал ругать товарища, но тот кричал в ответ:
— Мало они наших казаков сгубили?
Другой казак, как бы оправдывая первого, отрапортовал Жаркову:
— Мы их взяли в плен до сотни. Да мало нас… Всего лишь девять было. Они напали на конвой. Семерых убили, а мы двое с этим отбились…
Бледные, безоружные пленные бросились перед офицерами на колени, но полковнику Жаркову было не до них. В то же время присутствие нескольких пленных противников вызвало у Жаркова чувство острого стыда… Немецкие солдаты не должны видеть беспорядка и растерянности русских офицеров. Поэтому полковник крикнул казакам:
— Уведите их куда-нибудь подальше.
Лишь после того, как немцев увели, он догадался, что “куда-нибудь” казаки могли истолковать слишком широко. Но до того ли было, когда судьба целого корпуса висит на волоске?
Он тревожно оглянулся на серый муравейник войск.
Отступавшие батальоны, не имея приказаний, не зная, куда двигаться, и не решаясь идти по незнакомым лесным дорогам, уже перемешались: всюду были толпы солдат и группы офицеров разных полков и разных дивизий. Одних офицеров вне своих частей на глазах полковника Жаркова было не менее двухсот. Среди них с решительным видом двигалась стройная фигура начальника штаба тридцать шестой дивизии полковника Варыханова.
— Господа офицеры! – взывал он на ходу. – Пожалуйте сюда, на поляну…
Тотчас на лесной поляне был наскоро устроен военный совет. Все офицеры окружили полковника Варыханова, рядом с которым стоял убеленный сединами начальник тридцать шестой пехотной дивизии генерал Преженцев. На его долю выпало быть председателем военного совета.
Совещались стоя. Генерал Преженцев от недавней непрерывной команды потерял голос и не мог говорить. Он полушепотом что-то сказал начальнику своего штаба полковнику Варыханову, и Варыханов громко, с опущенной головой объявил:
— Господа офицеры! Обстановка совершенно неизвестна. Известно лишь одно: мы со всех сторон окружены противником…
Наступило жуткое молчание, после которого полковник Варыханов коротко спросил:
— Находите ли вы возможным пробиваться или… — голос его дрогнул, – или мы принуждены сдаваться…
Еще минута тягостного общего молчания, которое нарушил твердый голос командира первой артиллерийской бригады полковника Христинича:
— Конечно, пробиваться!
И точно буря пронеслась над всем собранием офицеров. Все в один голос подхватили:
— Конечно, пробиваться!
— Но как же пробиваться? – спросил один из полковых командиров. – Ведь смотрите: наши части совершенно расстроены… Это не боевые единицы, а толпа!..
— Каждому командиру предоставить полную свободу действий! – предложил полковник Григов. – Каждый должен ориентироваться за свой страх и риск.
Это было принято, но все еще стояли в полном оцепенении, даже молча, даже некоторое время без движений, подавленные вдруг сковавшим всех чувством безвыходности.
И надвигалась темнота. Она спускалась незаметно вместе с неодолимым страхом за целость корпуса и за жизнь каждого, ибо, несмотря на тысячи столпившихся людей, каждый чувствовал уже беспомощность и одиночество. Каждому, по крайней мере, так казалось Жаркову, хотелось отойти подальше от расстроенной, загудевшей, потерявшей дисциплину человеческой массы. Вместо объединения около своих частей или начальников, все люди поползли в разные стороны, в тьму леса, в неизвестность затаивших только страх и смерть лесных укрытий…
Но в это время в одном из расстроенных полков вдруг загремел оркестр, и жуткую тьму леса огласил могучими, молитвенно-призывными созвучиями русский гимн:
— “Боже, царя храни!”
Офицеры подхватили гимн всеми голосами и, взяв под козырек, направились размеренным шагом, в такт музыки, по направлению к оркестру.
Оркестр двигался навстречу офицерам, а впереди его ехал на лошади один из храбрейших офицеров, капитан-кавказец Оганезов. Он успел организовать, собрав из рассыпавшихся частей, батальон охраны и под музыку вытягивал его арьергардной цепью, полукругом… Это ободрило, подняло, толкнуло к действию. Послышались голоса решительной команды… Явилась готовность биться, жертвовать собой. Но в этот же момент, когда еще звучала музыка, поблизости раздался грохот разорвавшихся снарядов – два, три, сразу несколько… Но музыка играла уже марш, и части снова двинулись во мрак, в пропасть отчаяния, на верную смерть…
Несмотря на то, что уже негде было развернуть позиции для всего дивизиона, полковник Жарков занял участок одной четвертой батарей и начал отвечать по направлению неприятеля… И вскоре неприятель замолчал… Это еще больше внесло бодрости. Даже подобрали раненых, и некоторые разрозненные части начали вновь почкование взводами. А тут протискался, но уже пеший — у него только что убили лошадь — поручик Ветлин и охрипшим, надорванным голосом доложил Жаркову:
— Господин полковник! Мы очистили путь… Мы захватили пленных, пулеметы…
— Вперед, вперед! – раздалась и понеслась по частям команда.
Кто-то кричал:
— К утру будем в России!.. Путь до границы не больше одного перехода. А там уж не сдадимся!
Избирая направление по компасу к востоку, пошли всей многотысячною массой прямо, без дорог, трущобами, лесами и оврагами, через болотистые пади и пахнувшие сеном луга… Только артиллерия и часть обозов выбирали кое-какие дороги и увлекали за собой густые вереницы серой, молчаливо поспешавшей массы. Возле батарей шли большие толпы пленных, покорные и молчаливые, сливаясь в темноте с расстроенными группами еще не бросивших оружия солдат… Но за пленными уже никто не наблюдал. Они могли отстать и уйти в сторону… Однако пленные держались именно возле вооруженных солдат, которые в отчаянье и озлобленье могли в любую минуту прикончить с ними. Для немецкого воина было, видимо, невыносимо подчиняться безоружному врагу…
Оркестр давно замолк. Часы идут как годы. Был одиннадцатый час, но все ждали рассвета, а рассвет был где-то за столетиями, далеко… Шли все тише. Усталости никто не чувствовал. Не чувствовали и голода, хотя уже двое суток никто ничего не ел. Но каждый нес в себе лишь смертельное желание найти ручей и припасть к нему со всею силой нараставшей жажды.
Полковник Жарков ехал на чужом коне. Его Запан только что сломал ногу, перескакивая вывороченную снарядом и завалившую дорогу огромную сосну. В тот момент полковник, видимо, вздремнул, иначе он предотвратил бы этот неразумный прыжок, в котором и сам повредил ногу.
Пристрелить пытавшегося встать коня, он не мог, и мученья лошади прикончил поручик Ветлин. Жарков сел на чужого коня, хозяин которого был только что убит. Полковник не мог говорить: голос его совершенно охрип. Он отдавал команду знаками и шепотом через адъютанта.
Поручик Ветлин с верными и неразлучными разведчиками, проталкиваясь через густоту солдат, снова отделился от частей. Он был почти единственный, кто не терялся до последней минуты и непрерывно вел разведку. На этот раз он вскоре прискакал назад, с трудом протискался к полковнику Жаркову и что-то сказал ему над самым ухом. Полковник, не расслышав, сделал знак для остановки. Все движенье медленно остановилось, как бы для привала.
— Полковник! Следуйте за мной!..
— То есть как это за вами? – тяжелым, хриплым полушепотом спросил Жарков.
— Так-таки — за мною! – повторил поручик и что-то вновь шепнул Жаркову. – Передайте кому-либо команду и спешите за мной.
Но полковник проворчал со злобой:
— Убирайтесь!.. Что за вздор?..
Ветлин свернул с пути и исчез в чаще леса, где его ждали испытанные всадники.
В этот самый момент на одну секунду на весь арьергард, как яркая молния, откуда-то упал ослепительный луч света. И прежде всего всех поразило зрелище, которого нельзя забыть. Впереди была широкая лесная поляна, а на поляне, в нескольких шагах в стороне от шоссе, лежала опрокинутая повозка с взорвавшимся от немецкого снаряда зарядным ящиком. Шестерка лошадей была в запряжке, и лошади вытянули ноги так, как будто продолжали бежать. Три ездока лежали тут же на траве, как будто спали. Было странно, что ни лошади, ни конюхи не были разорваны на части; они были черные, как угли. Мгновенно убитые силой самого огня, они лежали неподвижно.
Внезапное озарение этой картины так потрясло полковника Жаркова, что он не сразу понял, что их откуда-то нащупал вражеский прожектор. Но в тот момент, когда Жарков успел это сообразить, из-за поляны затрещали пулеметы. Произошла невероятная давка, суматоха, паника.
Считать убитых или раненых было некому, но Жарков и бывшие с ним офицеры кое-как восстановили порядок, выдвинули пулеметы и ответили на внезапный огонь смелой контратакой… Немцы скоро замолчали. Их, видимо, было немного, и они легко снялись и отступили.
Арьергард корпуса опять двинулся дальше. Но через несколько минут опять была открытая поляна, и опять прожектор, и опять пулеметный салют по голове колонны. Несколько убитых лошадей в передних запряжках остановили все движение. Пока их распрягли и оттащили передки с дороги, пока откатили в сторону брошенное орудие, наши пулеметчики прогнали немцев…
Здесь снова полегло несколько офицеров и много солдат, и ранен был в обе ноги командир артиллерийской бригады. Стоны и крики раненых солдат и офицеров наполнили тьму леса и окончательно остановили все движение. Что было впереди, в сотне шагов, никто не знал. Что стало позади со всем бесконечно растянувшимся по лесу расстроенным корпусом, – никто как будто не интересовался. И некогда было разбираться, что было ужаснее: крики ли умиравших или стоны раненых, или мертвое молчание тысяч спрятавшихся и запавших в темный лес, отупевших в жуткой неизвестности людей.
Полковник Жарков приказал расположиться на опушках леса, окружавших занятую поляну, и ждать рассвета.
Он кое-как прохрипел остатком своего голоса:
— Кто может спать – пусть спит, но кто может помогать восстановлению порядка и позаботиться о раненых – пусть выполнит свой долг до истощенья сил.
Но сам он изнемог, сошел с коня и повалился на одно из опрокинутых деревьев. Многие из офицеров держались около него, но все молчали, чувствуя, как безнадежно затянут и еще больше запутан страшный Гордиев узел. Никто не знал не только завтрашнего дня, но и следующей минуты. На всю массу войска совершенно не было никакого провианта. Не было ни снарядов, ни патронов, ни оружия. Все или растеряно или брошено. Налицо были тысячи безоружных, голодных, измученных жаждою людей, которым грозила голодная смерть, или поголовное истребление противником, или… плен.
— “Плен?” – как в бреду, сказал Жарков и опустился с бревна на землю, будто его кто-то взял и придавил неотвратимой силой. – “Плен?.. Позор?..” – вместе со стоном вырвалось у него, но слышать его никто не мог, ибо голос ему окончательно не повиновался. Он сам услышал это слово, которое все набухало в нем, все разрасталось, готовое взорвать все его тело извнутри. Он закрыл глаза и немедленно все выронил из памяти и сознания и притих… Заснул… И только что заснул, как вокруг него произошло что-то невообразимое. Какой-то гул, вернее гулкий шорох, как будто на него свалились все деревья и зашептали в один голос всеми миллионами осенних листьев. Он не встал с земли. Он лишь открыл глаза. Над ним краснело от разгоравшегося утра небо, но гул и шорох продолжали надвигаться… Он кое-как поднялся на локтях и, полулежа, увидал бесчисленное множество серых лиц под русскими фуражками, и у большинства из них, у тех, кто был в дозорах, на постах, кто был вооружен, — на остриях штыков белели, точно снежные хлопья, белые платки. А те, у кого не было ни ружей, ни платков, тут же разрывали свои рубахи и лоскутья их поднимали вверх безоружными руками…
Только теперь он поднялся на ноги и услышал, не оборачиваясь, что главный шелест шел из-под розовой зари, из леса, с востока, куда уже не суждено было продолжить своего пути тринадцатому корпусу. Оттуда на рысях, в полном и безукоризненном порядке, приближалась вражеская кавалерия…
Полковник Жарков сидел вполуоборот к врагу, недвижно и бездумно, как во сне или в бреду; видя и не видя, вспоминая и не в силах вспомнить, что произошло и почему настала вдруг такая мертвая тишина во всем торжественном рассвете утра?..
Он слышал и не слышал непонятную, резко прозвучавшую, оскорбительно ударившую в сердце команду немецкого офицера. Он видел и не видел, как покорно двинулись для разоружения две сотни русских офицеров… Он видел, как бесчисленной безвольною толпой поползли из леса на поляну побросавшие оружие, поднявшие вверх руки серые солдатские фигуры… Здесь не было уже солдат — лихих кавалеристов, казаков и молодцев фейерверкеров. Все это были лишь шинели и шинели. Их были тысячи, еще позавчера бойцов могучей и вооруженной русской армии. Теперь это лишь пленные, покорные, безгласные, безвольные живые мертвецы…
Полковник Жарков закрыл глаза и, пошатнувшись, повалился к ногам стоявшего возле него адъютанта, который обхватил его руками и старался приподнять с земли.
— Плен! – задрожавшими губами еле вымолвил полковник Жарков. Пытался встать и выпрямить свой стан и, собирая силы, понял, что потеряны и попраны все чувства чести и достоинства, и еще мучительнее выдавил остатком своего надорванного голоса:
— Плен?.. О, Боже!.. Плен!..