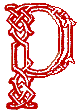 адиооператор связи Фомин всю ночь не спал. На восходе солнца перед ним была целая пачка донесений, полученных за последние часы. Все донесения были одно другого важнее, одно другого тревожнее.
адиооператор связи Фомин всю ночь не спал. На восходе солнца перед ним была целая пачка донесений, полученных за последние часы. Все донесения были одно другого важнее, одно другого тревожнее.Г. Д. Гребенщиков
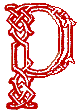 адиооператор связи Фомин всю ночь не спал. На восходе солнца перед ним была целая пачка донесений, полученных за последние часы. Все донесения были одно другого важнее, одно другого тревожнее.
адиооператор связи Фомин всю ночь не спал. На восходе солнца перед ним была целая пачка донесений, полученных за последние часы. Все донесения были одно другого важнее, одно другого тревожнее.
В канцелярии до утра оставались лишь несколько подчиненных ему дежурных писарей и телефонистов, и все-таки, закуривая папироску, он по привычке прятал ее под стол, а дым раздувал так, чтобы его не было заметно. Кто-либо из начальства мог всякую минуту войти. Штаб офицеров всю ночь провел в совещаниях, которые по временам переходили в бурные споры. В канцелярию бомбами влетали то адъютанты, то начальник оперативной части, то начальник штаба. Сам командующий армией в канцелярии не появлялся со вчерашнего утра.
Фомин слишком хороший солдат, чтобы даже мысленно иметь свое суждение о поступках своего начальства. Но личная, человеческая слабость ставила перед ним вопрос: время ли в такой тревожный час, когда на фронте решается судьба сотен тысяч людей, столь долго совещаться, спорить, кричать, грозить судом или отставкой, произносить обидные слова по адресу подчиненных и соратников? Не смея рассуждать и даже слушать что-либо не относившееся к его прямым обязанностям, Фомин все-таки никак не мог избавиться от назойливого беспокойства о том, что и на этом всенощном совещании не было вынесено твердого решения об окончательном плане оперативных действий. Куча донесений и срочных просьб с боевых участков так и остаются без руководящего ответа, и, наконец, данных о положении противника в штабе не было.
Перед рассветом в офицерской столовой, где было совещание, все внезапно стихло. Пора и отдохнуть. Но аппараты в предрассветной тишине стучали еще беспокойнее. Фомин отлично представлял, что за этими негромкими, сухими постукиваниями невидимо бушуют ураганы битв, развертываются тысячи личных человеческих драм, криков побед и воплей поражений, отваги и отчаяния, доблести и бесчестия. Но в первых отсветах погожего утра, в первых, еще розовых лучах восходящего солнца все, что за окном канцелярии, было закутано в дремотно-тихую, мечтательную мирность. Хорошо бы вытянуться во весь рост и хоть на час заснуть.
Длинный, наскоро сбитый из простых досок канцелярский стол, за которым сидели дежурные телефонисты, упирался противоположным концом в широкое окно и потому казался началом длинной и широкой дороги, уходившей через стену в зелено-синее пространство, что открывалось за окном. Фомин смотрел поверх множества бумаг и телеграфных листков в окутанное синей дымкою пространство, но в глазах его была отсвечивающая искристыми огоньками, покрытая темной поволокой глаз ничего не видящая слепота. Мысль его в полудремоте вдруг освободилась от оков нижнего чина и полетела быстро и легко через леса и горы, через поля и города, на берег быстрой горной реки, спустившейся с белоснежной высоты в долину Иртыша. Там, у устья этой реки, на границе между степью и горами, лежит полуазиатский городок, в котором так счастливо протекли детство и юность и в котором вот сейчас в скромном, но благоустроенном купеческом доме, вероятно, спит еще молоденькая, бойкая и жизнерадостная Ольга. А в соседней комнате, в люльке, под ревнивым глазом бабушки, быть может, уже проснулся и кричит двухгодовалый Костя. Отец, Дмитрий Андреевич Фомин, наверно, уже встал. Сейчас умоется на кухонном крыльце из висячего рукомойника, утрется холщовым полотенцем с вышитыми крестиком петухами и пойдет молиться в горницу. Из горницы на цыпочках зайдет к внуку, пошепчется с женой, еще совсем не старой бабушкой маленького Кости, и потребует, чтобы молодую сноху не будили рано. Торговля в лавке начнется только к обеду, когда крестьяне и киргизы распродадутся на базаре. А Ольга в лавке кассиршей.
— “Нечего ей торопиться. Пусть спит, лебедушка!” – скажет Дмитрий Андреевич. Вздохнет старик и о своем сыне, Пашеньке, но ничего не скажет. Он уже знает, что Пашенька попал в первые же дни на фронт. Превратности судьбы капризны.
Что сон, что явь? Фомин в полудремоте, в полумечте не спрашивал. Все сон и все явь.
В мыслях Фомина собрались в один момент, как в сжатой оперативной сводке, самые разнообразные желания и мечты. На минуту облила горячей радостью мечта хоть бы о самом кратком свидании с семьей, с отцом и матерью, с приказчиками в лавке, с которыми он вырос, ездил на рыбалку, на охоту, на гуляние за город… А главное… Да, это самое главное сейчас: увидеть бы сынишку на руках жены, точнее, молодую мать с младенцем. Не думал, не гадал, что все так выйдет… Не надо бы жениться до призыва!..
Все те же унтер-офицерские лычки на солдатских погонах, все тот же скромный вид провинциального мечтателя, но, должно быть, за черные, красивые глаза его, с киргизской прикосью, за мягкую, учтивую улыбку и, конечно, за порядочное знание трех главных иностранных языков, которые он начал изучать еще в гимназии (отец мечтал увидеть сына инженером и, не жалея средств на его образование, послал его учиться в Петербург), – ему поручена серьезная обязанность в штабной машине.
Звонок на радиоаппарате, точно длинная игла, вонзился в мозг, и сердце выронило все мечты и чувства. Не успев додумать что-то самое желанное, он все-таки успел представить, как Ольга вечером перед его последним отъездом расчесывала перед зеркалом свои длинные волосы цвета созревшего проса. Днем она носила одну косу, а на ночь заплетала две. Чуть рыжеватые, с бронзовым отливом, они тяжелыми жгутами ложились на белую подушку. Но как смеет он сейчас раздумывать о женских косах, когда надо немедленно внимательно ловить радиопередачу?
Он ушел в свои наушники, весь превратился в слух и в зрение: перед ним на ленте появлялись и бежали мимо знаки уже знакомого ему немецкого шифра. Его тонкая смуглая рука по привычке, механически переводила на бумагу случайно пойманный секрет противника, но от волнения дрожала:
“В данный момент всякое телеграфное сообщение с главным командованием временно прерывается. Неприятель превосходными силами наседает с севера и с востока. Части первого армейского корпуса, неся тяжелые потери, отходят на Монтово. Не только атаковать Уздау в указанный срок считаю опасным, но прошу немедленного подкрепления…” Условный номер подписи не понял Фомин.
Не успел Фомин дописать последних слов, как привычное ухо на слух читало телеграфное донесение штаба одного из русских корпусов:
“В тылу нашего корпуса обнаружены превосходные силы противника, наступающие на Алленштейн с востока. Прошу в мое распоряжение соседнюю бригаду тринадцатого корпуса”.
Фомин только теперь был разбужен как бы чьим-то грубым толчком.
— “Судя по вчерашней сводке, в Алленштейне находится почти весь тринадцатый корпус вместе со штабом… – мгновенно вспомнил оператор. – Значит, что же? Он отрезан?”
А ведь только вчера вечером Фомин принял от командира тринадцатого корпуса генерала Клюева донесение о том, что справа от него доблестно дерутся с немцами передовые части его корпуса и части шестого корпуса. Неужели и между соседними корпусами нет непосредственной связи?
Утро разгоралось. Аппараты застучали чаще и настойчивее. Дежурные телефонисты не успевали записывать всех донесений. Донесения были настолько противоречивы, что трудно было их понять и сделать из них какую-либо сводку. Пришлось поднять крепко заснувших помощников и самому нести важнейшие сообщения к начальнику оперативной части, который, не открывая дверей, резко выкрикнул:
— Несите все начальнику штаба!
Начальник штаба, спавший не раздетым, вскочил с походной кровати и, в свою очередь, набросился на Фомина:
— Я тебе сказал, чтобы все ночные донесения докладывались начальнику оперативной части!
Фомин не решился объясняться, но смело протянул наштарму перехваченный немецкий шифр.
— Ну конечно! – пробежав перевод, торжествующе воскликнул генерал, продолжая с кем-то отсутствующим, видимо, вчерашний спор. – Я говорил, не следует впадать в бабью истерику и болтать об отступлении. А главное, гнать бездельников разведки!
К кому это относилось, Фомин не смел догадываться и с отвагой, с которой идут на эшафот приговоренные к смерти, протянул несколько последних русских донесений…
Солнце уже вышло из-за леса и ударило в помятое, усталое, не выспавшееся лицо генерала светлыми, веселыми лучами. В ярком свете резче выступили все морщинки на небритом лице, и синеватость под глазами мгновенно окрасилась в зеленоватый, затем в желтый цвет. Даже губы у генерала побелели, и он, задыхаясь, выкрикнул:
— Я сказал тебе, что эти сводки надо докладывать начальнику оперативной части!
— Так точно, ваше высокопревосходительство. Я был у них.
— Был? — глаза у генерала вышли из орбит и сверкнули крупными белками с сеткою набухших красных жилок. – И что же? Он послал тебя ко мне?
— Так точно…
— А-га! Вот как!..
Генерал с полминуты пристально смотрел сквозь застывшую фигуру оператора и, вскочив с кровати, крикнул своего денщика.
— Крепкого горячего чаю! – приказал он и молча, приводя в порядок свой помятый китель, стал снова перечитывать все донесения и взволнованно ходить с ними по обширной комнате опустошенного, без мебели, большого барского дома.
Наштарм движением руки приказал Фомину присесть к столу и продиктовал телефонограмму одному из корпусов:
— “Все части армии исполняют свой долг и доблестно дерутся. Не обещая помощи, настаиваю на упорном сопротивлении противнику, не ожидая от него атак, но переходя в атаки в каждом возможном случае”.
Когда Фомин побежал в канцелярию, чтобы передать депешу, наштарм вернул его и, вырвав у него приказ, разорвал его и начал диктовать другую телефонограмму тому же штабу корпуса, но в другом, более смягченном тоне и с предуказанием, если потребует обстановка, отступленья с боем…
Фомин отлично понимал, какими разрушительными волнами разрастается на самих боевых участках всякая штабная нервность. Особенно опасны отмены только что отданных приказаний. Ничто не может так разрушить боеспособность частей, как нерешительность и колебания приказывающих. И чем выше начальство, чем дальше оно от боевых действий, тем сильнее вред. Но разве об этом смеет даже думать нижний чин, хотя и кандидат в гражданские инженеры?
Однако мысли, точно телеграфные знаки, застучали в мозгу оператора Фомина. Он где-то читал, что во всех сражениях, во все времена, всегда и все зависит от времени и обстановки. Никакая доблесть, никакое превосходство сил и технических средств не могут помочь выиграть сражения, если где-то в управлении машиной произошло неправильное или неумелое движение. Когда рычаг машины пущен в ход, то уже поздно спорить и гадать о результатах механического действия. Ждать и долго думать, куда направить корпуса, когда они уже вовлечены в бои – равносильно измене, а распоряжаться впопыхах, да еще в раздраженном состоянии, выходит, хуже и измены.
Фомин приказал одному из операторов связать его со штабом одного корпуса, как услышал на другом аппарате телеграфное донесение от штаба другого корпуса:
— “На левофланговом участке моего корпуса, в районе Мушакена, неприятель угрожает прорывом. Прошу срочно приказать правофланговым частям соседнего корпуса бросить два батальона пехоты для прикрытия почти окруженных моих тыловых частей и лазаретов…”
Он послал с этим донесением к наштарму дежурного писаря, но увидал в окно, что наштарм и горячо разговаривавший с ним начальник оперативного отдела направляются к помещению командующего армией. Писарь на ходу протянул ему бумагу. Наштарм, на ходу же, машинально пробежал ее и сунул начальнику оперативного отдела. Тот ударил кистью руки по бумажке, как по одному из рядовых эпизодов огромного целого, и, продолжая говорить, потряс руками перед своим лицом так, как бы имитируя слепоту.
Это последнее движение особенно смутило Фомина.
Он, уже привыкший в сводках ясно представлять передвижение частей и боевую обстановку, вдруг в районе Мушакена не досчитался целого корпуса. Позавчера там оперировал один, сегодня на его месте другой, но где же первый? Как мог он передвинуться или драться, не будучи в контакте со штабом армии? И что теперь сказать наштарму, который привык из рук Фомина получать всегда ясную картину обстановки?..
Но у Фомина опять пресеклась мысль со своим, личным, человеческим. Глаза его остановились на увеличившихся в числе его помощниках, писарях и телефонистах, которые на этот раз все перестали казаться только винтиками в сложном штабном аппарате, но все показались ему настоящими людьми. Они не только люди сами по себе, но они чьи-то сыны, чьи-то внуки, чьи-то братья, женихи, мужья, быть может, отцы… А главное, у каждого есть сердце, в котором неустанно теплится надежда когда-нибудь, быть может, скоро увидеть своих близких, и ближе всех своих возлюбленных, невест или жен…
И еще нежней, еще желаннее представилась ему его Ольга, молодая, стройная, всегда с беспечною улыбкой, с розовыми ямочками на щеках, с крапинками чуть заметными на бело-белой шее…
И никогда так остро не хотелось увидать ее, как именно сейчас, ибо сейчас это казалось уже несбыточным.
Солнце уже поднялось высоко. Фомин еще не завтракал. Не отдохнувший, но остро-потревоженный, он с самого утра сегодня потерял спокойствие, аппетит и голос. Он совсем не говорил, а только слушал и смотрел.
Головы и руки операторов и писарей были погружены в молчаливую и напряженную работу, отчего постукивание аппаратов казалось более значительным, более четким, нежели биение сердец. Сердца притихли, забыли о себе, как бы остановились биться.
Вот сразу, на слух, Фомин читает и узнает, откуда, кто и что доносит. Вести поступают со всех концов двухсотверстного фронта, по которому живою непрерывной цепью идут, стоят, бегут, лежат, ползут, летят, падают и умирают тысячи и тысячи людей… Это происходит вот сейчас, сию минуту, и каждую минуту каждый человек на фронте во что-то верит, на что-то, на кого-то надеется, ждет помощи, поддержки от ближнего или от дальнего, ждет чуда до последнего дыханья…
Резкое движение за дверью. Шаги и знакомая мелодия нескольких пар шпор. Все в канцелярии быстро вскакивают на ноги. Командующий армией в шинели и в фуражке.
— Здорово, братцы! – роняет он просто и негромко.
— Здравья желаем, ваше высокопревосходительство!
— Садитесь! Занимайтесь, — машет он им рукою.
Фомин стряхнул с себя беспокойного, неудобного, мешающего человека и, точными поспешными движеньями солдата одернув гимнастерку, вытянулся и ждал приказаний.
Генерал Самсонов исподлобья читающе взглянул прямо в глаза опрятного и стройного солдата, и взгляды их скрестились. По этим именно глазам генерал увидел, что перед ним не простой писарь, не средний мещанин, не выскочка из мелких городских чиновников, а твердый и надежный, готовый на всякую жертву честный русский человек. Фомин тоже угадал в глазах генерала, во влажном их блеске не только тревогу и сомнение и скрытую бурю нарушенного равновесия, но и молчаливый испытующий вопрос много раз оскорбленного человека, как бы спрашивающего:
— “Ну, а ты что скрываешь в своих мыслях? Ты тоже осуждаешь мои действия? Ты тоже тайно восстаешь против меня?”
Левая рука его была в перчатке, правая перчатка была в левом кармане шинели и высовывалась оттуда растопыренными кверху пальцами, касаясь ими золотого эфеса пожалованной государем шашки. Начальник штаба, начальник оперативной части, адъютант и еще несколько штаб-офицеров остались за дверями канцелярии, перед которыми показался серо-оливковый автомобиль командующего армией.
— Пожалуйста, — отчетливо, но спокойно сказал командующий армией, — все сводки доставлять начальнику штаба и мне в двух экземплярах и, по крайней мере, каждые два часа… А в неотложных случаях немедленно. Сейчас я еду на фронт… Но к обеду надеюсь возвратиться… Чтобы к моему приезду были все подробности…
Это было необычно и невероятно, чтобы командующий армией обращался непосредственно к оператору за сводками. Но Фомин не смел делать догадок. Он должен был слушать и слепо подчиняться.
Командующий армией протянул руку к телефону.
— Соедини меня со штабом фронта.
Пока Фомин очистил прямой провод, вошел наштарм. Все чины связи снова встали. Но наштарм забыл их приветствовать и усадить на место. Он что-то хотел сказать командующему армией, но генерал Самсонов, взявши трубку, стоя начал разговор с главнокомандующим фронтом. В канцелярии водворилась торжественная тишина. Все стояли на своих местах, и каждый мог услышать не только слова командующего армией, но и хриплый металлический ответ телефонного приемника.
Генерал Самсонов кратко изложил тяжелую обстановку армии и хотел закончить изложением своего плана.
— Я полагаю… — начал было он, но тотчас же запнулся, прерванный на этих словах:
— “Как командующий армией может полагать?.. Отвечая за свои действия, он должен точно знать, что ему делать!..”
Фомин, стоявший без движения, старавшийся даже дышать бесшумно, увидел, как командующий армией вытянулся во весь рост и так же, как и Фомин перед начальством, учтиво и коротко раз повторил:
— “Так точно, ваше высокопревосходительство… Слушаю!”
Он осторожно повесил трубку и, взглянувши на часы, обратился к наштарму:
— Радиостанции и аппараты Юза должны быть сняты. Завтра утром штаб снимается и переходит в район Нордау.
Наштарм молча поклонился. Командующий армией вышел к своему автомобилю.
Было восемь часов утра, когда автомобиль командующего армией исчез из глаз в направлении к передовым позициям.
Начальник штаба, проводив автомобиль командующего, опять вошел в канцелярию. Чины ее опять вскочили на ноги.
— Садитесь, делайте свое дело! – нетерпеливо бросил он в их сторону. – А ты,- сказал он Фомину, — свяжи меня с шестым корпусом.
— Ваше высокопревосходительство. Шестой корпус с полночи не отвечает.
Наштарм остановил на Фомине расширенные глаза.
— Как не отвечает?
— Так точно! Начальник оперативного отдела сами ночью вызывали его. Если изволите помнить, утром я вам передал депешу о том, что шестой корпус со вчерашнего утра перешел в непосредственное командование штаба фронта.
— Н-ничего не понимаю! – подавленно и негодующе сказал начальник штаба и медленно, неуверенным шагом вышел из канцелярии.
Все писаря и телефонисты, опустивши руки, смотрели ему вслед и затем нехотя сели на свои места, молча переглядываясь друг с другом.
Несколько минут спустя из штаба фронта была принята телефонограмма, адресованная начальнику штаба армии:
—“Главнокомандующий фронтом настойчиво напоминает о необходимости точного выполнения всех распоряжений штаба фронта, переданных в личном разговоре и в предыдущих телефонограммах”.
Фомин прикрыл эту телефонограмму чистым листком бумаги, как бы стыдясь или боясь передать ее начальнику штаба. Теперь в слухе его открылся еще один клапан. Все слышимое увеличивалось в звуке и в значении во много раз. Недавно обычные, постукиванья аппаратов теперь стали громче, чаще и беспорядочнее. Вот он слышит передачу радиограммы наштарма на имя командира шестого корпуса и удивляется, что радиограмма передается даже не шифрованной… Не вмешаться ли? Не доложить ли об этом начальнику оперативной части? А вдруг радиограмма дается помимо него?
— Кик-ки-ик! Кик-ки-ик-кик! – заскрипел опять радиоаппарат, самый важный и ответственный.
Фомин быстро схватывает ленту и читает новый немецкий шифр.
“Генералу Франсуа. Не допускаю никаких возражений. Завтра на рассвете наступать на правое крыло армии Самсонова. Людендорф”.
Фомин бегом, опрокидывая по дороге пустой стул, бросается к начальнику штаба и прямо с места переводит шифр.
— Правое крыло! – подавленно и тихо повторил генерал.- Это значит — шестой корпус! Но где же шестой корпус? Во что бы то ни стало попробуй связать меня с шестым корпусом!
Лишь вечером связь была установлена, но не с шестым, а с пятнадцатым корпусом.
Начальник штаба взял трубку и отчетливо сказал:
— У аппарата начальник штаба второй армии генерал Постовский.
— “У аппарата начальник штаба пятнадцатого корпуса генерал Мочуговский, – записывал по дубликату аппарата оператор Фомин.
— Во исполнение общей диспозиции штаба фронта приказываю пятнадцатому корпусу немедленно сняться с занятых позиций и идти на Аллейштейн.
Фомин услышал кашель генерала Мочуговского и замешательство. Через минуту в аппарате зазвучал другой голос, заскрипевший от сильного звука в приемнике:
— “У аппарата командир пятнадцатого корпуса генерал Мартос. Ваше высокопревосходительство, ваше приказание невыполнимо! Мой корпус третий день, неся ужасные потери, бьется с превосходными силами противника. Сняться с позиций — значит быть разбитым. Я второй день жду от вас обратного распоряжения: чтобы генерал Клюев с тринадцатым корпусом поспешил из Алленштейна ко мне на помощь!..”
— Генерал! – металлически зазвучал голос начальника штаба армии. – Я не передаю вам личного моего пожелания. Я вам приказываю, на основании распоряжений штаба фронта, немедленно подчиниться штабу армии. Иначе, вы будете немедленно смещены и преданы суду.
— “Ваше высокопревосходительство! – верещал искаженный в приемнике твердый и решительный голос. – Я охотно уступаю вам командование корпусом. Но пока я во главе корпуса, я не могу выполнить этой колоссальной глупости. Мой корпус истекает кровью и все-таки героически дерется, а вы хотите его предать и обесславить! Я не исполню вашего приказа!”
Звук голоса был прерван сухим и резким звуком стали. Трубка повешена. Разговор прерван. Фомин не смел поднять своей головы от прерванной записи и слышал, как поспешные шаги генерала Постовского удалились из оперативной.
Весь штаб с напряжением ожидал возвращения командующего армией генерала Самсонова.
Наконец в потемках автомобиль генерала Самсонова остановился возле столовой штаба. Генерал был в превосходном настроении. Он успел объехать самые опасные места боевых участков и был в особенном восторге от героического поведения частей генерала Мартоса.
Генерал Постовский молча выслушал командующего армией и с вытянутым лицом доложил:
— Но генерал Мартос отказался выполнить наш приказ о переброске корпуса на помощь Клюеву.
— И отлично сделал! – горячо сказал генерал Самсонов. – Эта идея генерала Жилинского, — бросая на пол недокуренную папиросу, добавил командующий армией, – бросать войска на север, когда здесь наносится главный удар противником, – чистейшее безумие!
И тотчас стал закуривать свежую папиросу.
Все офицеры штаба приняли эти слова при всеобщем молчании. Но генерал Самсонов, полагая, что весь штаб с ним согласился, приказал подавать обед, за которым не принято было говорить о серьезных вопросах.
Командующий армией за обедом весело шутил и даже рассказал забавный анекдот.
Все застолье весело смеялось, но в этом смехе было больше тревоги, нежели искреннего веселья. У каждого в душе уже сгущались тучи надвигавшейся грозы.
Это было в тот самый день, когда головной отряд тринадцатого корпуса только что вышел из Аллейштейна и когда командир артиллерийского дивизиона полковник Жарков все еще дивился, что ему приказано отступать из мирной и покинутой немецкими войсками столицы Восточной Пруссии.