Г. Д. Гребенщиков
ЧУРАЕВЫ
Т6
ОКЕАН БАГРЯНЫЙ
IV
МАРШ НА АЛЛЕНШТЕЙН
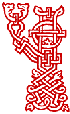 етвертый день похода приходился в День Преображения. С утра в походной церквице была отслужена литургия. Далеко от места богослужения тянулись ряды солдат во главе с офицерами в полном строевом порядке. Без шапок, в торжественном молчании они прислушивались к возгласам священника и к пению хора, наскоро составленного из певчих-любителей.
етвертый день похода приходился в День Преображения. С утра в походной церквице была отслужена литургия. Далеко от места богослужения тянулись ряды солдат во главе с офицерами в полном строевом порядке. Без шапок, в торжественном молчании они прислушивались к возгласам священника и к пению хора, наскоро составленного из певчих-любителей.
После “Херувимской” к полковнику Жаркову протискался начальник разведочной команды поручик Ветлин, и губы его почти коснулись уха командира:
— С группою разведчиков и пограничной стражей я только что был за границей…
— Как далеко?
— За линию границы мы углубились около двух верст. На всем этом расстоянии мы не встретили ни одного вооруженного немца.
Полковник Григов, и на этот раз державшийся вместе с командиром дивизиона, подошел вплотную.
— Мы не решились заезжать в немецкое селение, но по шоссе заметили хвост удалявшегося обоза.
Адъютант Жаркова поручик Шилов негромко уронил:
— Бегут!..
Это слово, как по проводам, передалось во все ряды и отозвалось прикрашенною шуткой;
— Слышите: немец к кайзеру жалиться на нас побег…
Служба скоро кончилась. Части снова двинулись. Остроленка и река Нарев были уже позади. Пески и перелески сменялись густыми лесами и болотными падями. Дороги стали уже. Вместо кавалерийских разъездов впереди шли конные отряды пограничной стражи.
— Наступаем! – улыбнулся Григов Жаркову.
Жарков озабоченно оглянулся по сторонам и не сразу ответил:
— Да, наступаем. Жаль только, что разведка наша не усилена.
— Я думаю, справимся. Очевидно, Ренненкампф не дремлет. А слева и справа нажимают еще три наших корпуса…
Жарков передвинул в своей сумке карту, приложил компас, проверил масштаб и молча покачал головой. Местоположение с картой генерального штаба не сходилось. Он это еще вчера заметил, но сказать об этом даже Григову считал неудобным.
Колонна двигалась все медленнее, все чаще останавливалась. Шедшая по сторонам пехота путалась в кустарниках, угрузала в песках или в болотистых лугах. Местами выходили на ровные поля озимей с мягкой, глинистою почвой. Здесь взводные командиры выравнивали нарушенные линии и вновь вели их в порядке, взвод за взводом.
Вдруг один из вестовых, вглядываясь из-за бугорка вперед, взволнованно крикнул:
— Вашескродь! Граница! Там столбы…
— Ну что ж, мы знаем! — огрызнулся на него поручик Ветлин.
— Дыть оно вестимо, а все ж таки она же вон она!..
Это волнение солдат передалось и офицерам. Полковник Жарков ждал линию границы с минуты на минуту и все-таки был удивлен. Сняв фуражку, он истово перекрестился, когда увидел белые столбы с черно-красными винтообразными полосками. Пустая сторожевая будка была такая же, как всюду ставятся для часовых в России, но за мостиком, за речкою – “шлагбаум” уже на немецкой земле…
— Конец родной земле! – сказал один из молодых офицеров.
А другой, постарше, даже пропел, перефразируя “Двух гренадеров”:
И все мы душой при…бодрились,
Дойдя до немецкой земли…
— “Прибодрились…” – передразнил поручик Шилов. – Лучше сказать: “возгордились”.
— Ну, нет! Гордиться еще рано, — поправил еще один. – Лучше сказать: “Душой помолились…”
— Да, — возразил пропевший, — если вы будете сочинять всем штабом, то, может быть, лучше Пушкина сочините. А я сочинил один, и экспромтом.
И он еще раз пропел с забавной важностью:
И все мы душей прибодрились,
Дойдя до немецкой земли…
— Да, это удачно, по-солдатски! – улыбнулся полковник Жарков и, подняв руку, бросил назад:
— Сто-оп! О-о-правсь!..
Он повернулся к полковнику Григову и, помедлив, сказал:
— Вот что я думаю. Нам надо бы сейчас объехать все части, поздравить с благополучным вступлением на неприятельскую землю и в то же время строго-настрого внушить, чтобы никакого баловства не допускалось. Как вы думаете?
— Так точно, полковник.
Григов подчеркнуто учтиво приложил руку к козырьку.
Оба командира с адъютантами начали объезд своих частей. Солдаты, завидя их, подтягивались, умолкали.
— Слушайте, братцы! – отчетливо звучал немного сиповатый голос командира дивизиона. – Мы сейчас вступаем на неприятельскую землю… Поздравляю всех вас с этим историческим моментом нашего похода!.. Только вот что: немцы о нас пишут в их газетах и внушают всем своим войскам, что мы варвары и дикари, что будто бы везде, где ступит русская нога, не остается камня на камне и даже трава не растет. Но мы докажем всем на свете, что мы побеждаем вооруженные силы, а с мирным, безоружным населением не воюем. Мирных жителей мы сделаем нашими друзьями, особенно наших братьев по крови, славян, которых тут под немцами не меньше половины… Поняли? Чтобы, братцы, не было среди нас ни одного грабителя, ни одного вора. Чтобы никто не трогал мирных жителей, особенно же стариков, женщин и детей. Если же заметите подозрительных людей, шпионов, то тащите их к своим начальникам…
Из рядов, перебивая речь командира, послышались возгласы:
— Рады стараться!
— Постараемся!
— У-р-р-ра!
Полковник поднял руку.
— Подождите! Я еще не кончил. Ура будем кричать немного погодя, когда начнем атаки и победы. А теперь слушайте: чтобы, Боже сохрани, никто не смел самовольничать! — голос командира зазвенел, как закаленная сталь: — Особенно следите за собой и друг за другом, чтобы никто не пьянствовал. А если заметите кого из наших пьяными, тащите и их в штаб как изменников. Поняли?
Гулкое, нестройное одобрение неслось в ответ из серых рядов, из седел и от упряжек.
В этом же роде говорил перед пехотою полковник Григов, а его слова передавались в батальонах, в ротах и повзводно. И некоторые взводные пересказывали это приказание своими словами:
— “Сказать, немец пришел бы, аль там австрияк, сказать, на нашу землю и начал бы наше трудовое добро либо, сказать, жену солдатскую али детей обирать и забижать… А мы, сказать, на войне отечеству защищаем и помогти семейству не могем… Вот, значит, начальник нам приказывает: мирных людей и женщин, а особливо малых сирот, не забижать, и никакого пьяного скандалу, тарараму не делать. А быть, как бы сказать, тверезыми и во всем порядке…”
Молча выслушали все это солдаты. Корнет Гостев, случившийся поблизости одного из взводов, следил за лицами солдат и видел, что многие поняли эти слова по-своему. Откуда-то из глубины рядов передалось из уст в уста и долетело до него крылатое и неожиданное словцо:
— “Замирение…”
— Понятное дело: немцу, сталоть, наложили наши по двадцатое число, он и поутек и просит замиренья… Не трогай, дескать, наших баб и деток и домашности. Будем, дескать, замиряться…
Легко и весело, с приподнятыми головами победителей вошли передовые части на чужую землю. Все сразу изменилось: дороги лучше и прямее, сады, поля и огороды обработаны с отменною любовью. Домики, дворы и церковки белели, точно только что помыты и покрашены. Отдельные усадьбы красовались, как нарисованные на картинке…
Но вот тут же, рядом, нечто непонятное: бедность и скученность, запущенность и грязь…
— Что это?
— Хорзеле. Еврейское местечко…
— Смотрите: депутация!
Некоторые офицеры весело расхохотались, когда навстречу им с показной отвагой, граничащей со страхом, в праздничных черных лапсердаках, в длинных бородах, в традиционных пейсах почтенные евреи издали усердно кланялись и, прижимая руки к сердцу, шли навстречу авангарду. За ними бежала куча ребятишек, грязных и оборванных, а из полупустых жилищ в окна и из-за косяков дверей выглядывали и сейчас же прятались бледные, испуганные лица женщин.
Евреи что-то говорили хором на своем жаргоне и по-польски и вдруг все вместе умолкли. Их окружили разведчики, подозрительно или насмешливо разглядывая и расспрашивая о том, где спрятаны оружие и немцы.
Евреи продолжали лепетать что-то свое, кланялись, показывали на свои жилища, как бы приглашая разделить с ними кров и скромную трапезу и убедиться, что они ничего и никого не прячут.
Между тем полковник Жарков с горки разглядел в бинокль удалявшиеся последние повозки, нагруженные разным домашним скарбом. Было очевидно, что в местечке осталась самая безлошадная и беззащитная беднота. Ни одного немецкого лица среди мужчин и женщин не было заметно.
Интендантские обозы все еще не подтянулись. Свежего хлеба не было уже три дня. Пришлось расходовать походные запасы сухарей или добывать хлеб на месте. А на месте все немецкие селения пусты. В польско-еврейских деревнях остались старые да малые.
Вот чистенькое, благоустроенное село. Домики-игрушки. Огороды свежеполиты этим утром. Во дворах мирно стоят коровы, на склонах холмика пасутся овцы. Ворота и двери не заперты. Ходят куры. В светло-голубом пруду беспечно плавают утки и гуси. Голуби слетели с крыши стройной церковки и радостно трепещут крылышками в голубом просторе, посверкивая белизной и сизым блеском перьев. Но во всем селении пусто, точно оно только что сегодня вымерло.
* * *
Оба командира выбрали для своего ночлега пасторский домик против церкви. Когда полковник Григов вошел в него, первое, чем он был поражен: мирно и деловито тикали столовые часы на опрятно прибранной шифоньерке. В доме было чисто прибрано, в столовой накрыт стол для обеда, а из кухни настойчиво проникал соблазнительный, еще теплый запах какого-то мясного кушанья. Действительно, плита была еще не потушена, и на ней стоял уже пригоревший, выкипевший куриный суп, и ножки курицы торчали из-под приподнятой алюминиевой крышки.
— Господа офицеры! – крикнул Григов из открытого окна на улицу. – Пожалуйте. Обед готов!
Когда полковник Жарков вошел, то, увидев уют и почуяв запах супа, постеснялся оставаться в доме. Ему казалось, что вот сейчас войдут хозяева и ему придется извиняться за самовольное вторжение. Только после краткого совещания с Григовым они решили не только занять дом, но и использовать готовый обед. Однако когда денщики подавали суп, оба командира отказались от него. Жарков даже пошутил:
— Хорошенький мы подаем пример солдатам! Им запретили трогать что бы то ни было чужое, а сами пасторскую курицу съедим?
Но пока они смеялись над таким примером, денщики внесли и самую курицу. Она была так соблазнительно поджарена, что полковник Григов воскликнул:
— Черт возьми!.. Да мы же на войне!.. Полковник! Разрешите вам вот эту ножку?..
— Ну давайте! – не утерпел благонравный полковник Жарков. – Какое безобразие! – сказал он, приступая к еде под общий веселый смех офицеров.
А денщики положили в жаровню целого, только что где-то пойманного и заколотого гуся…Надо же было накормить всех господ офицеров, окружавших двух начальников авангарда. Офицеры выругали денщиков, но ели с удовольствием и весело шутили:
— Все равно гуся воскресить уже нельзя…
… Спали в эту ночь все офицеры в прекрасных, мягких немецких постелях. Спали все спокойно, ибо к вечеру разведкой было установлено, что верст на десять во все стороны все чисто и мертво. Не только все войска, но и все мирное население почти поголовно побросало свои хижины, дома, хозяйства и поместья.
Было очевидно, что паника охватила огромное пространство пограничной Пруссии, и наше наступление по всему фронту развивалось усиленным маршем. Легко было поверить, что немецкие войска отступают с катастрофической поспешностью и даже в беспорядке.
* * *
Марш авангардных частей продолжался без единой стычки. Нигде, насколько можно было связаться с соседними частями, не было ни одного соприкосновения с противником. В двух-трех верстах позади авангарда следовали главные силы двух наступавших дивизий, в том числе артиллерия, авточасти, транспорты, лазареты, санитарные и хозяйственные обозы – огромная живая фаланга из тысяч и тысяч человеческих особей, несущих с собой большую, сложную историю, свои волнения, тревоги, приключения, суеверия и веру в то, что что бы ни случилось, — его судьба помилует…
Начальник наступавшего отряда генерал-лейтенант У. со штабом проехал вперед до самых передовых батарей авангарда и благодарил всех офицеров и солдат за образцовый порядок движения. Серебряная, блестевшая на солнце седина генеральской головы, особенно торжественно встречалась и провожалась тысячами молодецких глаз.
Корнет Гостев любовался этой сединой и думал:
— “Вот сейчас в этой посеребренной голове появится решение – и одно коротенькое, негромкое слово приказа бросит на смерть десятки тысяч людей. В этом есть нечто необычайное, малопонятное, но красивое”.
Однако странно: чем глубже продвигались по неприятельской земле передовые части, тем меньше поступало сведений из штабов, и тем больше обострялись слух и зрение корнета. Он жадно ловил каждое слово обоих начальников авангарда, и в нем едва заметно начинало копошиться беспокойство. Все настойчивее беспокоило сомнение: возможно ли, чтобы так просто и легко все время отступали немцы?
Вот уже двое суток они идут по свежим следам убегающего населения. Часы в домах все так же тикают, значит не вчера, а сегодня, быть может, вот сейчас ушли хозяева.
Денщики, озабоченные пропитанием своих офицеров, то и дело выкрикивали:
— Вашскородь! Гусей-то сколько зря шатается!.. Они же бесхозяйные. Дозвольте на жаркое изловить?
— Только не озоровать. Возьми пару–другую, но не больше!
— Да их же гибель, вашскородь!
Молодого Гостева и это беспокоило: все офицеры питались чересчур хорошо. За обедом часто острили:
— На первое — гусь вареный.
— На второе — гусь жареный.
— На третье — гусь спаренный…
Этот гусь “спаренный” был супружеской четой живых гусей, ожидавших своей участи. Из всех денщицких мешков торчали гусиные головы. По временам гуси поднимали крик, и по всей движущейся колонне начиналась отчаянная гусиная перекличка, вызывая смех и подражательные звуки притомленных и начинавших скучать от беспрерывного движения солдат.
Денщики с гусятиной мудрили без конца, и все-таки гусятина приелась. Тогда ее сменили свинина, поросятина, телятина, и не только на офицерском столе, но и в солдатском котле.
Денщик полковника Жаркова, ехавший все время в обозе, вдруг очутился на паре бойких, красивых немецких лошадок, запряженных в крепкую тачанку.
— Ты откуда это взял? – сурово окрикнул его полковник.
— Ваше скародие! Да их же увезде до черта брошено!..
— Да как ты смел без моего разрешения?
— Ваше скародие! Да лошадей же жалко! Они голодные узаперти стояли. А теперича у мене увесь багаж и уся кухня…
В озорной усмешке и в тоне денщика была отрава неуемности. Положение становилось щекотливым, но приказать бросить лошадей казалось просто глупым и жестоким. А дары чужой страны были все богаче и обильнее, и соблазны все неудержимее.
На следующем ночлеге полковник Жарков увидал из окна своей квартиры, как полковник Григов со своими разведчиками куда-то быстро направлялись в переулок. Донеслись слова:
— “Как? Винный погреб открыли?.. Где?”
— “Да, пьяный вооруженный солдат – это же страшно!” – обожгла догадка командира дивизиона.
Жарков почти выбежал из дома. Неподалеку оказался винный погреб. Несколько солдат успели проникнуть в него и, напившись натощак, мгновенно опьянели. Другие с бутылками разбежались по закоулкам и в одиночку накачались так, что растеряли ружья, ранцы и фуражки. Поодаль, в глубокой канаве, несколько солдат лежали на спине и лили себе в рот остатки ликера, не видя своих начальников, не слыша окриков.
Был срочно вызван и поставлен караул, но через час и караульные лежали замертво, а эти караульные были из наиболее надежных солдат, из дивизиона Жаркова.
Добрый, любивший своих солдат полковник Жарков внезапно обозлился, схватил свой стек и начал хлестать напившуюся стражу. Но военно-полевому суду ни одного не предал.
Это была бессонная ночь для многих офицеров, которые сами должны были взять в свои руки охрану погребов, заботу о пьяных и наблюдение за тем, чтобы все запасы вина были уничтожены. Десятки бочек пива, тысячи бутылок вина были разбиты, и самый воздух от пролитой реки пива и душистого вина был насыщен алкоголем. Поток вина и пива журчал под косогор, в овраг, где протекал ручей. А ниже к этому ручью прислуга батарей привела и напоила лошадей. Запах от ручья был настолько соблазнительным, что вместе с лошадьми к ручью припали и солдаты. Часть людей и лошадей оставались до утра в овраге: лошади мотали головами, дико скребли землю копытами, падали на колени и по-звериному храпели, в то время как их конюхи лежали трупами, бессильно что-то бормоча и засыпая…
Наутро в нескольких местах было подобрано пять трупов. По распоряжению начальников они были немедленно, без всяких почестей и даже без креста, зарыты в общую яму. Их родственникам посланы краткие извещения о том, что они умерли по собственной вине, бесславно, от самоотравления алкоголем…
Среди солдат были хмурые лица. Многие жалели сгоревших от вина и меж собой ворчали:
— Нашему брату всюду осиновый кол!..
Другие выражали ропот по-иному:
— Пять каких-то свиней облопались, а путным людям и по чарке выпить нельзя…
— Да что душой кривить: всякий выпить не дурак!.. Доведись до всякого.
Недовольство выливалось в разные нападки на погибших:
— Свиньям свинская и честь!.. Что ж они, сукины сыны, набросились на даровое вино, как стервятники, а нет чтобы выпил у меру, да и товарищам немного уберег?..
Это говорили уже вовсе трезвые, кому не досталось ни вина, ни пива. И они же дразнили отведавших немецкого хмеля:
— Ну, што задумался? О водопою заскучал?
— Немецкое пойло урчить у животе, а?
— Нет, оно у голову бьет, навроде шрапнелю…
А выпивший вдруг хрипло огрызнется:
— Да ты ж от зависти изводишься!.. Кабы не страх перед начальством, тебя, черта, тоже бы зарывать пришлось...
—А ты, значит, бесстрашный ерой?.. Винный погреб штурмом брал?.. А?
Но громкий смех сказавшего последние слова был одинок среди сурового молчанья многих.
* * *
Придя на ночлег, указанный на этот день приказом, почти к полудню, так как переход по диспозиции был всего двенадцать-тринадцать верст, — полковник Григов увидал влево от походной колонны, верстах в четырех, белые дымки шрапнельных разрывов. Явно там происходил бой. Полковник Григов, помня военный принцип идти на выстрел, решил, дав небольшой отдых солдатам, повернуть авангард на место боя.
И только колонна двинулась, подъехал начальник дивизии. На его вопрос, почему колонна не готовится к ночлегу, оба командира объяснили свое намерение идти и присоединиться к бою, и что, если это не потребуется, у них еще есть время вернуться и расположиться на ночлег в намеченном пункте. Но начальник дивизии заколебался и решил спросить командира корпуса по телефону. Командир корпуса решительно запретил вступать в побочный бой и приказал идти на место ночлега.
А завтра рано утром все же было приказано идти на место этого боя, но там уже нечего было делать. Наши части увидали лишь хвосты сделавших свое дело немцев и сотни русских и немецких трупов, людей и лошадей. Разбитые передки и зарядные ящики, выведенные из строя пушки, брошенные ружья, пулеметы — все это лежало на черном, обуглившемся от огня, еще дымившемся поле…
Немецкие офицеры лежали неподвижно в разных местах поля. Около них были воткнуты штыками в землю ружья. Это значило, что отступавшие немцы не имели времени увезти раненых. Но вот один из них, увидав русских, в безумном порыве выхватил револьвер и выстрелил в упор в одного из наших офицеров, но попал в ухо, и это ухо повисло и болтнулось вслед за ожесточенным движением офицера, который бросился на немца и, повалив его, пнул ему в лицо запачканным сажею и глиной сапогом. Что происходило дальше, корнет Гостев не видал. Он отвернулся от происходившей сцены, так как лошадь его с храпом вырвалась из группы офицеров и понеслась по полю, то перепрыгивая через трупы, то бросаясь от них в сторону. Не слушаясь хозяина и не в силах перепрыгнуть через глубокую канаву, она пустилась вдоль окопов, и корнет увидел русские и немецкие шинели, сотни русских и немецких трупов. Ясно было, что здесь, в жестокой схватке, враги не уступали друг другу в упорстве и храбрости. Он даже не запомнил, какая это была часть, так как сам еле держался на коне от потрясающего зрелища.
Оставив часть саперов зарывать тут же в траншеях трупы, наши части снова повернули в сторону маршрутного пути. И снова тишина безлюдия и мирности повисла над колонной. Корнет Гостев жадно всматривался в окружающие горизонты и никак не мог забыть того, что видел. Он особенно не мог отделаться от преследовавшей его головы одного из убитых русских офицеров, в которой зияла сквозная, черная от обожженной крови дыра от виска к виску. Лежа вверх лицом, офицер все еще держал блестевшую на солнце шашку, откинувши ее широким взмахом на бугорок проросшей корнями и вывороченной снарядом земли.
* * *
Отряд вступил в сплошные, дикие Мауэрские леса.
Полковники Жарков и Григов ехали по-прежнему вместе, но молча, одинаково чувствуя безотчетную тяжесть от надвигающейся неизвестности. Лишь по временам, когда голова колонны выдвигалась на поляны и немножко шире развертывался горизонт, полковник Жарков становился веселей и разговорчивей. Для артиллериста, привыкшего к широкому полю действия, высокие стены густого леса казались тюрьмой или ловушкой. Он знал и каждую минуту ждал, что где-то наконец обнаружится противник, раздастся первый выстрел, быть может, взрыв снаряда и начнется бой… Но где и как он развернет позицию в этом лесу? Как он расположит тяжелые передки с орудиями в этих трущобах? Если же придется, не дай Бог, поворачивать батареи назад, то их необходимо распрягать и заворачивать вручную. В запряжке повернуть нельзя: дорога чересчур узка.
Но вот опять просвет. Широкая поляна. Нет, озеро. На берегу опрятный городок. Даже население не все покинуло этот живописный уголок. На площади красивая кирка с башней…
— Не кажутся ли вам, полковник, подозрительными эти провода на башню?
— Надо обследовать.
Полковник Жарков спешился и лично постучался в дом пастора рядом с киркою.
Не сразу послышались шаги за дверью, и дверь открылась тоже после долгой паузы.
Бледный, бритый, в длинном сюртуке, за дверью стоял пастор. Руки его тряслись, челюсть отвисла, и подбородок прыгал.
Полковник Жарков, не входя в дом, знаком одной руки с крыльца задержал движение частей и подозвал корнета Гостева.
— Спросите его: уверен ли он, что в городке нет взрывчатых веществ?
Пастор поднял руки к небу, но ответить ничего не мог.
— Язык от страха у него прилип к гортани! – пошутил полковник Жарков. – Успокойте его, — сказал он Гостеву, — войска никому ничего дурного в городке не сделают.
Все же у входа в церковь был поставлен пост, и поручик Ветлин решил подняться на башню. И только чутье и привычная предосторожность разведчика спасли его и шедшие мимо церкви части от взрыва. На башне стоял прикрытый старыми досками несложный механизм, связанный телефонными проводами с главными зданиями городка. Взрыв должен был разрушить и все телефонные столбы, и ближайший мост через речку, выпадавшую из озера.
Пастор был арестован, но при допросе продолжал призывать в свидетели небо, что ему об этом ничего неизвестно.
Оба командира долго совещались, что делать с пастором? Судьба его была ясна: он подлежал расстрелу. Но так как все сошло благополучно, никто не пострадал, и все вокруг было настолько мирно, что даже не верилось, что могут быть бои, пастора решили отпустить с миром. Он даже сам не поверил, что помилован. Челюсти пастора продолжали трястись, и язык ему не повиновался. Так, немым и неподвижным, он и остался стоять у дороги, далеко от дома, глядя на бесконечную колонну русских войск, двигавшихся в глубь его родины. Быть может, это было для него горшим наказанием, нежели расстрел.
На седьмой день беспрерывного спокойного похода по немецкой земле весь авангард корпуса вытянулся на открытые места. С этим совпало появление в голове колонны начальника штаба корпуса. Генерал П. был очень весел и шутлив. Эта личная связь со штабом корпуса особенно хорошо настроила полковника Жаркова.
— Ваше превосходительство! – сказал он. – Как я рад, что мы наконец вышли из лесов. Действовать в лесу все равно что ночью…
Генерал не торопясь закурил папиросу, поправился в седле и, прищурившись на горизонт, ответил:
— Я тоже очень доволен и за себя и за всех.
Он, помолчав, прибавил:
— Сегодня к вечеру вы подойдете к Алленштейну. Это, в некотором роде, столица всей Восточной Пруссии. Распорядитесь, чтобы ваши части не входили в самый город, а расположились бы бивуаком на окраинах…
Полковник Жарков понял, что в штабе принято разумное решение: не раздражать стотысячное население города. Это безопаснее и для частей. Настроение его и Григова снова поднялось. Все шло, по-видимому, гладко.
Когда колонны обошли весь город и расположились, оба командира с ординарцами поехали в самый город, где квартирмейстеры спокойно заняли ряд ближайших к окраинам домов для размещенья штабов, офицерского состава и некоторых лазаретов. Здесь предполагалось опереться и наладить базу.
Жарков, устроившийся на ночлег в уютном домике, не дожидаясь денщика с вещами, сам сходил в лавочку, вернулся и решил принять ванну. Прошло хороших три часа. Денщик все еще не появлялся. Жарков опять вышел на улицу.
Город был сильно разгружен, но на улицах было движение. Много лавок и магазинов было открыто. Ходил трамвай. И было как-то странно, что русские офицеры располагались в этом большом вражеском городе, не взяв на случай безопасности даже никаких заложников. Но еще более странно, что, расхаживая по этому городу, полковник Жарков, командир авангардного дивизиона, даже не знает, где все-таки немецкие позиции? Где линия их отступления? Не могут же они бесконечно убегать в глубь своей страны совсем без боя!
Денщик не появился. Вернувшийся из лагеря адъютант доложил, что обозы все еще не подошли. Но потому, что начальник разведки был, видимо, на своем посту, а штаб корпуса расположился, не входя в Аллейнштейн, очевидно, не было причин для беспокойства. Жарков напился чаю, покурил, разделся и лег спать. В мягкой свежей постели он заснул немедленно и крепко.
Он спал и видел мирный и приятный сон: где-то на берегу тихой, светлой речки он удит рыбу, но вместо рыбы на удочку попадаются разноцветные, вышитые искусною рукою носовые платочки… Он смотрит на инициалы – они вышиты разными шелками, гладью. Вышивала его жена, когда еще была девушкой… Но почему же инициалы не его и не ее?.. И почему эти платки на дне реки?..
— Господин полковник… Господин полковник… – прошелестел над ним тревожный шепот.
Жарков открыл глаза и не узнал корнета Гостева. И вообще он ничего не понял: где он, что это за комната и кто перед ним?
— Господин полковник! – робко, но довольно сильно тряс за плечо полковника взволнованный молодой человек. – Полковник Григов просит передать вам, что получен приказ.
Слово “приказ” вернуло Жаркова к действительности. Он быстро сел на постели и широко открыл глаза и слух.
— … Немедленно сниматься и двигаться на Мушакен… — договорил корнет.
Жарков встал и, протягивая одну руку к брюкам, а другою потирая лоб, с недоумением нахмурился в лицо корнета:
— Двигаться на Мушакен?.. Да что вы, батенька, с ума сошли? Ведь это значит отступление! – и, быстро одеваясь, проворчал: — Без боя? Что за ерунда?
Адъютант и вестовые ждали его уже возле наскоро оседланных лошадей на мирной, тихой улице спящего города.
Денщик с вещами и с своей тачанкой так и не отыскался…
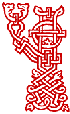 етвертый день похода приходился в День Преображения. С утра в походной церквице была отслужена литургия. Далеко от места богослужения тянулись ряды солдат во главе с офицерами в полном строевом порядке. Без шапок, в торжественном молчании они прислушивались к возгласам священника и к пению хора, наскоро составленного из певчих-любителей.
етвертый день похода приходился в День Преображения. С утра в походной церквице была отслужена литургия. Далеко от места богослужения тянулись ряды солдат во главе с офицерами в полном строевом порядке. Без шапок, в торжественном молчании они прислушивались к возгласам священника и к пению хора, наскоро составленного из певчих-любителей.