Г. Д. Гребенщиков
ЧУРАЕВЫ
Т6
ОКЕАН БАГРЯНЫЙ
II
НАТАШИНО ПИСЬМО
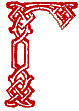 еди, радость моя! Радость моя и печаль моя. Нет, не печаль, а сон мой дивный, который так сладостно приснился и исчез. Всю ночь пыталась заснуть и все металась по постели. Рассвет был так же тих, подкрался неприметно, как в ту незабываемую ночь в монастыре: ты помнишь, мы вошли во мрак, а вышли навстречу первым лучам солнца.
еди, радость моя! Радость моя и печаль моя. Нет, не печаль, а сон мой дивный, который так сладостно приснился и исчез. Всю ночь пыталась заснуть и все металась по постели. Рассвет был так же тих, подкрался неприметно, как в ту незабываемую ночь в монастыре: ты помнишь, мы вошли во мрак, а вышли навстречу первым лучам солнца.
Сейчас десять часов утра, а я не хочу вставать. Нянюшка твоя (теперь и моя) два раза приходила, спрашивала: не больна ли? Бабушка прислала мне кофе, — я не посмела отказаться, выпила, хотя я ничего на свете не хочу без тебя. Лежу, блаженствую и страдаю. Не знаю, что больше: счастье мое или горе мое. И где мое счастье, на каких путях-дорогах? Верю и не верю: было оно или не было. Кто-то бросил меня в пламень счастья, и пламень этот так прекрасен, и так внезапно он обратился в лед. А я хочу гореть, сгореть дотла в огне моего счастья небывалого и, кажется, неповторимого. Я так много хочу сказать тебе, потому что ничего не успела сказать, когда ты был со мной, а слова мои такие жалкие, такие малые – нельзя мне ими выразить весь мой восторг перед тобой, весь пламень сердца моего, зажженного тобою… Геди, я придумала это имя для тебя и, когда пишу это слово, мне так радостно повторять его. Я произношу его с открытыми губами, которые еще горят, еще воспалены от твоих поцелуев. Но мне кажется, я не решусь послать тебе эти слова. Я хочу любить тебя наедине с собой, хочу упиться моей радостью одна, чтобы и ты не знал. Вот я припала к подушке, на которой была со мною рядом твоя голова и упиваюсь моим отчаянием; ведь ты был здесь еще вчера, и тебя нет возле меня, и мне нельзя сопровождать тебя повсюду.
Только теперь я начинаю понимать, какое это невыразимое счастье – ты. Не сказочный, не выдуманный, не в мечтах, а настоящий ты. Впервые это слово “ты” стало такое близкое, такое сокровенное – вся кровь затихает во мне и слушает, когда я шепчу его. Ведь это значит — ты мой самый близкий, мой единственный и настоящий, с которым еще вчера я ходила рядом, вот здесь, среди деревьев сада, среди цветов и зелени, смотрела на тебя снизу вверх, когда ты из беседки всматривался в глубину пруда, а я стояла рядом и слушала твой голос. Нет, я ни за что не решусь послать тебе это письмо, этот безумный бред, потому что и самой мне стыдно, стыдно моего желанья быть возле тебя, отдать тебе себя до последней капельки крови, до последней слезинки горя моего невыразимого.
Нет, нет, я не буду плакать. Я не заболею, ты не беспокойся. Но я хочу хоть этому листку бумаги рассказать – поведать, что я изнемогаю от любви к тебе. Я не могу даже понять, как и когда во мне это успело появиться. Все так внезапно, так ошеломляюще–неожиданно овладело мной – и рай восторга и ад отчаяния. Я не думала, не ожидала, что ты так мгновенно мог в меня войти и вырасти во мне в нечто огромное и светлое и столь необходимое, как воздух и огонь.
Я выросла без отца и матери, но до сих пор я не знала, что такое настоящее сиротство. Я не знала, что такое нищета, хотя всегда во всем нуждалась, но сегодня, но сейчас я нищая из нищих. Мне дали радость и богатство и все немедленно отняли.
Я смотрю на эту старую богатую усадьбу и мечусь по ней, ищу какого-либо самого укромного уголочка, чтобы никто не видел моего лица и я не видела бы никого. Здесь все такое большое, все комнаты такие гулкие, нежилые, что в них раздается эхо, и я с каждым часом становлюсь все меньше, все пугливее. Я тут всего боюсь, и, кажется, я без тебя здесь никогда не привыкну. Мой суженый, мой муж, мой самый близкий, — пойми мою беспомощную робость и не осуди. Я хочу сегодня быть в постели, как больная. Я хочу быть в этой твоей милой комнате, как птица в клетке, пока ты не приедешь и не возьмешь меня с собою.
Я все пишу лишь о себе да о своих переживаниях. Да, я пошлю это письмо тебе немедленно, чтобы ты знал и видел, что я за чудище. И все равно, простишь ты или не простишь мне этот бред, а я должна тебе все рассказать, во всем признаться. Со мною происходит что-то непонятное. Я трепещу, боюсь чего-то и чему-то небывало радуюсь. Я не хочу вставать с постели потому, что сердце мое вытянулось в паутинку и тянется к тебе, и чем ты дальше от меня уедешь, тем будет тоньше и напряженнее струна моего сердца. Что-то во мне происходит небывалое и очень важное. Какой-то совершается во мне великий праздник. Вот я горю, я задыхаюсь от моего счастья, но, Геди, ты что-то святое, драгоценное во мне оставил… Оно важней всего, больше всего, я это чувствую как нашу с тобой самую святую радость…”
Геннадия кто-то хлопнул по плечу:
— Уже письмо? От Наташи! Каким образом?
Геннадий точно выпал из закупоренной тишины и попал в громокипящий котел, в котором варятся тысячи движущихся, говорящих, смеющихся серых людей с погонами всех рангов и всех родов оружия. Люди в черном или в белом совсем терялись в сером и защитном цвете: так мало было частной публики по сравнению с военными. Появление друга, а теперь еще и шурина, казалось неожиданным. Он так некстати оторвал Геннадия от его нового, еще не ведомого, не испытанного счастья и волнения.
Геннадий покраснел и не ответил. Его друг это понял и переменил разговор:
— Ты знаешь, мы, кажется, едем не в одном эшелоне. Мой отправляется в семь сорок. А твой?
— Мой ровно в семь.
— Вот видишь. Это значит, нас могут разделить. А это – черт-те что!
Геннадий пошутил:
— Охота тебе путаться с женатым человеком?
— Нет, слушай, Генка, ты смотри: Наташка в самом деле может прикатить на фронт сестрою милосердия. Ты должен уберечь ее от этого. Романтика – это одно, а подлинная жизнь – сплошной кабак. Она моя сестра, я очень люблю ее, но выросла она в Сибири и набралась там всяких вольностей. А эти курсы, филология и чертология для девушки, по-моему, — уродство. Пусть она научится вести хозяйство, да чтобы сберегла тебе именье. Вот это да.
— Володька, перестань! – прервал Геннадий. – Ты ничего не понимаешь ни в семье, ни в хозяйстве.
— А ты все понял за три дня супружества?
— Да ничего не понял. Но это, брат, такое все… Необычайное… Она нашла такие слова… Я перед нею – школьник…
Геннадий посмотрел в веселые глаза Володи и, увидев в них, особенно в ресницах, отдаленное сходство с обликом Наташи, ощутил к Володе родственное, теплое, доверчивое чувство. Захотелось перед ним излить все то, что он испытывал сейчас, но не сумел бы написать в письме. Мужчины в письмах более застенчивы, чем женщины. Володя перебил его:
— Геннадий, брось! Влюблен… Разлука и романс – все это я отлично понимаю. Но, ради Бога, пусть Наташка сидит дома и сумеет угодить генеральше. Вот это будет дело. Бабка твоя – Екатерина Великая!
Они были в самом отдаленном углу зала, все время стоя на ногах или немного двигаясь в меняющейся толпе. Все места за столами были заняты старшими офицерами, дамами, сестрами и штатской публикой. Разговор приходилось вести, близко наклонясь друг к другу, — так гудел вокзальный зал.
Стройные, высокие, красивые, в длинных кавалерийских шинелях, они попутно то и дело отдавали честь старшим офицерам, многочисленным сверстникам или отвечали нижним чинам, которые сопровождали офицеров, несли багаж или спешили разыскать свое начальство. Все кругом казалось молодо и весело и ново. Столичный вокзал с огромными светлыми окнами, с блестящею посудой, высокими вазами и цветами на столах, застланных белоснежными скатертями, с мирным видом расторопных и учтивых официантов, казалось, был переполнен празднично настроенными военными, отправляющимися на грандиозный всероссийский парад.
По обширным залам, на платформах, в прибывающих с площадей и улиц пестрых толпах преобладала жизнерадостная и блестящая, отборная и самая здоровая, прекрасно вышколенная молодежь. Она казалась еще моложе и свежее оттого, что вся была с иголочки одета. У всех от теплоты и возбуждения розовые лица, на всех новые шинели, новые фуражки, шашки, кобуры, подсумки, пояса. Новые легкие чемоданчики не загромождали зала, не уродовали вида офицеров, не мешали становиться во фронт перед генералами и красивым жестом прикладывать руку к козырьку.
* * *
В этот день с утра Москва начала проводы и отправку своей лучшей юной силы на войну. Точно в царский праздник, она гудела звонами колоколов, утопала в разноцветных и трехцветных флагах. Все храмы целый день с утра полны молящихся. Все монастыри, все домовые церкви — все полно народом, всюду звон и пение, молебны. Как в неубывающей реке вода – одни уходят, другие наполняют. В гулких соборах и храмах самые громовые диаконские и архидиаконские басы и октавы, как гул тысячепудовых колоколов, провозглашали:
— “Боголюбивому и благоверному царю и государю нашему, благочестивейшему императору Николаю Александровичу всея России – здравие же и спасение и во всем благое поспешение, на враги же победу и одоление!.. И спаси его, Господи, на многая Ле-ет-та!”
И казалось, что вся тяжесть векового камня храмов превращалась в легкие облака и возносилась в небеса, когда стоголосый хор, в блаженном упоении своей гармонией, величием и силой, подхватывал всякую живую душу на крылья ангелов:
— Многая лета! Многая лета! Многая, многая лета!..
Это проникало в сердце каждого, одухотворяло, поднимало, углубляло смысл происходившего. Теперь никто, как это было в прошлую, японскую, войну, не думал забросать шапками могущественную, стальную и в военном отношении никем еще не превзойденную Германию. Военные отлично понимали, что это не парад, не маневры, а жуткий час истории. А горожане, особенно столичные, еще острее чувствовали этот жуткий час, необъяснимый, не приемлемый рассудком факт: в двадцатом веке между самыми культурными народами начинается организованное по всем правилам военного искусства, но по существу дикое взаимоистребление.
Но думать, рассуждать, путаться в догадках и сомненьях, ужасаться было прежде всего некогда. Час пробил, и все позванные встали и пошли, а все еще не позванные приготовились, насторожились, стали считать по-новому часы и дни. По-новому дышать и мыслить, по-новому, не механически, но более осмысленно молиться… Москва молилась, как не маливалась уже триста лет, с годины смутного времени. Ибо такой грозы над ней за эти триста лет не нависало, такого часа грозного судьба не возвещала.
Москва – Россия отправляла на войну всю соль земли: ядреное, здоровое, пахучее, как ржаной хлеб, и коренастое ядро своих бесчисленных казарм; цвет всех своих военных школ, военно-медицинских академий, кадетских корпусов, кавалерийских, юнкерских, артиллерийских, авиационных, саперных, автотехнических, телеграфно-телефонных, ветеринарных и прочих, бесконечного названия и значения, училищ, школ и курсов, готовивших годами бесчисленных специалистов, — частей, винтов и винтиков, необходимых в небывало громоздкой машине современной войны. Было о чем подумать, было о ком молиться.
Помимо храмов и монастырей, молитвенность Москвы распространялась на широкие площади перед рядами тысяч призываемых. Молебствия и многолетия зазвучали во дворах казарм, в обширных актовых залах военных училищ, корпусов и школ, для чего как будто были мобилизованы новые сонмы духовенства. В молодежи, мало подготовленной к молитве и равнодушной к церкви, впервые возникли сложные и срочные вопросы:
— Что же такое жизнь и что такое смерть? В чем смысл или бессмыслие войны? И неужели Бог будет участвовать в этом кровавом споре государств?
Не имея своих мыслей и решений, многие механически повторяли старые, ходячие народные истины.
— “Вскоре Бога не умолишь!” – стоя в это утро на молитве, шепнул Геннадию Володя.
И тот проворчал в ответ:
— “Бог-то Бог, да сам-то не будь плох!”
Перед лицом опасности молитвенно задумалась Московская Россия, и то, что не могла решить сама, смиренно возлагала на волю Божию. И немногие молодые офицеры, только что выпущенные из-под крылышка своих училищ и домашних очагов и идущие на поле брани, чувствовали всю ответственность, перед ними вставшую.
Володя и Геннадий то и дело посматривали на браслеты своих часов, как будто время стало тяготить их медленностью хода. Володя говорил свое, Геннадий свое. Их пути, вся воля к жизни пошли совсем различно, когда один женился и обрел неведомое, ослепляющее счастье, а другой, напротив, устроивши сестру и отдавши ей своего друга, — почувствовал, что для Геннадия он больше не существует и отдает слепому случаю и свою жизнь.
— Ты знаешь, — прищурившись и смотря куда-то мимо, говорил он, — не за себя, не за свою жизнь беспокоюсь я. Но вот что: родина от всех нас ждет побед или защиты, — а это для нас все еще в теории и отвлеченно… Сегодня, когда мы проходили по Красной Площади в рядах солдат, я в первый раз почувствовал, что мои офицерские погоны стали тяжелы, как те железные вериги, что носит мой дядя, иеромонах… Помнишь, он сконфузился, когда я их на нем нащупал. Но монах — это одно, он отвечает перед Богом только за себя. А мы с тобой возьмем ответственность за десятки и за сотни, а старшие офицеры и за тысячи послушных и простых солдатских жизней. Но и это не все. Я, знаешь, думал: вот все мы молимся, поем многая лета, кричим ура, а принимаем ли, чувствуем ли эти вериги?..
Володя потрогал свой погон и замолчал.
Геннадий слушал и старался быть внимательным, но ему это не удавалось. Письмо Наташи по-иному освещало ему смысл происходившего. Его мысли и чувства были взбудоражены. Они были и не важны сейчас. Все окружавшее его не переставало быть праздником, в котором он участвует в минуты своего торжественного пробужденья к жизни. Блестящие новые, золотые и серебряные погоны, которые он видел на плечах всех офицеров, для него были сейчас красивой и необходимой декорацией. В ореолах кокард и блеске всех родов оружия он видел явные доспехи долга и присяги, чести человеческой и офицерской. Что же больше?..
— Мне, знаешь ли, Володя, твои слова не совсем понятны. Какое мы имеем право рассуждать сейчас, судить кого-то, в чем-то колебаться?
Письмо, которое он не успел еще прочесть до конца, было для него простым и ясным разрешением всех вопросов: он обладает изумительным сокровищем, любовью, счастьем и должен защищать его. Не хвататься, не прятаться за него, не уходить с ним куда-то в дикие трущобы, где будто бы с милой счастье и в шалаше, а именно вместе со всеми, смело, мужественно биться за него с врагом. Потому что все имеют то или иное счастье: кто в любимой подруге, кто в отце и матери, кто в брате и сестре, кто в усадьбе или в лошадях, кто в охоте иди в мирных путешествиях, а кто просто в детском неведении каких-либо опасностей. Здесь для Геннадия все ясно. Он не думает о какой-либо опасности и верит, что и никто другой сейчас о ней не думает. В них все, начиная от свежих, крепких мускулов и кончая блеском юных возбужденных глаз, кричит о неистребимом молодом задоре, о радости первых настоящих боевых походов, о том, чтобы первыми попасть в ряды бойцов и первыми отличиться за веру, царя и отечество.
Нет, не железными веригами лежат на плечах Геннадия его погоны, а как легкие крылья, как длинные радиолучи, которыми он будет поражать врага на расстоянии и приказывать или подчиняться. Важно и бесспорно одно: Геннадий, как и тысячи других его сверстников, не думая о личной опасности, но чувствуя долг подвига и офицерской чести, с нетерпением стремится в бой. Да, да! Было бы неправдою это скрывать. Быть может, потому надо стремиться с нетерпением в бой, что за жертвой есть победа, а за победой есть надежда – поскорее вернуться с поля битвы к родному очагу… О чудесная, о нежная, о несравненная Наташа!.. Какое это счастье — через несколько месяцев обнять тебя, трепещущую, невыразимо-близкую, по-новому родную! И начать новую, большую и красивую жизнь в прекрасном родовом имении.
Нет, он не думал о солдатах и вообще о людях, когда сегодня, во время парада на Красной Площади, маршировал в солдатских рядах. Но он впервые с незабываемым восторгом посмотрел на Кремль, на Спасские Ворота с высоко взлетевшими над башнями орлами, на Минина с Пожарским, на множество крестов над храмами, блестевших в полуденном солнце. Вот это он возьмет с собой туда, куда идет без страха и сомнения.
Когда вся Красная Площадь гудела от криков ура, звуков оркестров и пения гимна, он в последний раз увидел золотое полушарие купола Храма Христа Спасителя, и самый верхний крест на нем блестел таким пронзительным золотым пламенем, что он почуял острую боль от радости, будто в сердце вонзилось лезвие клинка. Вот это он возьмет с собой и понесет до гробовой доски. За это он готов и смерть принять — от этого же лезвия, как последнюю расплату за радость, что Москва – это его столица, что Русь – это его страна… Там выше где-то Бог, но Геннадию выше этого креста не надо. В нем весь символ его царства, весь идеал его готовности пожертвовать собой. В блеске этого креста весь его путь, все его небо, вся Русская Земля, и Царь, и Сам Христос. А под крестом, под куполом, в святом безмолвии храма остаются и витают ангелы, те самые, что иногда поют Херувимскую и, силами невидимыми тайну образующие, спускаются к Престолу.… Вот этим ангелам он поручает Наташу. Ей там, у родного, у Московского, у доброго Христа будет сохранно…
* * *
Ждали с нетерпением, а оба вздрогнули, когда раздался звонок и зычный голос высокого, седого, строгого вокзального курьера прогремел:
— Можайск! Гжатск! Вязьма! Смоленск!… — Второй звонок!
Козыряя направо и налево, молодые офицеры двинулись к выходу, в котором стояла уже длинная линия таких же стройных, казавшихся подряд красивыми молодых людей. Володя захватил свой чемодан, чтобы проводить Геннадия до дверей, и что-то хотел сказать, но слов не находилось. Наступила минута напряженная и важная: через сорок минут Володя в эти же двери выйдет и уйдет в новое, неведомое завтра…
Все остальные, выходившие так же безмолвно и бесшумно, медленно двигались. У самого выхода Володя молча пожал руку Геннадию.
— Увидимся.
— Конечно! – улыбаясь, сказал Геннадий, но он уже вступил в это завтра, он уже ушел от всех сегодняшних мыслей и забот. Видя, как все остальные с розовыми, радостными лицами кивали своим друзьям или родным, следовавшим сбоку только до дверей, он оставил своего друга вместе со всеми за дверьми, как в далеком прошлом.
Гул вокзального движения отходил назад, все дальше, вместе с предвечерними протянувшимися в окна лучами. Еще раз мелькнули в дымке города верхушки домов, ближние купола церквей, кресты и дальнее розовеющее перед закатом облако, где-то, должно быть, над Кремлем. Крытые проходы на перронах зашуршали особым шумом от многих шагающих ног. Как бы отмечая последний взгляд на остающуюся позади жизнь, где-то поблизости раздался глухой, протяжный звук колокола. Видимо, призыв к вечерне. Денщики тащили вещи своих офицеров, носильщики в белых фартуках несли чемоданы и катили нагруженные вещами вагонетки. Откуда-то мальчики прорвались с газетами. Мелькнули красные кресты на белых фартуках сестер милосердия. Монахини, все в черном, быстро шли по противоположной платформе, за ними ковыляли две старушки в трауре. Там частная публика: дама с нянькой, катившей колясочку, старик-священник, придерживающий белый крест на груди, две молодые девушки и дети в матросочках – все живым говорливым потоком унеслось в лабиринт ожидавших пассажирских составов. Но офицерская колонна шла одинокой серой линией все дальше: вагоны для офицеров стояли, казалось, где-то очень далеко.
Вот наконец и молчаливые, все новые, опрятные, спокойно ждавшие вагоны — длинный, бесконечный ряд. В порядке, учтиво уступая дорогу и лучшие места старшим офицерам, стали входить в вагоны молодые. Не толкались, не спешили, не смеялись громко.
Так ли это было все или только так казалось одному Геннадию, но он особенно торжественно переживал эти минуты спокойной и бесшумной посадки в поезд. Ведь это в первый раз после учебных будней, после многих лет казарменной или манежной жизни, после маневренных прогулок, после парковых и опытных поездок, после вытянутых маршировок на парадах — в первый раз серьезно и по-настоящему все направлялись в первый, настоящий бой… Впрочем, он никогда не переживал такого дня еще и потому, что в кармане у него было письмо, которое только здесь, на Московском вокзале, именно в час его отправления на войну, раскрыло перед ним всю необъятную красоту, радость и понимание жизни. Разве можно в такой час думать о чем бы то ни было, когда он еще не дочитал письма и когда на свете для него лично совершается нечто бесконечно важное и величественное: его так самозабвенно любит прекрасная, юная, нежная Наташа.
Вот он сейчас усядется в укромный уголок среди самых незнакомых, чтобы не мешали разговорами и любопытством, достанет это чудное письмо и будет его дочитывать до конца, — ведь там еще две страницы незнакомого волнения и блаженства. А потом станет заново все перечитывать и вновь переживать. И не раз, и не два раза будет он читать это письмо, в котором есть то самое ощущение, которое когда-то он, давным-давно, лет семь тому назад, испытывал при первом поцелуе… О нет, это гораздо волнительнее и красивее!
Как хорошо, что близится вечер и ночь. Он сегодня спать не будет, а будет вспоминать во всех подробностях последние три дня и четыре ночи, проведенные с Наташей. В этих днях незабываемо осталась на всю жизнь одна благоговейная стыдливость, такая острая, такая самозабвенная и такая целомудренная, святая, супружеская. Он запомнил на всю жизнь все те минуты и часы, когда он долго-долго всматривался в ее глаза, а глаза ее от этого делались еще милее, еще прекраснее. Боже! Какое же неизъяснимое существует счастье на земле!
Впервые в жизни Геннадий открыл для себя, что у девушки во время поцелуев вокруг лица вспыхивает нечто вроде венчика — чуть-чуть заметный свет от стыдливой улыбки, от покорной слабости и, вероятно, от любви. И этот свет задерживается в таких малюсеньких пушинках. Может быть, эти пушинки расцветающей юности и излучают свет неизъяснимой радости. Но он в те дни и ночи этого не мог осмыслить. Разве можно было рассуждать, когда все время, все волнение перешло в один восторженный вопрос:
— “Неужели же все это правда?..”
И вот теперь, когда она сама так тонко и так просто описала ему то, о чем сама не говорила, теперь и он все понимает по-новому, как нужно, глубоко и навсегда. Впервые перед ним широко распахнулись необъятные врата в иную, неумирающую жизнь. И как же это хорошо, что они сразу испытывают скорбь разлуки. Иначе никогда бы так не оценили это счастье.
В самом деле, какая глубина и радость только в одном этом коротком слове: “ты”. Ведь это значит ближе близкого, родней родного. И она первая сумела так понять и разъяснить это слово. Какой же, значит, ужас, какое лишение, когда люди называют любовью что-то другое, не настоящее, не дающее такой полноты счастья.
Так сидя в углу и, не слыша стука колес мчавшегося поезда, ушел в тишину своего личного счастья и читал и перечитывал любовное письмо корнет Геннадий Гостев.
— “Я все хочу видеть тебя во сне… Хочу добиться, чтобы видеть, как ты ко мне приехал, как входишь, как я притворяюсь спящей, а ты подкрадываешься на цыпочках. Но шпоры выдают шаги твои — я уже готова крикнуть от восторга, но креплюсь, хочу узнать, какое первое ты слово скажешь, как первый сам начнешь ласкать и целовать меня. Но я боюсь, что, если увижу тебя, во сне же буду думать, что это сон. Так невероятно, что ты есть на свете. Так невероятно, что эти три дня были не сон, а правда. Мне так радостно даже во сне думать, что это была правда, что я от волненья просыпаюсь и с ужасом протягиваю руки в пустоту… Тебя нет со мною. Вот так я мечусь всю ночь и даже утром не могу молиться о тебе, как обещала. Но только мысленно тебя всего целую, заковываю тебя в латы любви моей, эти мои поцелуи – мои слезные молитвы к Богу. Господи, спаси тебя от всяческой беды! Господи! О, Геди, Геди! Мое солнышко, мой свет единственный! Юность моя. Любовь и радость и печаль моя!..”
Давно была ночь. Поезд мчался в летней темноте среди лесов или полей, под ясными звездами. По временам он вскрикивал в ожидавшую его темноту, отпугивал от себя опасность, бросал назад беловатую волну пара и дыма и стучал колесами о рельсы, как маятник часов, ритмично и неуклонно. Впереди, в сорока минутах хода, шел другой, а там третий, уже много. И позади, вытягиваясь друг за другом, из Москвы и из других многих, многих городов мчатся новые составы, эшелоны — грозная Всероссийская кузница, кующая минуты и часы неведомого грядущего времени.
Во всех этих бесчисленных вагонах и составах мчатся тысячи и тысячи бойцов. И каждый из бойцов, молодых и старых, везет с собою свои думы, полные мечтаний и воспоминаний, и свое сердце, полное драгоценных чувств. Многие везут с собою еще свежие цветы, данные им на дорогу близкими, друзьями или возлюбленными. У каждого в памяти еще свежи слезы и улыбки опечаленных глаз, оставшихся дома. На одежде и вещах еще остались запахи родных очагов. У многих на губах еще не остыла теплота последних поцелуев…
И так, многочисленными стрелами, неслись со всех сторон быстрые, стучавшие колесами о рельсы поезда: с Востока, с Севера и с Юга, со всех пробужденных, поднявшихся весей гигантской Российской империи, — на Запад, к рубежам, раскинувшимся на тысячи верст…
Все накоплялись живыми текучими ручьями основные базы сосредоточения – озера живой кипучей крови… Все нарастали силы серыми сгустками у узловатых путейских этапов. Все набухало, все росло и без того великое, вселюбящее, всескорбящее и верующее в жизнь вечную всенародное сердце.
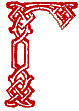 еди, радость моя! Радость моя и печаль моя. Нет, не печаль, а сон мой дивный, который так сладостно приснился и исчез. Всю ночь пыталась заснуть и все металась по постели. Рассвет был так же тих, подкрался неприметно, как в ту незабываемую ночь в монастыре: ты помнишь, мы вошли во мрак, а вышли навстречу первым лучам солнца.
еди, радость моя! Радость моя и печаль моя. Нет, не печаль, а сон мой дивный, который так сладостно приснился и исчез. Всю ночь пыталась заснуть и все металась по постели. Рассвет был так же тих, подкрался неприметно, как в ту незабываемую ночь в монастыре: ты помнишь, мы вошли во мрак, а вышли навстречу первым лучам солнца.