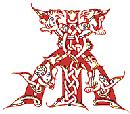 изнь, как река, — не правда ли? Какое простое и привычное сравнение! Но из-за привычки к сравнениям, значение великих явлений умаляется, утрачивается самый смысл значимости, самое духовное начало ощущения…
изнь, как река, — не правда ли? Какое простое и привычное сравнение! Но из-за привычки к сравнениям, значение великих явлений умаляется, утрачивается самый смысл значимости, самое духовное начало ощущения… Г. Д. Гребенщиков
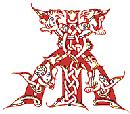 изнь, как река, — не правда ли? Какое простое и привычное сравнение! Но из-за привычки к сравнениям, значение великих явлений умаляется, утрачивается самый смысл значимости, самое духовное начало ощущения…
изнь, как река, — не правда ли? Какое простое и привычное сравнение! Но из-за привычки к сравнениям, значение великих явлений умаляется, утрачивается самый смысл значимости, самое духовное начало ощущения…
Нет, ты посмотри на течение реки поближе, повнимательнее… Подойди к берегу, наклонись, погрузи свою руку в самую воду. Чувствуешь ты чудо жизни или нет?.. Чувствуешь ли ты, что вода имеет таинство жизни, тебе еще незнакомое? Что это: металл или минерал, какое это вещество? Как странно звучат какие-либо научные термины: водород, кислород и прочие химические элементы. Нет, это таинственное чудо, дающее жизнь всему живому.
Вода – это сама Жизнь, это чудо из чудес.
А теперь ты взгляни на то, как течет река… Послушай ее шелестящий ход, ее стремление неустанно и непреложно вперед. Не правда ли, ты впервые ощущаешь мистическую тайну водного течения, впервые понимаешь, что самое простое явление – течение воды, становится глубоко-волнующим откровением, только покрытым пылью твоей привычки к чудесам, тебя окружающим…
Теперь смотри и слушай, как течет река…
Глубокая и изменчивая, с отмелями и порогами, с тихими заливами и мрачными омутами, она полна сказок и тайн, печалей и радостей… Нет, ты слушай не только слухом, ты слушай сердцем и всею напряженностью ума…
Приходит она из каких-то далеких и неведомых стран, где она собиралась из маленьких речек и потоков, а потоки только из едва заметных родников, может быть, от высоких снеговых вершин, из чистых кристальных истоков или горных озер, накопленных из тающего снега…
Ты слушаешь, но чувствую, что не вникаешь в само значение слов.
Снег — это опять чудо. Это вода, где-то в высоте небес превратившаяся в чудесные белые кристаллы, такие нежные, узорчатые, иногда в звездочки, иногда в маленькие кружевные пушинки. Снег – это не просто слово, к которому ты привык, это нечто изумительное, хотя бы по белизне своей, — дар самого неба, пойми, — дар Божий…
Итак, пришла эта река с каких-то высот, увенчанных древней думою горных вершин и древних, древних утесов, вечных в своей неподвижности, неистощимых в терпении. И вот, течет эта река синими лесами, зелеными полями, иногда через пустыни и болота, но всегда к морям безбрежным, всегда к глубинам бездомным, иногда в лоно изначальных, молчаливых пустынь Северного Океана, иногда в бурные пучины Океана Южного, Великого. И там найдет река покой свой в радостном соединении со стихией вечности, с величием непреодолимых океанских сил…
Кто же так мудро повелел и для чего рождаться, вечно течь и исчезать неисчезаемо-великим рекам? И о чем и для чего слагаются эти неприятные и красноречивые сказания вечно-живых и чудодейственных вод? Неужто только для того, чтобы мы, люди, населяющие берега этих жизнедавческих текучих вод, даже не замечали этого явного, великого, дающего нам жизнь чуда?.. Ты слышал ли меня?.. Не отвечай мне ничего. Если слушал, то молчи теперь и слушай не меня, а этот вечный непрерывный говор водных струй. В них ты услышишь всю разгадку тайны, в них только частица Бытия, частица всей непостижимой, необъятной Жизни, из неупиваемой чаши которой мы с тобою пьем наше дыхание, наши радости и ощущения. Теперь ты слышишь шум речной волны? Теперь ты что-то понял!.. Молчи и слушай долго, жадно и утончи свой слух, пока в течении реки услышишь музыку никогда неслыханных оркестров, бесчисленные хоры, поющие непрерывную и вечную славу Создавшему все величие и чудо жизни…
Слушает ли кто-нибудь надземный и надмирный шумы самой жизни на земле? Погружает ли свою божественную длань в истоки непрерывных человеческих скорбей? Припадает ли чутким слухом к заглушенным стонам, и к предсмертным воплям человеческим? Пытается ли остановить струящуюся кровь из неисцелимых ран?
Кто соберет и в каком безбрежном океане все предсмертные, невыразимые, отчаянные мысли о земных путях жестоких и неправых, ими же преисполнена вся земная жизнь из века в век?..
Но некогда, некогда, некогда помышлять об этом человеку на земле, в часы борьбы его с всесокрушающими огненными волнами в бушующем житейском океане!..
— Следующего!.. Следующего!..
Уже сотни загрязненных ран очищены и перевязаны, но кровь безостановочно струится, пробивается даже через плотные марлевые повязки, сделанные наспех, в неустанной, нервной, механической работе…
Без сна и отдыха, дни и ночи стоит у операционного стола Михайлов. Губы его запеклись от напряженного молчанья. Скуп его язык на слово и резок голос в коротких, суровых приказаниях своим помощникам, сестрам и санитарам… Он перепутал имена их, позабыл их лица. Не слушает вопросов, не относящихся к его работе:
— “Переполнены все бараки. Можно ли эвакуировать часть раненых?”
— “Только что попал снаряд в летучий транспорт. Младший врач и две сестры тяжело ранены. Можно ли туда направить только что прибывших в отряд новых сестер или кого-либо из…”
— Делайте! Делайте! – резко успевает крикнуть доктор, не давая кончить вопроса и возлагая этим всю ответственность на инициативу вопрошающих.
Выделяются две опытные сестры из отряда, заменить в летучке выбывших, а в операционную, одна после другой, вступают новые.
Обе сестры появились в сутолоке первого наплыва раненых, только накануне. Прибыли и стали на работу, обе из разных отдаленных частей, опытные и бывалые. Только с одной из них, у старшей сестры, графини Буккениг, произошло недоразумение. По долгу старшей, графиня позаботилась дать сестрам их уголки для отдыха и частной жизни, а по женской слабости, в отсутствие сестер, заглянула в их помещение и на столике одной из них, в виде закладочки в маленьком Евангелии, увидела поношенную Георгиевскую ленточку. Зоркий взгляд графии сразу заметил, у которой из сестер на борту кожаной тужурки, остался знак от отпоротой Георгиевской ленточки.
Графиня ласково спросила, как бы мимоходом:
— Имеете Георгиевскую медаль?
Сестра смутилась. Она тщательно затерла пятнышко, где была ленточка. И виновато ответила:
— Да, имею…
— О! – неопределенно вырвалось у старшей сестры, и подозрение ее усилилось.
Сестра почуяла эту подозрительность и более спокойно созналась:
— Медаль и крест имею…
И еще более забеспокоилась графиня. Были уже случаи, когда санитары и сестры, во время отпусков, украшали себя крестами, снятыми с убитых, истинных героев.
— Откуда же у вас Георгиевский крест, сестра? – уже не скрывая свое неприятное чувство, допрашивала старшая сестра.
— От государя императора… — ответила сестра, подавляя в себе волнение обиды.
— От государя императора?! – саркастически произнесла сестра.
— То есть получила я его от корпусного командира, но при указе государя…
Сестра при этом мягко и красноречиво улыбнулась.
– Показать вам указ?.. Он всегда при мне.
Графиня вспыхнула не только от стыда. Подозрительность ее моментально перешла в восторг перед простотою благородства этой девушки.
— Почему же вы не носите креста?
В больших, темно-серых глазах сестры заискрилась невыразимая печаль, но темные шнурки ее бровей искривились, обнаружив скорбную подробность:
— Вот сами видите…. Не всегда это удобно. Люди все такие маловерные…. Да и на работе легче быть простой работницей.
Графиню это тронуло до слез. Она схватила голову сестры и поспешно и нежно поцеловала ее в розовый и красивый лоб.
Они стояли по соседству от операционной, из которой голос хирурга прозвучал трижды:
— “Следующего! Следующего! Следующего!”
Это повторение всем было знакомо. Если доктор просто говорил: “следующего” – это значило только то, чтобы вносили следующего на операционный стол. А если повторялось это слово, то второе слово повторялось громче, и это значило, чтоб спешили. Но когда это слово повторялось в третий раз и еще громче, — это значило, что никто в отряде не имеет права где-либо стоять, сидеть, болтать и быть без дела.
Обе сестры бросились на этот окрик, каждая к своему посту, на неотложную и важную работу.
У графини не было еще минуты узнать и запомнить имя новой сестры, столь взволновавшей ее, настоящей героини.
Имя этой сестры было: Августа Серкова. На этот раз она знала, куда и зачем ехала. Но страдная, горячая пора в отряде, ни в первый день, ни во второй, не позволяли ей даже расспросить кого-либо, где именно находится Василий Чураев. И было страшно что-либо узнать такое, отчего весь смысл ее исканий и волнений мог обратиться в безнадежность. Да и никому другому в голову не приходило выделять свое внимание к судьбе одного, хотя бы и известного всем, человека.
В первую же ночь после приезда Августе было поручено дежурство в бараке тяжело раненых. Переходя от койки к койке, она и не подозревала, что один из безнадежно агонировавших, человек с остриженной бородкой и бритой головою, сплошь обмотанною повязкой, есть не кто иной, как именно Василий.
Да и в операционной он прошел только под знаком человека, которому сделана одна из наиболее удачных трепанаций черепа, и из рук которого был с силой отнят облепленный кровавой глиной небольшой пакетик. Так как при раненом не оказалось документов, то механически или по недосмотру, пакетик не вложили в узелок со снятой с него одеждой, а сунули под соломенную подушку на носилки, для установления имени и составления скорбного листа.
Транспортные санитары постарались замолчать неприятный для них случай о том, что по их недосмотру этот раненый только случайно был спасен от погребения в братской могиле…
Пакетик писем, своим грязным видом, обратил на себя внимание сестры, когда она, в глухую полночь, наполненную стонами агоний, поправляла подушку под головой больного.
Августа сначала отложила пакет в сторону, а потом непроизвольно развязала ленточку, сняла запачканные, верхний и нижний, листки и взгляд ее быстро прочел несколько нежных строк восторженной, неопытной любви… Она посмотрела на бескровное лицо больного и грустно улыбнулась. Нежность писем так не отвечала виду человека, получавшего такие послания. Лежавший перед нею не был ни юношей, ни красавцем…. Но всякий для кого-то – “не по-хорошему мил, а по милу хорош…”
На следующее утро имена всех раненых, по их документам, были восстановлены, кроме одного. Имени на скорбном листе Василия Чураева не было поставлено. Зато в тот же полдень в столовой, между прочим, — так как все спешили кушать, и за столом были не все, а кое-кто поочередно, с опозданием и в беспорядке – прозвучало:
— Помните Василия Чураева? “Прохожего?” Корреспондент “Русских Ведомостей?..”
Отозвалась хорошенькая Деточка, самая молоденькая из сестер:
— Конечно, кто его не знает! А что?..
— Убит. Сегодня в приказе по дивизии – в три страницы список убитых объявлен…
В дальнем углу длинного стола перед стоявшею возле него новой сестрой упала на пол и загремела эмалированная тарелка… Никто на это не обратил бы особого внимания, если бы сестра сразу подняла тарелку. Но сестра наклонилась и осталась на полу в неловкой, сгорбленной позе. Правая рука ее опиралась о пол, а левая держалась за сердце, которое зашлось, и вся кровь из головы бросилась ему на помощь… Голова сестры повисла, отбросив в сторону косынку и вместе с ней густые волосы. Обнажившаяся тонкая шея тронула присутствующих своею белизной и беспомощной нежностью…
— Сестра! Что с вами?..
— Дайте воды!.. Она в обмороке…
— Не мудрено!.. Всю ночь дежурила у безнадежных…
Подняли ее и понесли… И на щеках увидели крупные, еще бегущие к бледным и дрожащим, полураскрытым губам слезы.
Так никто и не узнал об истинной причине обморока.
… Так и разминулась бы она опять с Василием, если бы не совершилось чудо.
А что такое чудо? Сверхъестественный, выходящий из законов природы, случай, или это то, естественное и основное в жизни, к чему еще не мог привыкнуть, замкнутый обыденностью, ум человеческий? Или самый истинный закон жизни и есть истинное чудо, самое естество, к которому стремится всякое сердце?..
Оставим всякие гадания, когда разгадка не укладывается в порабощенное сознание…
… Так или иначе, пусть случайно, на следующий день, под вечер, оправившаяся от тяжелого удара, — он ведь не был неожиданным, — Августа снова оказалась на дежурстве в том же помещении, где лежал Василий.
Лучи солнца, перед закатом, заглянули в дощатый барак, в котором пахло дымом от примитивных печек. С запада, вместе с этими лучами, доносились звуки канонады. Там разгорался новый бой. Наплыв раненых продолжался. Ни сестер, ни санитаров не хватало для разраставшейся работы, и Августа должна быть на своем посту. Она отстаивала каждую минуту жизни для порученных ее уходу обреченных к смерти.
Переходя от койки к койке с камфарой и шприцем, она подошла к Василию в ту самую минуту, когда луч солнца осветил его лицо. Впрыскивая камфару в грудные мышцы, она заметила, что не камфара, но яркий луч солнца вызвал к жизни кровь в его лице. Красным пламенем ударило в потухшее, оглушенное и ослепленное сознание безнадежного, хотя и благополучно оперированного человека. Видно было, что не прозревшим, еще открытым глазам его захотелось уйти от этого пламени и не видеть удушающего красного тумана, в котором он бессознательно блуждал уже три дня…
Сестра и сама была в тумане. Она всего ждала, когда приехала сюда, и все-таки была пьяна от испитой чаши отчаяния: Василий убит, и вся возросшая за эти годы любовь к ее идеалу – беспомощно поникла у его креста… Но привычный взгляд ее заботливого милосердия к такому же распятому угадал борьбу закрытых глаз с пламенным копьем чудесного луча.
Она насторожилась и соображала: прикрыть ли лицо от луча солнца или дать ему возможность продолжать его возбуждающее действие.
Внимательно посмотрела в лицо: не появились ли в нем признаки последних минут агонии? Нет, в лице играла настоящая, живая кровь. В нем появился признак возрождающейся жизни.
Притронулась рукой ко лбу. Лоб тепел, даже горяч. И вдруг заметила: дрогнули на закрытых веках и медленно открылись… Белки глаз красные, но в них есть признаки сознания.
— Ну, как вы себя чувствуете? – прозвучал ее низкий и глубокий голос.
Ответа нет, но глаза смотрят зорко… Понимает ли?
— Как вас зовут? – еще пытается спросить сестра, обрадованная, что раненый определенно реагирует на прикосновение.
Он не отвечает. Он не понимает. Он не слышит.
Она садится на край его койки и берет его руку, щупает пульс. Пульс дикий: то порывистый и частый, то падающий до полной тишины.
Но глаза смотрят, зорко смотрят… В них стоит еще красный, густой туман, а в тумане горячечный бред и поражающее искушение. Видение или сон.
Запекшиеся, бледные губы его раскрываются, но голоса нет, и слово остается непроизнесенным. Веки снова тяжело закрылись и из-под них выбрызнули две слезинки.
Что-то понял… Значит, есть сознание.
Сестра встает, бежит позвать врача. Повязка пропиталась кровью. Но врачи все заняты. На зов приходит старшая сестра. Августа докладывает:
— Этот оживает. Надо ему сделать внеочередную перевязку… Я могла бы сама, но у него трепанация и я не решаюсь…
Она, конечно, может. Тысячи прошли через ее руки более труднейших. Но она здесь новая, нужно соблюсти порядок, и нужно поспешить.
Графиня напряженно всматривается в лицо больного… И вдруг сама с собою произносит:
— Да это же… Прохожий!..
И выбегает в операционную сказать об этом невероятном открытии старшему врачу, который, несмотря на занятость, удручен известием о гибели Василия.
— “Прохожий!” – как эхо повторяет Августа и склоняется к лицу больного медленно и близко.
И снова перед самыми ее глазами раскрываются его глаза…
В них нет еще улыбки, в них нет еще полного сознания, но сквозь завесу красного тумана глаза эти нечто увидели… Быть может, не поверили, быть может, не хотели верить, но увидели в волнах тумана некий облик, вероятно плод агонии, быть может, призрак смерти, но такой чудесный, такой невероятно-фантастический облик…
Мысли у нее остановились. Но сердце точно также, как когда-то, на платформе Барнаульского вокзала, когда он был в цепях неволи, на морозе, под конвоем, повергло ее перед ним на колени… Теперь он был в иных цепях, в костлявых лапах смерти…
И, наклонившись, зашептала ему в ухо, через окровавленную марлевую повязку:
— Вы слышите?.. Вы понимаете?.. Это я возле вас! Гутя!
И капли слез ее упали на его лицо и смешались со слезами, накопившимися в его глазах.
Все понял. Едва движущейся рукою, слабо тронул ее пальцы.… Но видимо, не слышал ее слов и сам не говорил…
В безумной радости и в неизбывной скорби припала Августа к его груди. Обхватила его плечи, ощупывая его руки, как бы спеша вырвать его из неумолимых когтей смерти…
Вошедший, дежурный младший врач (старший врач был безотлучно занят операциями) и старшая сестра-графиня, остановились в недоумении перед этой странной сценой…
В глазах графини застыло непонимание, которое, впрочем, рассеется лишь завтра… Не потому, что она кое-что узнает о судьбе новой сестры, а потому, что ей завтра в полдень, по телефону, сообщат о том, что поручик Голимонт убит. Только вестник смерти на пороге безнадежности безмолвно разъяснит графине, как сильна любовь у пределов смерти.
У пределов даже давно-данной, давно-выстраданной смерти любимого, — весть о ней поражает именно своей нежданностью…
На крыльях снежной декабрьской метели принеслась эта весть в заснеженную снегами алтайскую деревню, где жила с детьми Надежда Сергеевна Чураева.
Письма и газеты приносил ей из сельской сборни десятский дважды в неделю – по средам и субботам, прямо в школу. А на этот раз его смешная шапка из собачьего меха мелькнула мимо окон в полдень, во вторник.
В школе еще не улеглась пыль от большой перемены, но дети уже все сидели на местах и особенно затихли, когда десятский остановился у порога и, видимо, не знал, что сказать.
Надежда Сергеевна тоже замерла на месте в ожидании. В руках у нее был раскрытый учебник и кусок мела.
Десятский не сразу снял шапку и не сразу откашлялся. Но и откашлявшись, не сразу произнес:
— Неладно дело-то у нас, Сергеевна!.. Новости-то я тебе принес неладные…
Надежда Сергеевна прежде всего посмотрела в сторону Коли и Наташи, сидящих в разных местах. Потом быстро подошла к десятскому.
— Вот тут, в газетах пропечатано… — сказал десятский и достал из-за пазухи помятый листок Барнаульской газеты…
— Хорошо… Иди, Данилыч! – быстро сказала учительница и дала понять десятскому, что больше говорить нельзя… — Дети, тише!.. Тише! – повторила она упавшим голосом, хотя все дети сидели так тихо, что слышен был шелест метелицы за окнами…
Она не смела развернуть газету. Она не знала, как вести себя перед детьми, но она все поняла. По лицу десятского все угадала. В газете был уже отдельный некролог о Василии Чураеве, но Надежда Сергеевна не будет знать о нем до вечера… Ибо до вечера она останется на своем посту, в школе… Ибо быть среди сорока трех мальчиков и девочек ей легче… Ей легче не глядеть в лица Коли и Наташи, не отвечать на их тревожные вопросы и вообще не быть одной со своей одинокой, заметенной снежными метелями, искалеченной жизнью…
А когда настанут сумерки, а за ними долгая, зимняя ночь, метель за окнами ее домика будет бесконечно завывать, стонать и рыдать от последнего, смертельного отчаяния… Но у Надежды Сергеевны не будет слез… Они соберутся удушающим комком в ее груди, и никто не будет видеть и считать, сколько новых седин появилось в эту ночь в еще густых, еще молодых и длинных ее косах…
И даже, когда, через неделю после этой скорбной вести, придет другая весть, подписанная неизвестной сестрою милосердия, о том, что Василий Фирсович Чураев жив, хотя и тяжело ранен, Надежда Сергеевна не поверит в чудо. В сердце ее не будет ни радости, ни веры. Все истребляющее пламя скорби пожрет ее сердце, испепелит все ее радости…
Я знаю: ты устал, мой друг, от тяжелого и долгого повествования… Что делать? – Это только капля мелкая из океана грозной правды, совершающейся на земле… Все самое тяжелое и страшное, все, что страшнее телесных ран и самой смерти, еще впереди…
Ты хочешь знать: каков конец всей этой сложной, затянувшейся, печальной одиссеи? И будет ли какая-либо радость?..
Ответ на это прост: было бы еще печальнее, если бы все реки вдруг остановились или высохли, а у чуда, неустанно-призывающего мертвых к воскресенью, а живых к познанию вечности, — был бы какой-либо конец… Ибо истинное чудо, творящее все радостное во вселенной, есть чудо явное и непрерывное, доступное каждому из смертных, но не каждым познаваемое. Но путь к нему все тот же, скорбный и тернистый, — путь Любви и жертвы, Крестный Путь.
Ты с нетерпением ждешь еще ответов на возникающие у тебя вопросы. Это хорошо, мой друг, что душа твоя еще не напиталась сказанным. Но будь внимателен к ответам и терпелив в ожидании. Будь внимателен и чуток к течению многоводной, несмолкаемой и полной вечными сказаниями реки жизни. Ибо придет и для тебя пора, когда неустанное, нелгущее, идущее безостановочно вперед Время в живых, действительных явлениях поведает тебе все по порядку, не спеша.
Но научись поверить в чудо жизни — научись по-настоящему любить. Тогда перед тобой откроются безбрежные, иные, полные чарующих симфоний и баллад океаны бытия непреходящего.
Ты хочешь знать, кто я, дерзающий давать тебе советы?
Я – ветер, пролетающий и помогающий забыть все то, что смертно, ибо я – движение. Я – крылья вечного полета времени.
Я – ветер, ни утомления, ни отдыха не знающий…