Г. Д. Гребенщиков
ЧУРАЕВЫ
Т6
ОКЕАН БАГРЯНЫЙ
XII
БАЛЛАДА ВЕТРА
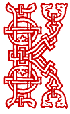 то знает тебя, Русская Земля? Кому знакома вся печаль твоя, накопленная с незапамятных времен? Припадет ли кто к душе народа твоего, душе дремотной и мятущейся, унылой и восторженной, безбожной и богобоязненной? Прислушается ли кто-нибудь к биенью сердца его, чтобы измерить все его печали и надежды, всю глубину его вещих дум?
то знает тебя, Русская Земля? Кому знакома вся печаль твоя, накопленная с незапамятных времен? Припадет ли кто к душе народа твоего, душе дремотной и мятущейся, унылой и восторженной, безбожной и богобоязненной? Прислушается ли кто-нибудь к биенью сердца его, чтобы измерить все его печали и надежды, всю глубину его вещих дум?
Где те богатыри, которые, припавши ухом к родной земле, могли учуять-угадать, откуда собирается гроза-опасность, куда направить щит или призыв о помощи?
Никто не ведает, никто не чует ни грядущих дней и лет твоих, ни прошлой, древней, травой забвения поросшей были.
Как свет и тень, как день и ночь, сменяются века и судьбы. Как мимолетный ветер дух твоих народов: сегодня ласково целует каждый листик, а завтра, разразившись в бурю, с корнем вырывает целые леса.
То влажный, то сухой, то холодный древний путник-ветер несется через горы и леса. Все тот же многокрылый и невидимый бродяга, гуляет по земле без цели и без останову. Все тот же, что и тысячу годов назад, своенравный странник, несет он влажную прохладу с севера на юг, чтобы оплодотворить жаркие степи, по которым кочевали некогда отважные на коне и искусные на охоте Скифы. А с юга гонит он тепло на север, чтобы обогреть дремлющие подо льдами реки и озера, на берегах которых некогда в непроходимых девственных лесах ютились древние Славяне и позабытое, таинственное племя Чудь. Только ветер видел, как это племя чудаков с появлением белых берез на их земле и в предчувствии периода великих бед, всем народом добровольно умерло под тяжестью своих курганов.
Вздохнувши над курганами далеких северных степей, взмахнет крылами ветер и, развернувши их, мчится одновременно на Восток и на Запад, на хребты Урала и на отроги Карпат. Но, натолкнувшись на суровые хребты, остановится, и притихнут неуемные Пегасы и припадут к долинам мирными гонцами. И ждут, пока через великие равнины с азиатским посвистом примчатся новые гонцы с высот Алтая, Гималаев и Памира. И грозен и суров их спор на грани Азии и Европы, на ребрах древних гор, хранящих золото, алмазы и камни-самоцветы.
Так носится, гуляет, кружится в полетах над просторами Русской Земли ветер, вечный в непрерывности дыхания и многообразный в силе и полетах, бессмертный русский витязь, свидетель нелицеприятный всех времен, гонец и вестник всех народов. О, если бы понять все непрерывные, настойчивые шепоты вечного бродяги, которые улавливают лохматые лапы многовековых кедров, сосен и дубов? Если бы подслушать, какие сказы сказывает он дрожащим под его дыханием, высунувшимся из-под снегов прошлогодним степным ковылям? Какие сказки и преданья о неисчислимых древних поколениях и безвестных судьбах навсегда исчезнувших племен можно бы услышать в этих шепотах! Какие скорбные баллады, какие звучные былины об ушедших в тьму веков народах поет-рассказывает никогда не умолкающий гусляр! Лишь он один мог бы поведать правду о том, как и из каких племен сложился, вышел, чему радовался и из-за чего страдал народ, населяющий ныне российские просторы. Лишь он один мог рассказать, когда и где и почему сложили свои кости, на каких полях, в каких сражениях бесчисленные русские богатыри.
Да, да. Один лишь ветер знает тебя, Русская Земля. Один он был свидетелем твоих судеб в далеком и недавнем прошлом. И он один развеет, унесет в немое прошлое сегодняшний твой страшный час. И он же в трубном гласе бурь и громов возвестит о Суде Божием над всеми ста племенами, которым суждено изведать ужас и отчаяние в земном аду, во власти огненно-кровавых океанов, опрокинувшихся на тебя с недосягаемых высот и из глубин бездонных…
* * *
На исходе уже и второй год великой мировой войны.
Как листья осенью, собранные бурей в неисчислимые серые толпы, идут, несутся, западают в бездорожьях и вновь, покорные напору ветра, идут, ползут, бегут все новые и новые бойцы, офицеры и солдаты, запасные и ополченцы, окопные рабочие и разных специальностей нестроевые люди на поля сражений.
— Первая рота, повзводно… Шагом марш!
— Четвертый взвод – по отделениям… Правое плечо вперед… Азь, два!..
Ветер вырывает из-под сотен ног серо-желтую пыль суглинистой галицийской земли, и весь батальон уже на ходу в окопы весь дымится от земли.
— “Кто из всех идущих обречен?”
— “Все обречены. Только сроки разные у каждого из обреченных…”
Вот взводный командир, старший унтер-офицер Онисим Агафонов, украшенный двумя Георгиевскими крестами, был обречен уже много раз. Но посмотрите, как он молодецки повернулся грудью к взводу и, пятясь мелкими шагами, открывает шествие в самый опасный сектор траншей. Над ним уже пронеслись многие вихри раскаленной стали... И все-таки судьба его спасает еще от многих ураганов смерти. Но он этого не знает. Он забыл об этом думать. Он равняет шаг своего нового взвода, чтобы и самую опасную минуту все его солдаты встретили в строгом боевом порядке, по уставу…
— Равня-айсь!.. Азь-два!..
Новички унтер-офицеры, а там фельдфебель и сам ротный – еще пороха не нюхали.
— Не робей. Смелого и смерть боится.
— Азь, два! Три, четыре!..
В задних рядах шаги еще на месте. Порядок передается из первых рядов, от команды сибиряка-героя.
Но вот пошли и задние. В каждом всплеске высветленных, не бывших в употреблении штыков движущейся массы люди кажутся не люди, а сплошная, серая и длинная фаланга мизгирей, кругловатых и коротконогих, с горбами ранцев, с выпуклостями шинельных свертков через плечи и груди. На походе в чужой земле в бесснежном октябре с такой поклажею не холодно. Не холодно и потому, что под защитными цветами одежд в теле каждого струится теплая кровь, бьется сердце, глубоко забирают воздух легкие.
Вот дошли до линии окопов. Все ладно, все спокойно. В сумерках будто никто не видит, не стреляет. Нигде дымков не видно, даже и над линией противника, хотя видны окопы, покрытые тем же небом, той же тишиною.
Нырнули в первые ходы сообщений, один по одному, пошли гуськом. Здесь безопасно. Здесь можно пригнуться и при помощи зажатых пальцев высморкаться; здесь можно и с соседом слово молвить, шапку на затылок сдвинуть. У некоторых лица по-детски морщатся, в беззлобной ругани от сердца отпадает камень первого страха, и раздается смех от пустяковой шутки.
— Передайте там: не голготать!..
Стихают, но от этого еще смешнее.
— Ничего… Не так черт страшен…
— Жить можно! – острит бородатый ополченец, закуривая папироску.
И под каждою винтовкой, под каждой саблей фельдфебеля, под халатом санитара, под фартуком кашевара начинает ровнее биться настоящее, мастерски устроенное человеческое сердце, без особой мудрости и знания умеющее тонко чувствовать, надеяться, безмерно верить и нежно, до самозабвения любить. И за каждым позади осталась паутинка, сплетенная хитроумным узором из каких-то дел, добрых и недобрых случаев, непоправимых огорчений и незабываемых услад. Нет такого человека, даже глуповатого, даже урода, который бы не чуял материнской ласки, плача ли дитяти, трепета ли нежных лепестков цветочных, запаха ли распустившийся черемухи весной, а тем более стыдливых первых поцелуев юной девушки или последних безудержных слез прощания родимой матери.
В каком же хитро-сложном, непостижимом никакому разуму сплетении спутались все эти паутинки, протянувшиеся от всей многомиллионной армии через сотни и тысячи верст, уходящие во все углы и города и села русской земли?..
Быстролетная всепроникающая память даже лошадей через много лет приводит к прежнему двору, где когда-либо хоть раз кормили их овсом или сеном. Даже собака может через сотни верст перебежать и отыскать следы своего хозяина. Как же человеческой памяти не помнить теплой ласки, запаха родных полей, уюта под родною кровлей? И чем меньше было ласки и уюта, чем реже были часы услад житейских, тем острее жажда испытать их снова.
И так легко все это потерять, порвать все паутинки, разорвать узоры дум и погасить самое сердце – один удар, одна шальная пуля, один горячий кусок стали… А тут еще откуда-то, через чье-то одно чуткое или глухое ухо кто-то нашептал, что не один, не два, а все обречены, что всей дивизии грозит обход, окружение врагами…
И нависает пропасть обреченности над всеми. На каждое сердце наваливается камень безнадежной и парализующей тоски…
* * *
Привык к молчанью и Сила Крохин. Сама судьба подшутила над ним: имя его – Сила, а фамилия Крохин. Сколько раз сидел в окопах, а даже выстрелить ни разу из винтовки не пришлось. А три зуба случайно пулей вышибло, и то не душевредно: в нестроевые снова взяли. За отменное терпенье, крепость и старанье угодил к батальонному в денщики. И тут сразу понял, что даже слушать должен только то, что относится к его обязанностям… А все, что говорят в его присутствии господа офицеры, привык не слушать и не понимать. И так он честен в этом даже сам перед собою, что приучил себя не слышать и не понимать все то, что и офицеру говорить не полагается. Привык быть бестолковым всюду, где хотят его поймать в толковости…
— Ну, как, Сила, пойдем на неприятеля или лучше будем делать замирение? – спрашивает его полковой доктор, только что вернувшийся из отпуска и сидевший за столом в землянке батальонного командира.
Сила Крохин, озабоченный изготовлением обеда для четырех офицеров, вытягивается и моргает не понявшими глазами:
— Не могу знать, вашескородье!..
Доктор безнадежно машет рукой и решает, что все многочисленные Крохины и Терехины скроены на одну бестолковую колодку и при них можно не церемониться болтать нелепости и всякий вздор; при них не грех посплетничать о сестрах милосердия из соседнего земско-городского лазарета; не грех сболтнуть о легкой попутной победе над случайной женщиной в прифронтовом городке. Для красного словца можно безнаказанно ругнуть штаб армии и даже рассказать забавный анекдот из жизни самого верховного главнокомандующего.
— Вчера мне сам дивизионный говорит… — болтал полковой доктор после пятой рюмки рябиновой и прервал себя на полуслове: – Откуда ты, Володя, такую сногсшибательную наливку достаешь?.. Ведь это, брат, не хуже крымских вин из погребов самого верховного… Кстати, — уклонился он на мгновение еще в один изгиб своей подогретой мысли, – в Москве я слышал, что крымские вина не подлежат закону о трезвости. Их могут пить решительно все, кто понимает толк в тонких винах. Особенно люди столичные. А кто не знает толку, тому и сивуха запрещена!.. Протяни-ка мне, Володя, еще вот тех з-замечательных сардинок… Да!.. Так генерал рассказывал мне з-забавнейшие анекдоты из жизни самого глубокого тыла, то бишь из ставки верховного… Ну, о том, за что отправлен на Кавказ великий князь Николай Николаевич, всякая безрогая скотинка знает.
— А именно? – строго спросил батальонный.
— Как? Ты не знаешь?
— Потому что я не всякая скотинка…
— Ну, вот и обиделся!.. Ну, ты меня прости… Давно тебя не видел и забыл, что ты – образец рыцарства. Но радуюсь, что ты уже в чинах и орденах и в тридцать лет будешь командовать дивизией…
— Ну, ну, довольно. Расскажи лучше, за что смещен великий князь. Это интересно.
— Ну, ка-ак же! Это предание уже не так свежо и верится в него без всякого труда. Его хамское степенство, “друг” августейшего семейства, изволил пожелать приехать в главную ставку и дать какой-то “государственный” совет верховному главнокомандующему. Телеграфирует… А Николай Николаевич немедленно по телеграфу отвечает: “Приезжай. Двоеточие. Выпорю”.
В общем смехе занятых едою офицеров затерялся невольный кашель Силы Крохина. В этом кашле Сила прятал свой внезапный смех. Не слушая, — услышал, не смея понимать, — все понял. И еще лучше понял, когда доктор, уже полушепотом, на этот раз с косой оглядкою на денщика, рассказывал:
— А в Петербурге члены Думы открыто говорят о том, как в Царском Селе генеральша Курнаковская… Кажется, начальница епархиального училища, демонстративно не пожелала поклониться государыне! И все это из-за “друга” августейшего семейства…
Как-то нехорошо стало Силе Крохину.
— “Как так господин доктор может выражаться об августейшем семействе? И какой такой “друг”? Неужели и “там” есть что-либо такое, непотребное?..”
С самых малых лет в крестьянской семье у Силы Крохина портрет царя с царицею находится в красном углу, рядом с божницею… Не хорошо, что понялось такое неподходящее понятие. Лучше бы совсем не понимать.
И Сила кашляет, в самом себе старается закашлять, загасить неладные догадки. Для облегченья он выходит из землянки к кипятильнику, за кипятком для чая. Но кипятильник не кипит. Надо немного обождать. И, как назло, здесь Сила слышит разговор о том же, только в другом, простонародном толковании:
— Хм… Конокрад! – кого-то передразнивая, ворчит кашевар, вытирая красные руки о свой фартук и сердито взбуривая на стоявших перед ним солдат с котелками. – А кто его поймал? У нас завсегда: ежели человек из мужиков выбился в люди, то ему на шею беспременно ботало навяжут… Коли б дурак аль конокрад — в царский бы дворец не допустили. Там, небось, не дураки сидять. Туда вон генерала не всякого впускають… Коно-кра-ад!..
Один из слушателей, малорослый бородач, размахивая чайником, поддакивал кашевару:
— А как ежели наш брат, мужик, значить, к восударю доступил, и восударь не хотить прогнать его, стало-ть, и восударь теперича не хорош…
— Знамо, откуда ветер дует, — мрачно подхватил высокий и худой детина, с саратовской ленцой произнося слова. – Мужик дошел до царя ходоком и просит насчет замиренья, а “оны” опять же на царя да на царицу: дескать, царь с царицей “сепаратного” хотять...
Кашевар, поддержанный “своими”, не видя никого “чужих”, уже смелее заключает:
— Вестимо, што “воители” его хотят избыть. Царицу, сказывают, энтот приклонил на замиренье, а восударю дядья правов не дают. Оттого и из дворца на фронт присогласили. Даже с царицей, сказывают, не поладил. А у царицы сердце женское, ей жаль усех…
— Понятно, нашего брата “им” не жалко, — добавляет мрачный саратовский детина.
Сила Крохин молча нагибает голову, цедя кипяток, и уходит с чайником, как с гирей. Тяжел ему стал чайник. Нехорошо и люди говорят. В сумленье вводят, а без толку. Все равно – прикажут умереть, и все на смерть пойдут.
— “Не наша тут воля, — думает про себя Сила, — и не ихная, а, стало, Божья”.
Вот как обернулась “гиря” в землянке батальонного. Хорошо, что есть на Кого всю тяжесть навалить, — на Бога…
— “Он там лучше разберет, где правда, где кривда!”
И взаправду, Сила потерял понятие. Командир к нему подходит, улыбается:
— Ну как, чаек готов?
А он в ответ:
— Не могу знать, высокородье!
— Как не можешь знать? Ты ошалел?
— Так точно… Никак нет! – спохватился сбитый с толку собственными думами денщик.
В землянке наступает тишина. Офицеры смотрят на него со смехом. Что-то неладное с солдатом, хотя через густые черные китайские усы его видны две щербины выбитых пулей-дурою зубов. Значит, Сила улыбается, невинен в дерзости. Но что-то у него в башке перевернулось.
— Выпил? – тихо, но сурово наплывает на него начальник с грозой в глазах.
— Никак нет!
И еще мягче, тише, не поедая, но умоляя глазами, повторяет:
- Никак нет, ваше выскородье!
И гроза проходит. Начальник у него хороший, за год службы распознал его: молодой и храбрый, только что в подполковники произведен. Он сам уже смеется и решает за примерного слугу:
— Ну, значит, выпить захотелось!
— Никак нет! – громче говорит денщик.
Но батальонный взял уже бутылку и большой чайный стакан и в том же тоне денщика приказывает громко:
— “Так точно!” – говори!
— Так точно! — браво, готовый за улыбку своего начальника на все, кричит солдат.
— Ну, то-то! Пей!.. До дна-а!..
Переглянулись офицеры. Решили “накачать” совсем непьющего солдата. И Сила не перечит. Почему не потешить господ офицеров? Умереть готов, а выпить? Почему не выпить? И выпил Сила одним духом. На них будет грех, а на Силе пусть будет смех…
— Сила! От меня рябиновки! – предлагает доктор.
И батальонный не дает даже откашляться.
— Крохин! Не подгадь! До дна-а!..
Не сразу, не через минуту одурел Сила Крохин. Он крепился и еще служил возле стола как мог. Но потянуло его к кипятильнику. Потянуло, как клещами, взявшими за сердце и за голову. Вышел и услышал, как кто-то из обозных буркнул в сторону землянки, из которой несся звонкий офицерский смех:
— “Только и делов им: выпил да еще!”
Мирный, безобидный Сила Крохин вдруг забушевал:
— Как ето ты так можешь выражать? А ты знаешь, сколько пуль в их попадало, а? А я за них и свою кровь могу выпить, а?
И он рванул себя за грудь так, что пуговицы от гимнастерки полетели прочь, ударившись о бок железного кипятильника.
— Как можете вы воинство мутить? — набросился Сила на кашевара. – Как можете такое про царскую семью мне сказывать?
И остальные пуговицы полетели в другую сторону. Сила качнулся, задел пустое ведро, громыхнул через него, но не упал, а вдруг заплакал, громко, с провизгом, как будто у него скопилось множество невысказанных, невыносимых обид. Он так ревел, так убивался, что возле него собрались солдаты, и, тормоша и утешая его, все тише говорили меж собой, все чаще и обиднее оглядывались по сторонам, пока, наконец, все затихли над замолкшим, потерявшим речь и мысли Силой.
* * *
Хорошо выпили и зашумели в дружеском, но громком споре офицеры в гостях у батальонного.
Батальонный командир, зная, что через три дня начнется наступленье, позволил себе выпить лишнего, чего никогда не позволял перед прежними боями. Мысли его тоже прыгали и не держались за одну идею. “О чем, бишь, идет речь?.. Ах, Сила Крохин перепился… Слаб. Верно. Нет, он не слаб!”
— Вот, вот, вот!.. Постойте! – высоко поднявши руки, начал батальонный. – Да, вот у меня Владимир с мечами… У меня Анна!.. У меня, Владимира Мамонтова, в двадцать восемь лет – чин подполковника по Высочайшему соизволению… Почему? – вдруг крикнул Владимир и немного помолчал, зверским взглядом измеряя всех и дольше всех – доктора. – Потому что всюду около меня был Сила Крохин!.. Он умирал по первому моему слову… Он тысячами умирал!..
Владимир вдруг расплакался, уронил голову на стол, так что доктор должен был сказать:
— Ну вот! Это уж слишком… Много чести Силе Крохину, чтобы из-за него командир батальона плакал…
— Как? – еще сильней вскипел Владимир, перебивая доктора. – Много чести? Нет, мало чести! Ты, доктор, до нутра их не дошел. Ты режешь их до самого нутра, а нутра не знаешь. Ты мастер тело ихнее крошить, а души не знаешь. Ты черепа им можешь починять, а мозга их не знаешь. Ты сердце можешь оживить, но сердца ты не знаешь. А я тебе скажу: вот с этими Крохиными мы можем мир завоевать, пока они в нас верят. Но если же они утратят в нас веру, тогда… тогда Сам Господь с ними все на свете проиграет…
Владимир не слушал возражений, но отвечал впопад:
— А веру в них в ы подтачиваете, в ы, их благодетели, которые хотят им будто бы добра, а сами в душе их презираете… Ой, доктор! Ой, не стучи ты кулаком… Ты обижаться можешь, но ты не понимаешь... Ты не по-ни-ма-ешь!.. А вот… через три дня мы увидим… Мы увидим!..
Владимир запнулся, как будто потерял мысль или мысленно увидел нечто, о чем нельзя было рассказывать…
* * *
Через три дня в темноте ночи весь батальон, отдохнувший и пополненный, был введен в боевую линию.
Рассчитав часы и расстояния и весь порядок наступления, батальонный командир, перед грозным часом боя забывши о себе, думал только о точнейшем выполнении задания и потому был напряженно краток и суров в словах и неумолим и резок в отношении ко всем своим подчиненным.
В тот самый час, который уже наступил, и оставалось несколько минут до начала атаки, батальонный вдруг увидел около себя Силу Крохина.
— Я же приказал тебе оставаться в обозе! — суровая рука тряхнула солдата за отворот шинели. — Сейчас же уходи!
Сила Крохин не ответил, и щербатая его улыбка в темноте была невидима. За то, что он молчал и не двигался, перед его лицом сжался кулак начальника. Сила моргал глазами, но не уходил. Вдруг командир скинул свою папаху и, наклонившись к Силе, совсем некомандирским шепотом сказал:
— Ну, перекрести меня и уходи скорее!..
И когда Сила, ниже командира на целую голову, потянулся к голове батальонного со сложенным трехперстием, батальонный еще ниже наклонился, поцеловал Силу в усатый рот и снова повторил:
— Но только ты не смей ходить за мною! Слышишь?!
Упорно молчал в ответ на это приказанье Сила Крохин. Только отступил на несколько шагов назад.
Спорить с ним уже не было лишней минуты. Атака началась. И тотчас же начался бой. Но знал Владимир Мамонтов, что Сила Крохин идет и припадает в перебежках, и ползет следом, и бежит с ним вместе, на расстоянии нескольких шагов. Ни пули, ни начавшаяся разрываться в воздухе шрапнель не могли остановить или задержать верного соратника, который думал только об одном: а вдруг батальонный будет ранен! Как же можно оставлять его в такой опасный час?
И вот разорвалась шрапнель около Силы. Батальонный должен был продолжать свой путь вперед, но остановился. Не закричал от боли Сила, он только отстал, упав в кустарник. Бросился к нему командир, а в это время новая шрапнель разорвалась именно там, где он должен быть, если бы не отбежал искать отставшего денщика.
Оторвало у Силы Крохина ногу, оторвало наотлет, вместе с сапогом. Корчась от боли, из темноты умоляюще смотрит на батальонного Сила Крохин и прыгающим голосом, стуча зубами от внезапной лихорадки, еле произносит:
— Виноват, вашескородие!..
— Виноват! Конечно, виноват!.. Болван ты этакий! Я говорил тебе: не смей ходить за мной!- ругает денщика батальонный, а сам подхватывает его на руки и через грохот и всполохи боя, под свистом перекрестных пуль несет его в ближайшее укрытие, чтобы не убили окончательно, чтобы передать его санитарам, и на перевязочный пункт…
* * *
Вот этот самый Сила Крохин, выписавшись из лазарета и получив деревянную ногу, поездом добрался до Усадьбы Гостевых по той записочке, которую ему на всякий случай давно уже написал батальонный командир.
Голос Силы звучал ровно, просто, но с остановками.
— ...Убили его в ту же ночь под утро… Мы были еще на перевязочном… Уже всходило солнышко, а его на носилках принесли… Дышал еще… Я кое-как схитрился и подполз к нему. Но он не сознавал меня… В грудь ему, около сердца, вдарило…
Был солнечный ноябрьский день, белый и слепяще-светлый от свежего снега. Вся Усадьба тихо замерла под белым покрывалом. Генеральша и Наташа слушали безногого солдата в одной из малых комнат, куда из коридора доносился резвый детский голосок и смех и слезные капризы. Слушали, а сами ничего не говорили и не плакали. Понял Сила, что они уже знали о печальной вести. Значит, уже раньше выплакали слезы.
И поэтому спокойно, не спеша, просто сказывал свой сказ об убитом командире Сила Крохин. Сказывал и потихоньку плакал. Вытирал мокрым, несвежим платком глаза; щербатою усмешкой, за которой пряталась глубокая тоска, смягчал рассказ и робко взглядывал на молодую барыню и на старую генеральшу, и, помолчав, вспоминал что-нибудь еще. Потому что долго слушали его в этом большом дворце две женщины и, видимо, хотели слушать без конца…
— Вещи их высокоблагородья я уж не сберег… Наверно, где-нибудь в обозе. А может, и утратились… Чужим людям в боях не до того, а мне не привелось в обоз вернуться, — и тонко пошутил при этом Сила над собою: — Своих вещей при мне вот все: солдатский паспорт с чистою отставкой да деревянная нога…
* * *
… Никто не знает тебя, Русская Земля, но это ты взяла их, новых, павших за тебя бесчисленных богатырей, незаметных и безвестных витязей, не знавших о своей несокрушимой силе. Это ты взяла их кровь и плоть и кости…
И не сочтет никто имен всех тех, кто взял на себя крест уродов и калек тебя ради и кто усеял тебя мертвыми костями…
Только ветер, древний следопыт и очевидец, будет вечно распевать о них свою балладу и будет тяжело вздыхать над их братскими и одинокими могилами во всех концах земли.
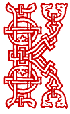 то знает тебя, Русская Земля? Кому знакома вся печаль твоя, накопленная с незапамятных времен? Припадет ли кто к душе народа твоего, душе дремотной и мятущейся, унылой и восторженной, безбожной и богобоязненной? Прислушается ли кто-нибудь к биенью сердца его, чтобы измерить все его печали и надежды, всю глубину его вещих дум?
то знает тебя, Русская Земля? Кому знакома вся печаль твоя, накопленная с незапамятных времен? Припадет ли кто к душе народа твоего, душе дремотной и мятущейся, унылой и восторженной, безбожной и богобоязненной? Прислушается ли кто-нибудь к биенью сердца его, чтобы измерить все его печали и надежды, всю глубину его вещих дум?