Г. Д. Гребенщиков
ЧУРАЕВЫ
Т6
ОКЕАН БАГРЯНЫЙ
X
В СТАРОЙ УСАДЬБЕ
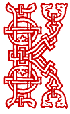 огда приходит большое горе к молодой душе, оно не сразу подступает к горлу, не сразу удушает. Оно, как кошка с пойманною мышью, поиграет со своею жертвой, на минутку отпустит, даст поверить в жизнь, в свободу, а потом опять, играючи, вцепится когтями в мозг и в самое сердце.
огда приходит большое горе к молодой душе, оно не сразу подступает к горлу, не сразу удушает. Оно, как кошка с пойманною мышью, поиграет со своею жертвой, на минутку отпустит, даст поверить в жизнь, в свободу, а потом опять, играючи, вцепится когтями в мозг и в самое сердце.
Молодое существо, попавшее в когти отчаянья, вдруг на что-то постороннее засмотрится, отвлечется даже пустяком и временно забудется.
Стоял холодный, малоснежный, ветреный октябрь.
Наташа Гостева бродила в дальнем запущенном углу старого большого парка, за прудом, где могучие сосны закрывали своей темною стеной весь вид на старое дворянское гнездо. Она шла по белому, не тронутому следами и неглубокому снегу, из-под которого торчали верхушки сухой, пожелтевшей травы, и только одна травинка, похожая на степной ковыль, качаясь под ветром, накивала ей мечту-надежду. За эту именно былинку Наташа ухватилась всею силою своей тоски и не хотела верить в то, что уже случилось и произошло непоправимо, навсегда. И былинка, качавшаяся на снегу от ветра, сделалась значительной и важной в ее жизни, будто в ней одной спасение, точно через эту именно былинку все еще можно поправить.
Наташа вышла в парк по настоянию бабушки. Для этого у бабушки были свои причины. Но уходить из парка в теплый дом она не хотела уже по своей воле.
Как и многие тысячи юных вдов, она, не получая от Геннадия никаких вестей, догадывалась, что он погиб в первых боях потерпевшей крушение армии генерала Самсонова, но не хотела в это верить, тем более что в списках убитых и раненных его имени не находила. Старенькая няня, бывшая кормилица Геннадия, с материнским сокрушением уверяла Наташу:
— Ежели и в списках прочитаешь, не верь, ягодка моя, не верь, лебедушка. А вот гляди, как сокол явится на побывку… — и прибавляла с дрожью в голосе: — И уж, по крайности, в полон попал…
Смотрела на былинку Наташа и цеплялась за мечту-надежду: вот она вернется в дом, а там письмо от милого из плена на столе лежит…
Кивала из-под снега тонкая былинка и будто подтверждала робкую надежду:
— “Придет весна. Зазеленеет парк. Взойдет, поднимется от тех же корней густая, новая семья травы…”
Не думалось о том, что старая-то, сухая былинка уже не оживет, не зазеленеет, а о новой думалось с улыбкой.
— “Новая былинка будет, новый росток будет!”
За этот-то росток скупая на слова генеральша и прониклась строгою заботой к Наташе. Стала тише в голосе, мягче в жесте, ласковее в слове. Непреклонно-гордая столбовая дворянка каждый день после обеда наказывала ей, как родной дочери:
— Подь-поди, голубка, погуляй по воздуху. Нужно это тебе, нужно!
Состояние Наташи установлено врачом, которого старуха имела начеку, на всякий случай, по соседству и следила зорко за каждым шагом молодой женщины.
Потерявши мужа, потерявши в цветущем возрасте сына, а теперь и единственного внука, старая генеральша непривычно насторожилась и согревала себя надеждою увидеть правнука. Внезапный брак Геннадия, состоявшийся без ее ведома, также внезапно стал утешительным Божиим Провидением.
Еще в сентябре в отсутствии Наташи она получила письмо из генерального штаба о том, что внук ее погиб на поле брани смертью храбрых. В штабе не было известно о женитьбе корнета Гостева, и жену его не известили. Старуха не могла сказать о содержании письма Наташе, особенно в ее положении, и не собиралась этого делать, насколько хватит сил. Это и поддерживало в Наташе веру, что Геннадий в плену.
Под шепот ветра в парке былинка надоумила ее поехать в Петербург, и она бросилась с этим решением домой.
— Мамочка! – сказала она, розовая от встречного ветра и волнения (Она именно так звала бабушку, которой это очень нравилось).- Мамочка! Я решила хлопотать в Петербурге через Красный Крест, чтобы меня отправили сестрою милосердия в Германию… Мамочка! — поспешила она уверить бабушку, видя, как у той неодобрительно затряслась голова. – Я знаю, это можно. Это делают!..
Генеральша отвернулась и, смотря через большое окно на заснеженные клумбы парка, сказала недовольным басом:
— Ничего хорошего ты в Петербурге не добьешься.
— Но почему же, мамочка?
Глаза Наташи, обведенные синими кругами, казались непомерно большими, а вокруг губ обозначилась бледность испуга.
— Потому что, милая моя, ничего хорошего на свете вообще не предвидится.
Генеральша, видимо, заколебалась. Давно устоявшаяся, ко всему охладевшая мысль ее на этот раз работала необычайно быстро. Она легко представила, что в штабе, в Петербурге, Наташе сразу выдадут убийственную справку. Надо ее удержать, но чем ее удержишь?
Произошло неловкое молчание.
Наташа что-то почуяла и, подойдя вплотную к бабушке, робко спросила:
— Но кто-нибудь же может знать об этом в Петербурге?
Генеральша повернулась к ней и, заглянув в глаза молоденькой и хрупкой женщины, понизила голос до шепота:
— Я знаю точно…
И задрожавшими руками обняла Наташу.
Наташа не заплакала, не стала спрашивать подробностей, не стала биться от отчаянья. Она только посунулась на грудь старухи, высокой, тонкой и прямой, и затрепетавшими руками беспомощно ухватилась за шуршащее, из черного шелка платье, чтобы не упасть. У нее подкашивались ноги, и в глазах все закружилось и повалилось не вниз, а куда-то в сторону.
Бабушка взяла ее за талию и повела в глубину обширных комнат, уходивших анфиладою, из двери в дверь. Освещенные яркими косыми лучами предзакатного солнца две обнявшиеся женщины казались одинокими призраками в старом, сказочном, пустом дворце. Казалось, старая уводила молодую в бесконечность прошлого, в глухую тишину, где царственно безмолвствует печаль.
И только когда бабушка ввела Наташу в ее комнату и заботливо уложила в постель, тишина была нарушена басовитым, ровным голосом:
— Ты и недели с ним не прожила, а я его вынянчила, воспитала, сделала рыцарем… – голос бабушки вздрогнул и повысился. — Вот ты и постарайся быть достойной такого рыцаря: нового рыцаря мне от него роди!
Взгляд Наташи в зарокотавшей тишине метнулся к окнам, как бы ища опоры на просторе парка, но застрял на голых ветвях плакучей ивы, слабо качавшихся под окнами от напора ветра. Ветви ивы безнадежно свисали до земли и блестели льдом, сковавшим их движения. И только потому, что выпавшая из ее сердца последняя надежда на встречу с Геннадием вдруг в приказе генеральши встретилась с другой надеждой, Наташа кое-как оправилась от припадка отчаяния. Но правда ли, что в ней рождается новая жизнь, таинственная и ощутимо-реальная? Правда ли, что в этой жизни будет воскресать и вырастать любимый, мелькнувший счастьем и страшной молниею сон?
Только теперь из глаз ее покатились слезы — от непоправимой безысходности и вместе от неведомой еще, но грустной и глубокой нежности к тому, что было в ней зачатком новой, не испытанной еще материнской любви.
* * *
Старое и прочное гнездо дворян Гостевых ни по красоте архитектуры, ни по роскоши его благоустройства нельзя даже и сравнивать с несравненными, изумительными русскими старинными усадьбами. Это не было ни шереметьевское Останкино, ни голицинское Архангельское и, конечно, уж совсем бедно в сравнении с великолепным Нескучным, в котором некогда для услады любимца Екатерины Великой графа Орлова Чесменского была сосредоточена вся роскошь европейских дворцов и восточных сказок.
Имение Гостевых даже не имело особого названия. Оно просто называлось Усадьба. Главный дом в имении, разумеется, не строил знаменитый Жилярди, но все же в его гармоничном русском ампире, в стройной пропорции белых колонн и сбегающих по обе стороны широких мраморных лестниц парадного подъезда видна продуманность большого дарования. Может быть, строил кто-либо и из крепостных учеников Жилярди, вложивший в пролеты въездных ворот перспективу парка, а на фоне парка весь фасад усадьбы. При самом въезде в Усадьбу она будила чувства грусти о давно минувшем, когда прекрасная пейзанка Параша, “вашей милости, сударь, крестьянка”, могла, как в сказке, стать графиней Шереметьевой. Во всяком случае, въезжая в парк через широкие ворота, увенчанные башенкой с поблекшими, когда-то бронзовыми орлами, можно было сразу вспомнить пушкинский восторг перед изысканностью русского усадебного творчества.
“Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты Музам в тишине”.
Усадьба все еще жила своим, издавна заведенным порядком, но давнее барство в ней сменилось промышленностью, а патриархальность – современной техникой. Когда-то к ней принадлежали все далекие и ближние поля и перелески, а теперь на месте их расположились целые свободные деревни. Еще при жизни деда молодой гвардейский полковник Гостев, отец Геннадия, продал крестьянам три четверти владений, а на оставшейся, довольно значительной части угодий построил свечной завод, развел большое, образцовое молочное хозяйство и промышленный ягодный сад. Еще в этом году тысячи банок клубничного варенья отправлены в Москву.
Геннадий унаследовал имение без долгов и знал, что капиталы бабушкой завещаны ему же. Но по молодости лет хозяйством заняться не успел, да и военная карьера не очень его увлекала. Должно быть, чуял, что судьба распорядится по-своему. Поэтому ни главный дом, ни прочие постройки не подновлялись и много лет не красились. Вся Усадьба выглядела старше своих лет, с налетом серости и некоторого упадка.
Известие о гибели Геннадия еще больше отразилось на Усадьбе. В ней вдруг все замерло, как будто притаилось в предчувствии конца. Все люди, начиная с последнего пастуха и кончая управляющим, не знали, что с ними будет завтра. Даже сама генеральша как-то безучастно притихла и не появлялась за оградой парка. Только изредка, в трауре по внуку, она выезжала в церковь, в большое ближнее село и никого, кроме своей камеристки, не брала с собою. Первый ее выезд в церковь вместе с Наташей был только для панихиды по Геннадию, когда юная вдова узнала горестную истину. Но в эти скорбные дни унылой осени судьба Усадьбы их обеих мало интересовала.
Не интересовала более и почта. Даже редкие письма от брата Владимира Наташу не радовали. Он жив и здоров, и слава Богу. Жалуется, что в кавалерию не удалось попасть, но со своим полком перебрался в Галицию. Сидит в окопах и скучает. О гибели Геннадия ни он ни звука, ни у нее не было сил писать ему.
Шли письма из Сибири. Добродетельная тетушка писала много и подробно и, не получая ответов, наконец язвила: “Почетные граждане из простых купцов ждут милостивого ответа от новой столбовой дворянки…”
Наташа не могла даже всего прочитывать, не только отвечать на письма. Так все окружающее и все личное вдруг перестало интересовать ее.
По временам ее охватывал внезапный страх при мысли, что, проходя мимо парадного зала, она может увидеть дурачка Феденьку в шапокляке и во фраке с барского плеча.
Но генеральша успокоила, что Феденька больше не может забавлять ее и во дворец не будет впущен.
* * *
Осень обратилась в зиму.
Дни шли за днями и медленно и быстро.
Вставало утро с солнцем на морозе. На дворе носился ветер и на крыше дома, выхватывая из закоптелых труб обрывки дыма, смешивал их со снежной пылью и завывал, стонал и взвизгивал. Взвихренный снег дымился гривами на гребнях неубранных сугробов, шептался с белыми колоннами парадного подъезда, осыпал каменные стены тяжелым серебряным песком и выплетал тонкие причуды на огромных окнах главного и заднего фасадов.
Всех комнат в доме было слишком много для двух хозяек, но все держалось в чистоте, в порядке, заведенном исстари, и всей зимой отапливалось, некоторые комнаты даже дважды в сутки.
В розовом рассвете утра Наташу разбудил внезапный грохот. Это истопник по неосторожности рассыпал беремя дров в соседнем коридоре. Вслед за этим мимо пронеслись быстрые и мягкие шаги старого камердинера Никитича. В мягких башмаках, сердито почесывая бакенбарды, он прибежал прошавкать на истопника:
— Ты што же это тут шуруешь!.. Ш-ша!..
Никитич вставал раньше всех. Он до зари умыт, побрит, одет. Задолго до подачи генеральше завтрака он прежде всего посудачит сам с собой о том о сем, а главное, о непорядках в доме, о трудных временах. Теперь он шел на кухню. Там с поваром еще до появления всей прислуги он раньше всех попьет чайку. Попьет он не спеша и всласть, ведь для того и встал всех раньше, чтобы было время без помехи попить чайку и посудачить.
— Да, да, друг Елизар Иваныч!.. Трудно… Нет возможности…
Его седые брови поднимаются и движутся, губы дуют на дымящееся блюдце, а усталые, выцветшие, синие глаза смотрят в потолок…
— Боже, Боже!.. Какое это было родовое и великолепное именье!.. А вот все стало как-то так… Скажу: не представительно…
Повар был моложе его на двадцать лет, но толще раза в три. Слушает, молчит, даже не мыкает, будто и не слышит. Такому все можно сказать, не выдаст, а высказаться надо.
— Трудно, нет возможности блюсти порядок… Камердинер — ведь это что?.. Это пор-рядок! Эт-то укр-рашение двор-рца!.. Ведь бывало…
И начнется рассказ о прошлом… Рассказ не для повара, а для себя. Блюдце выпивается одним глотком, ставится на стол и с сердцем отодвигается от края. Глаза прищуриваются и смотрят через стены, в даль.
— Бывало, надобно его превосходительству подать одеться… А что подать? А как подать? С какого бока подойти? Не шутка – камергер его величества!.. Бывало, мысли их должон ты знать! Куда они выезжают? Ко двору или дома принимают?.. А может быть, они едут в клуб, а может, на охоту? Они тебе докладывать не станут. У них мысли сами по себе!.. А ты сам все должон знать, к чему и что. Смекни все загодя. А наш любил, чтоб ты ему не токмо что служил, а чтоб ты же за него и думал…Чтоб не забыл чего, чтоб все было в порядке, как в великокняжеских усадьбах…
Вдруг голос старика падает до шепота.
— А тут тебя за выслугу-то лет — в лакеи! А? Подай то-се… Иди с подносом… Ходишь ли, стоишь ли, будь гоголем, ходи по струнке… Слов нет — сами они статс-дама ее величества, ну, а эта кто?.. Да разве это госпожа? Да разве она может содержать в руках усадьбу?..
Никитич дразнит тонким голосом со старческою хрипотою:
— “Нет, я сама…” “Пожалуйста!” “Благодарю вас!” – и, нетерпеливо вставши, брезгливо заключает:
— Мелкота! Демократия!..
Повар ничего не понял, да и не старался. Он давно решил, что старик выжил из ума. Пускай себе разоряется.
Но Никитич, вооружаясь подносом, подходит ближе к повару и шепчет по секрету:
— А сама-то? Нянчится ведь с нею, вот что! Трудно, нет возможности!.. – обрывает он свое ворчанье и начинает бережно, с любовью верного слуги готовиться к подаче завтрака на две персоны. Секретничать уже нельзя. В кухне появляется камеристка, а за нею няня. Обе уже старые, но камеристка молодится, недолюбливает няню и оспаривает ее первенство в доме.
Завтракают они каждая в своей комнате, но за обедом сходятся в людской, и тут для всех потеха их послушать, но смеяться – никто не рискует. Очень они важные старушки.
Они не спорят. Боже сохрани – ругаться. Они даже не обращаются друг к другу. Но вот, вздохнувши, няня скажет:
— Господи, Господи! Кто бы мог подумать?.. Этакой ли сокол, этакой ли голубь сизый!..
И заплачет о своем погубленном молочном сыне.
Камеристка же, глядя в окно, начнет что-либо лепетать по-французски. Она этим и берет, отстаивая первенство, что с генеральшей говорит лишь по-французски. Для этого и держит ее генеральша.
Няня вытрет слезы и негромким, безобидным голосом процедит:
— Знаем мы и лябу, знаем и сову…
Камеристка тряхнет бантом на седеющей голове и засмеется как бы своим думам. И опять по-французски, просто в потолок:
— Eh, bien, voila! Parce que vous etes la vieux sotte!
А няня так же преспокойно продолжает свое:
— И в кузове и в решете нас трясли, а вот не растрясли. Живем да хлеб жуем…
Вихрем проносится из людской в кухню, а из кухни в главные палаты горничная Паша. Краснощекая, всегда веселая простушка, она в доме больше всех льнет к Наташе. Вот подкралась к ее дверям, приложила ухо к щелке притвора, прищурилась в замочную скважину – ничего не слышно и не видно.
Чуть-чуть постучала кончиками пальцев, приоткрыла дверь.
Наташа была еще в постели.
— Как почивали, барышня?
Паша сама придумала это отличие: генеральшу звала барыней, а Наташу барышней. Часто ворвется без спросу, что-либо шепнет, как заговорщица, и убежит. На этот раз шепнула:
— А не страшно вам, барышня, в этаком домище одной жить? Спите и двери не закрыты.
— Как одна? А бабушка, а люди?
— Да какие это люди? Молью все поедены! Хи-хи! Если б барыня позволила, я бы приходила спать к вам, барышня… Спросите барыню!.. Вам и мне тут веселей бы было.
Паша понимала одиночество и всю беду Наташи. Ей хотелось чем-либо развлечь, утешить, оберечь ее, быть может, запросто, по молодости, поболтать. Наташа не ответила. Паша пристальнее заглянула ей в лицо. В глазах Наташи были слезы. Она теперь так часто, так внезапно плакала.
— Ну, уже с утра да в слезы!.. – укорила Паша. – Ну, поплачьте, это ничего! – тут же согласилась она. – Ваш-то господин хоть убит, да сразу. А у нас в деревню два обрубка привезли: у одного руки и ноги нету, у другого — ни рук, ни ног… Глядеть ужасно! Куда с ними их бабам-то? А вы молоденькая да красивая… Еще судьбу себе найдете…
— Перестань, Паша, болтать! Дай мне свежий платок…
Но Паша все-таки не унималась. В болтовне ее было усердие, сердечность, сама жизнь, здоровье, которым она делилась с юной госпожой как с другом.
Наташа встала. Паша, зная наказ генеральши, не позволила ей что-либо делать самой. Даже умыться и одеться помогла. С беззаботным щебетом и лаской расправила на ней новое японское кимоно, только что выписанное из Москвы бабушкой.
— Видите? Красиво!.. Нет, они вас очень уважают…
Присутствие, забота и услужливость этого молоденького существа помогли Наташе осушить утренние слезы и начать новый день…
* * *
Во всем имении, вне дома, было множество людей. Всех Наташа даже и не знала, кто свой, кто чужой. Хозяйкой все еще себя не считала, а в это время и подавно все стало для нее ненужным. Даже самые дни, такие светлые от солнца и снега, были скучны и не нужны.
Но былиночка опять качнулась, опять напомнила о будущем росточке. Для него, да, для него немножечко нужно. И дни нужны. Не долгие, не многие, но все-таки нужны. А всего имения – ужасно много, и места ему нет в опустошенном сердце. Но для росточка что-то нужно, какой-то уголок. И росточек вызвал робкую, еще больную, еще печальную, но все-таки улыбку.
Паша для нее открыла дверь. Наташа не спеша пошла по коридору в бабушкину половину, к завтраку.
Двери были уже все раскрыты, и комнаты, освещенные ранним, еще красным солнцем, казались, как во сне, нереальными и уходившими из двери в дверь в трех направлениях, образуя положение дворца как опрокинутую букву П.
Идя по мягким ковровым дорожкам, Наташа не слышала своих шагов, но темно-синее, с тончайшей вышивкою кимоно издавало особый, только японскому шелку присущий шелест. В свободных складках его грациозно двигалось тонкое и гибкое, еще девическое тело. Наташа мимоходом увидала себя в одном из попутных зеркал, и ее взгляд не узнал незнакомой молодой особы, смотревшей на нее удивленно и загадочно.
В комнатах было тепло, просторно, пахло свежею горящею березой в потрескивавших топках. И путь до бабушки казался долгим.
Справа, выходя к центру фасада, широко раскрыл свое столетнее барство освещенный солнцем и задумавшийся в тишине парадный зал. Его стройные колонны из полированного гранита разделяли громадные окна в два света с тяжело струившимися, как золотые потоки, желтоватыми занавесями. Куполообразный плафон представлял собою вылепленную тончайшим скульптором пластическую лирику Эллады, а с плафона сталактитовыми гирляндами висел хрусталь причудливых тяжелых люстр с полусгоревшими свечами. Широкий фриз, опоясывавший соединение карнизов, служил образцом неограниченной фантазии художника. И вся эта застывшая в звучащей тишине солнца красота зала была достоянием только трех безмолвных, пленительно обнявшихся мраморных сильфид, стоявших в полуовальной нише над изразцовым камином.
Как будто в первый раз, все это как следует увидела Наташа и, как во сне, старалась мимоходом наглядеться и запомнить все, чтобы не заспать и не забыть.
Налево через коридор, в тени, без солнца, открылась белизна чехлов на многих стульях, стоявших вокруг длинного стола. Это была парадная столовая, и в ней огромные, высокие, как узкий шкаф, часы, посверкивая бронзовым, как качающаяся лира, маятником, отбивали грустно и задумчиво размеренную поступь времени. В этой поступи, казалось, было теперь главное сердцебиение всего дворца. В ней продолжали жить те важные, теперь безмолвные, увешенные лентами и орденами и увенчанные париками императоры, императрицы, князья и генералы, которые сидели в тяжелых золоченых рамах всюду по пути Наташи. И среди них в библиотечной комнате и в кабинете — ряд предков Гостевых. Вот прадед Геннадия. Он стоял, как балерина, в своих маленьких изящных башмаках, в белых чулках с подвязками, а на подвязках банты. Темно-зеленый мундир его с голубою лентою через плечо почти закрыт на груди огромными звездами и орденами. Он так игриво опирается изящной, тонкою рукой на далеко отставленную шпагу, что, кажется, сейчас отнимется от земли и полетит. А вот седой и лысый строгий генерал, муж бабушки. Камергер двора. А вот и молодая, изумительной красоты и изящества дама, с тонкой талией и с белой лебединой шеей в нитке жемчуга. На ней темно-лиловое, с придворным шлейфом и с высоким турнюром позади бархатное платье. Никто бы не узнал в ней теперешнюю старую генеральшу Гостеву, бабушку, к которой так долго идет по звучным коридорам и палатам случайно попавшая в этот дворец молодая женщина в японском кимоно.
Но вот еще на пути комната, в которую всегда невольно на минутку забегает одинокая Наташа. Стены комнаты увешены оружием, рогами туров и оленей, шкурами зверей, и вся тяжелая мебель ее в темной коже. Огромный стол из травленого букового дерева завален дорогими, в тисненых переплетах альбомами, монографиями, адресами в папках, статуэтками из бронзы и серебряными блюдами с художественно выгравированными надписями… Все это накапливалось более ста лет для того, чтобы владелец, еще недавно сидевший вот на этом кресле и державший на коленях тоненькую, разгоревшуюся от волнения девушку, никогда более не появился в этом охотничьем кабинете…
А это что?.. Наташа этой картины раньше не видела… Часть пруда с цветущим берегом. В воде отражена античной греческой архитектуры беседка… Да это же та самая беседка, в которой они вместе провели первую бессонную ночь!.. Только тогда там не было этих цветущих белых акаций. Они, видимо, цветут весной…
— Весна! – слабо простонала Наташа и повторила с трепетом тоски и нежности: — Весна!..
И вдруг то, что она несла в себе, наполнило ее сознанием незнакомой гордости:
— Ведь “он” придет весной!.. “Он” или “она”?.. Нет, пусть будет “он”… Сын мой! Геннадия сын…
Вдруг она особым, новым взглядом посмотрела на кресло, на котором так ярко – навсегда — запомнила Геннадия.
— Он будет их потомком! — она смотрела на портреты предков. – Их наследником… Владельцем и самих портретов, и часов, и зал, и всей этой величественной тишины… Он явится весною, в мае…
Наташа даже придержала сердце, вдруг занывшее и трепетно, по-новому, забившееся.
И необычно твердою стопой пошла к высоким закрытым дверям в конце анфилады комнат. Беззвучно и сама собою открылась перед ней тяжелая дверь. К ее шагам заранее прислушивался вышколенный камердинер.
В середине комнаты ее ждал накрытый для завтрака стол, и высокая, седая статс-дама ее величества с придворной выправкой встала ей навстречу, обняла, поцеловала в лоб, и по взгляду ее старый камердинер почтительно придвинул высокое кресло Наташе.
* * *
За окнами играло солнце, и ветер внезапно утих, точно сделал свое дело и унесся в новые края. У ветра много дел на свете…
На всех беспредельных просторах Империи: в чистом поле и возле казарм, на площадях и на улицах — надо раздувать полы тысяч шинелей, румянить молодые лица рекрутов и юнкеров, лохматить бороды суровых ополченцев… Надо заглушить шумом снежных метелей музыку военных оркестров и заметать следы размеренных маршей все новых и новых взводов, рот, батальонов и полков, текущих, как широкие реки из свежей, еще молодой, еще не пролитой, еще кипящей в жилах крови, — все туда же, к Западу, в выходящий из берегов океан багряный.
А там, на Западе, ветер должен спешно заметать снегами, пылью или песками бесчисленные кресты на братских и одиноких могилах. А оттуда надо мчаться на Восток, чтобы разнести печальные напевы об ушедших без возврата и о возвращающихся по домам бесчисленных калеках…
Метался по просторам ветер, укутывал снегами всю Россию. Хоронил в сугробах города и деревни, обращал в ледяной хрусталь слезы на иззябших лицах миллионов женщин, бившихся с мужицкою работой в поле и в засыпанных сугробами путях-дорогах. И чем глубже в зиму, тем свирепее бушевал ветер, тем обильней сыпал снегом, тем многоструннее и многотрубнее играли его оркестры над великой Империей еще небывалый походный и похоронный марш.
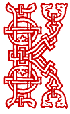 огда приходит большое горе к молодой душе, оно не сразу подступает к горлу, не сразу удушает. Оно, как кошка с пойманною мышью, поиграет со своею жертвой, на минутку отпустит, даст поверить в жизнь, в свободу, а потом опять, играючи, вцепится когтями в мозг и в самое сердце.
огда приходит большое горе к молодой душе, оно не сразу подступает к горлу, не сразу удушает. Оно, как кошка с пойманною мышью, поиграет со своею жертвой, на минутку отпустит, даст поверить в жизнь, в свободу, а потом опять, играючи, вцепится когтями в мозг и в самое сердце.