СТО ПЛЕМЕН С ЕДИНЫМ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
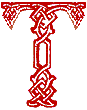 уманны берега Енисея осенью, пасмурно величие его среди таежных просторов, и суров его неукротимый бег к Океану. С северных вершин Алтайских, мимо величавых гор Саянских, с неумолкаемой победной песнею спешит Енисей к Океану, спешит века, спешит тысячелетия, и нет конца серо-зеленым рядам его быстрых волн. Пышно богат он в лазоревых днях светлого лета, неуемен и грозен весною, когда ломает ледяную броню зимы, но зимою он, закованный в серебряные латы, белый среди бело-зеленого, как бы засыпает богатырским сном. Спит и грезит, и молчание его величаво: зимою у него нет настоящего — у него тогда все в прошлом и все в будущем...
уманны берега Енисея осенью, пасмурно величие его среди таежных просторов, и суров его неукротимый бег к Океану. С северных вершин Алтайских, мимо величавых гор Саянских, с неумолкаемой победной песнею спешит Енисей к Океану, спешит века, спешит тысячелетия, и нет конца серо-зеленым рядам его быстрых волн. Пышно богат он в лазоревых днях светлого лета, неуемен и грозен весною, когда ломает ледяную броню зимы, но зимою он, закованный в серебряные латы, белый среди бело-зеленого, как бы засыпает богатырским сном. Спит и грезит, и молчание его величаво: зимою у него нет настоящего — у него тогда все в прошлом и все в будущем...
Тих и улыбчив рыбак-енисеец Чубек, тих потому, что над ним молчалива тайга, а улыбчив потому, что слышит, о чем ему шепчет вечно думающая в молчании тайга. Молча дает она ему зверя и птицу, уют для чума, пастбище для оленей и простор для собак. Улыбчив Чубек потому, что он счастлив в тайге: тайга сестра ему и мать, а Енисей брат и отец. Енисей послушен его лодке летом и его лыжам зимою, и Енисей — неиссякаемый садок для всякой рыбы: только пойти, только иметь снасти и немного труда. Хорошие, полезные друзья Чубековы — тайга и Енисей. Тайга дала ему жену и всех оленей, а Енисей помог выкормить всех пятерых детей и всех собак. Чубек богатый и счастливый человек, один на много верст в тайге, на берегу Енисея. Только изредка пробежит на лыжах кто-то из охотников-соседей да еще реже наведается мимоездом русский торговец либо волостной человек, и снова неразлучны трое — Чубек, тайга и Енисей. Падают пушинки снега на темную зелень еловых ветвей, спит подо льдом Енисей и дает Чубеку рыбу через проруби — сколько надо, только бери и неси в теплый, хорошо укутанный снегом чум.
Тихо, чуть слышно и всегда без слов, поет Чубек стародавние песни про сказочных богатырей-шаманов, про чудесно бегающих волшебных оленей, про рыбину с серебряною костью, с жемчужными глазами, про собак, которые стадами пригоняют из тайги диких оленей в стан Чубека — счастливый Чубек человек. Много счастья, много несказуемого будущего видел Чубек в черных глазах, сверкавших из-под пухлых век и разделенных широкой плоской переносицей, у своих трех сыновей. Много гордости и силы чуял он в своей крови, когда и самый младший из них стал на лыжи и мог гоняться за маленькими оленятами. А старший уже убивал лучших красноперых рыб меткими ударами трезубца. А какие праздничные шубы были у его дочерей: из оленьих пахов с тюленьей оторочкою — у маленькой и из недоносков оленят с беличьей оторочкою — у старшей. А у самой Чубековой жены вся шуба из оленьих лапок, рукава вышиты по коже тонким кожаным шнурком, а грудь, подол и воротник раскрашены тончайшей вышивкою, разноцветным бисером: косточками из позвоночных суставов осетра, из рыбьей чешуи и из засушенных глаз, взятых от двенадцати сортов разного размера енисейских рыб.
О, эта баба, Чубекова жена! — от ее улыбки постоянно весенний ветерок идет, тот самый, который прогоняет комаров и всякий другой таежный гнус, когда ничто и никто не мешает петь песню о веселой енисейской волне. Бушует ли в грозе с дождем высокая и белогривая волна на Енисее — Чубек сидит под крышей чума, жарит рыбу, курит свою трубку и молча смотрит на свою семью, радуется, что у него баба есть, кормит детей, управляет оленями и собаками, знает таежные тропы, знает, как сказки ребятам сказывать, знает, каким призывом в летние вечера скликать оленей с пастбища. Вот и сейчас, когда на мохнатую зелень тайги садится мягкою порошей тихий предсумеречный снег, Чубек скользит на лыжах следом за семьей своих оленей и поет без слов о том, как послушны ему все олени, понимают каждый его окрик, каждое движение руки. Как хорошо жить на свете, когда даже сам Енисей послушен Чубеку, как жена. Вот долбит Чубек острою пешнею прорубь в толстом льду, и Енисей молчит, только похрустывает льдинками. Лютый мороз сейчас же покрывает открытую воду чешуйчатою пленкой нового льда, а пар Чубекова дыхания струится изо рта и тут же белым снегом серебрит его черную редкую бородку и опушку мягкой и глубокой шапки из оленьего хребта. Но Чубек не чует мороза и поет без слов, без голоса, одною думою — во время рыбной ловли нельзя ни петь, ни говорить, — поет о том, как мудро все устроил Бог для счастья и для промысла Чубекова. Вот сейчас Енисей даст ему немножко рыбы, а много ему и не нужно. Смотрит Чубек на шнурочек тропинки, бегущей по белому снегу, по крутому склону берега к его чуму, и видит: идут все три сына на помощь, а за тремя сынами почти весь приплод молодых собак — надо и для них немножко рыбы добыть. Хорошие щенята растут. Чубек любит их всех не меньше, нежели всех сынов и дочерей своих. И оленей любит Чубек, все на свете любит Чубек, потому что он счастливый человек, брат Енисея, брат тайги, отец сыновей и дочерей своих, муж жены своей, — енисеец Чубек-человек.
Запомнился тот зимний вечер навсегда: в далекой белизне пустыни берегов и белых туч день догорел и потух в ярко-красной заре. Много рыбы дал в тот вечер Енисей. Застывшие рыбины стучали друг о друга. Удобно было их нести домой, как поленья дров. Мелочь побросал собакам, и, когда собаки в громком лае и грызне терзали стылую рыбу, Чубек вошел в свой чум и в дыме очага остановился, слушая: в чуме говорили чужие голоса. Он наклонился, чтобы видеть под нависшим слоем дыма, и узнал русских гостей из волости.
— А-а! — радостно пропел он и пошел к ним с заранее протянутой рукой.
— Тащились до тебя, брат, двое суток. Далеко живешь от волости. Дороги к тебе санной нет, лошадей пришлось оставить в зимовье. Вот покормишь нас, соснем немного, да надо дальше бежать. Новость тебе принесли мы: сам царь тебе поклон прислал...
Волостной остановился, чтобы закурить от очага, и, выбравши одну из свежих рыбин, протянул ее своему спутнику, сказав: почисти-ка, да на сковороде поджарим, а Чубек счастливо засмеялся:
— О! Царь — поклон. Это слава Богу!
— А в поклоне, слышь, приказ тебе: царь тебя на войну зовет.
— О! Война — это не дай Бог! — сказал Чубек и, не переставая улыбаться, сел у очага на корточки. Он еще не понял или не принял приказа, но приятно улыбался; может, и правда, что царь живет не так далеко; добро бы побывать у царя в гостях. А волостной меж тем рассказывал и даже достал и прочитал приказ на бумаге. А на бумаге из волости всегда что-либо вредное: либо подать, либо новый закон. Все новые законы вредные. Один закон хороший — самый старый, Божий закон. Чубек спросил:
— Зачем война идет?
— Ну, это не нашего умишка дело. Идет да и идет. Ну, надо думать, тебе биться не придется: может, на труды какие нужен. Может, убитых в землю зарывать будешь.
— Пошто убитых зарывать! Биться могу! Ружье хорошее есть, стреляю хорошо: белочке в глаз попасть могу.
— Ну, это дело не нашего ума. Раз, стало быть, зовут – значит, там и в тебе на што-ето нужда имеется.
— Ето ничего! Ето приказ царский надо исполнять. Его надо, ничего! — Чубек пошевырял дрова в очаге, встал и пошел по чуму кругом, притрагиваясь к висящим шкурам зверей, к тряпичным божкам на гвоздиках, к ружью и к праздничным одеждам, висевшим на шестах. Все видел как бы в первый раз и как бы в первый раз увидел всю семью в большом дымном чуме, в немоте молчания и понимания: понимали они только то, что волостные люди привезли какой-то вредный закон.
... Три дня собирался в дорогу Чубек и все еще не мог понять, и никто в его семье не знал, что он на войну идет. И только когда все было уложено на нарты, и когда собаки уже потянули всю упряжку, и след от чума на свежем снегу нарисовался совсем по-новому, двумя белыми змейками, — Чубек из сумерек тайги оглянулся и увидел чум, а над чумом дымок, а возле чума свою бабу и возле нее два младших сына и две дочери. И улыбнулся старшему, который в первый раз в жизни погонит обратно из волости собак и пустые нарты. Впервые для него, для Чубекова большака, будет маячить в тайге дым родного чума как для возмужалого хозяина.
— Ето хорошо! Ето слава Богу! — повторил Чубек и, догоняя нарты, склонился на лыжах для быстрого разбега по серебряным пескам таежной зимы.
Никто не плакал возле чума, и Чубек впервые ничего не пел в тайге.
Так Чубек-енисеец ушел на войну.
* * *
За Полярным кругом, близ пустынных берегов ледяного моря, там, где подо льдами много тысячелетий спят мамонты и где широкими водными пустынями вливаются в просторы океана великие северные реки Индигирка и Лена, — жил-был угрюмый охотник-якут Туртул. В долгие темные ночи в тесном удушливом срубе, утепленном снаружи льдинами и снегом, тяжкие сны навещали его. Причудливы были его вымыслы, когда, голодный и застывающий, бродил он по ледяным равнинам в поисках зверя, рыбы или птицы. Проста и бесстрашна была его готовность умереть в любом сугробе снега. Но все же небывалой сказкой было появление возле его сруба русского посланца от дальних якутских властей. В тусклых сумерках синего бессолнечного полудня, под сполохи сияния зеленых лучей, отраженных океанскими ледяными горами, появился у дверей Туртулова жилища вестник о войне. В руках его были лыжи, за плечами охотничье ружье, и из-под теплого песцового малахая весело смотрело молодое улыбавшееся лицо. Непривычен был отчетливый и чистый русский говор:
— Собирайся в поход, Туртул! На войну тебя царь зовет.
Черный, твердый и стоячий у Туртула волос, как щетина. Зрачки сверкают звездами из ночи его узких глаз, а голос как труба, захлебнувшаяся в снежной метели. Он не сказал, а прокашлял, как древнее шаманское заклинание произнес:
— Поход, говоришь? Война, говоришь? Царь зовет, говоришь?
Понял и не понял, точно спал и не верил, что кто-то мог прервать его тысячелетний сон. Спросонья было даже непривычно радостно: сам царь на войну зовет. В якутских сказках цари веселые и пьяные. С таким после войны можно и за общий стол сесть попировать, все нужды рассказать ему. Если добрый парень-царь — можно и винтовку в подарок попросить. Бабе его можно дюжину песцов хороших подарить. Туртул трубит в ответ посланцу:
— Пошто не пойти? Пойду! Когда пойти?
— Сроку тебе три недели — явиться на сборный пункт в Якутск.
По-северному, по-якутскому лениво вспыхивают и гаснут думы Туртула, но нет такой, чтобы ослушаться посланца от царя. Ведь не приказом принято, а дружеской, добрососедской просьбой — пойти на войну. Вместе с бабой и двумя детьми, с собаками и всеми девятью оленями, с узлом песцов и с ворохом мороженой рыбы на нартах выступил Туртул по глубокому нетоптаному снегу, без дороги, на юго-восток, туда, где стоит невиданный великий город Якутск, а за Якутском вечное теплое лето и русский царь в войну забавляется.
Метель была попутная. Окутывая белой пеленою весь обоз, помогала метель бежать собакам и тотчас заметала следы нарт и самого Туртула. Он бежал вслед за собаками и не оглядывался на опустевший, навсегда покинутый родной очаг. Только изредка, подбегая, падал на нарты, где были закутаны детишки, и спрашивал: не замерзли ли они до смерти? Баба его была молодая, хорошо могла бежать на лыжах и, когда встречала на пути препятствие, — прыгала через него и звонко вскрикивала, как в погоне за песцом, — так ей было непривычно-весело бежать вместе с Туртулом. А куда они бежали — она даже и не спрашивала. Он знал лучше: он муж и отец и хозяин. Он мудрый охотник-якут Туртул.
... Так ушел Туртул-якут на войну.
* * *
Пел или завывал северный ветер, выметая из редких чумов и срубов редких северных людей и их собак, оленей, жен и детей. Пел весело и выл печально и злобно насвистывал северный ветер по тысячеверстным берегам великих северных рек. На устьях их при впадении в великие заливы, на вечной мерзлоте бесплодных тундр, в дебрях никогда никем не меренной тайги — всюду появлялся ветер, пел и выл и насвистывал все ту же никогда никем не слыханную песню-думу: “Гей-гей, собирайтесь-ка вы, сыны северной родовитой охотничьей семьи: енисеец Чубек, Туртул-якут, Андир-остяк, Кутукурма-самоед, Ташир-макасей, Майра-айнос, Сканы-коряк и многие иные племена и роды, — и каждый отправляйте в дальний путь самого здорового и молодого и самого смышленого, — потому что сам белый царь, властитель ста народов и племен и покоритель сорока земель, лежащих посреди двенадцати морей, — вас на войну зовет”.
И все бежали следом за собаками или за оленями, и все считали себя воинами, смелыми, непобедимыми, достойными посланцами от северной полуночи, от сказочно-дремотной тишины.
* * *
Издалека с Востока к Северу прибежала Тунгуска-река. О, славная красавица, резвая внучка хана Байкала, капризная дочь царицы Ангары, достойная невеста мощного богатыря Енисея, ты — колыбель лесного сказочного племени тунгусов. У кого самые прямые и стройные на свете ноги? Кто, кроме тунгусов, бегает по берегам и по лесам Тунгуски, как дикие олени, как стрелы, пущенные из лука лучшим богатырем, как молитва-мысль кудесника-шамана? У кого самый тонкий и певучий, как у ребенка в колыбели, голос? Не тунгусы ли поют в тайге так, что голос их не отличить от свиста северного ветра? Не тунгусы ли могут рассказывать самые причудливые сказки о приключениях шаманов? Только их полудремотное наивное житье способно украшать их полусон многокрасочными вымыслами сказок. И не тунгусы ли имеют самое доброе сердце на свете, такое доброе, что даже врага не встретят без улыбки? Сердце тунгуса любит все и всех на свете, все благословляет, молится за всех, печется о мире как о вечном смысле бытия, ибо земля и небо и звезды — все это лишь украшения вечного, ничем ненарушимого и самого счастливого из снов. Вот почему тунгусы не живут, а спят наяву.
И к мирному из самых мирных, к Уйби-Кута, что должно значить: пух на вымени оленицы, к Уйби-Кута, веселому, высокому и лучшему в округе бегуну на лыжах, к Уйби-Кута, владевшему улыбкою и голосом дитяти, пришла все та же весть:
— “Оставь, Уйби-Кута, своих престарелых и больных родителей, оставь не ставших еще на ноги всех братьев, оставь не ставших еще женами сестер, оставь весь гурт твоих послушных оленей, оставь тайгу с ее стоголосым зовом для охотника, оставь Тунгуску — мать народа твоего, с ее голубою колыбелью бурных вод, с ее колыбельной песней, никогда не утихающей. Оставь твою красавицу невесту Тангли-Ману, что должно означать: сладость спелой малины, — все позабудь и все оставь и уходи свершить свой круг — с Севера к Востоку, потом к Югу, потом к Западу, потому что тебя русский царь зовет на войну.
С детской, с ласковой улыбкой не ушел, а убежал, как резвый молодой олень, отважный и веселый тунгус Уйби-Кута. Побежал он потому, чтобы скорей помочь царю отвоеваться, и с победной славой поскорей вернуться на Тунгуску, и скорей-скорей увидеть молчаливую улыбку пятнадцатилетней Тангли-Ману, нежной, как весенний цвет малинового куста.
... Так ушел тунгус Уйби-Кута на войну.
* * *
Взойдите на высоты гор Байкальских, склоните ухо ваше над равниной голубой глубины, и вы услышите, как триста рек, падающих со всех сторон в море Байкальское, будто триста разнотонных струн, поют каждая свою ноту, — так триста звуков рождают стройную песнь о вечном обновлении Байкала. Потому-то хан Байкал так прозрачен и свеж, так глубоко задумчив и молод всегда. Потому же так задумчиво-напевен забайкальский бурятский народ. Едет ли бурят верхом на лошади — про лошадь поет. Видит гору — про гору поет. Видит быструю реку — про реку поет, ее звуки и сверкание струй в песню вкладывает.
Вон дерево видно, а вон и другое.
Там много деревьев, там лес на горе,
В лесу на лужайке корова пасется.
Корове привольно, корове легко.
Корова теленка пустила под брюхо.
Теленок коровье сосет молоко.
Вот едет Кукула на лошади пегой.
Он выпил немного и песню поет.
Неплохо Кукула на свете живет.
Позади седла у пастуха Кукулы два зайца, пойманные им от нечего делать самодельною ловушкой. Пегая лошадь его худа. Мохнатая и мокрая от пота шерсть на ней покрыта инеем. Она еле держит на себе большого и тяжелого Кукулу, и ноги ее с трудом переступают по твердому слежавшемуся снегу.
Весело встретили Кукулу дома полуголодные ребятишки, потому что он привез двух зайцев. Но тревожно рассказала баба о наказе приезжавшего из волости десятского: велел он послезавтра приезжать на сборный пункт с запасной теплой одеждой.
— Будто бы сам царь тебя на войну зовет, — с улыбкой недоверия прибавила она.
Так сотни и тысячи сотских и десятских и прочих гонцов разносили по глухим дорогам и тропинкам в каждое жилище, в каждый чум, аул и зимовье сибирской глуши послание от имени царя о том, чтобы все племена и роды высылали бы ему на помощь лучших своих соплеменников.
* * *
Много народов и племен живет на Алтайских горах и в долинах живописных алтайских рек. Много разных сказок, песен и полусонных вымыслов прервала эта новая, почти что сказочная весть: русский царь, именем которого еще не покорены все огорченные сердца племен сибирских, будто бы зовет все сто обиженных племен примкнуть к единому, Российскому, и пойти всеобщею войной на неведомые западные племена. Великого значения эта весть и великое доверие оказывалось всем народам. А всякое доверие есть лучшее завоевание сердец. Откликнулись сердца племен, не знавших даже русской речи. Откликнулись и выслали бойцов, вооруженных чистой полудетской верой в важность и значимость приближающихся дней.
Ишарцы, Чиш-Кижи, Черневые татары, Койбалы, Карасасы, племя Сарыглар, Таясы, Качинцы, Каргинцы, племя Сарый, племя Томныр и многие иные племена и роды и все семнадцать ответвлений главного рода Алтайского, рода кости Ойротовой — все благословили или оплакали следы ушедших на великую, где-то в полуночных странах громокипящую войну.
Из славного древнего рода Хошохова по отцу и из рода Торгаутского по матери, из неистребимых племен, создавших славу Чингисханову, происходил шаман Уйла-Ола и жил в истоках бурной горной реки Аба-Кан, что значит ханство медведя. Достойно перенял он от отца высокий дар камлания и слыл могущественным другом Ульгеня, владыки белых высот, и непобедимым противником Эрлика, князя подземных зол. В минуты и часы священного экстаза ведомы были ему прозрения и откровения, которых смертный человек ни увидеть, ни понять не может. Доступны были для него чудесные перевоплощения в черного орла и в белого лебедя, и знал он, как вести сражения между двумя непримиримыми стихиями: светлых Ульгеневых высот — с темными низинами могучего Эрлика. Ведом был шаману Уйла-Ола сокровенный смысл беззвучного полета облаков к Белухе, королеве Алтайских гор, и знал Уйла-Ола неизъяснимое счастие исцелять сердца и дух приходивших к нему людей разных племен.
И так же просто, как и всем простым пастухам, сказал ему прискакавший посланец от русской волости:
— Собирайся, брат Уйла-Ола, русский царь тебя на войну зовет.
Оседлал Уйла-Ола посеребренным седлом своего лучшего буланого коня. Нарядился в новый, расшитый мастерицею-женой и опушенный черно-бурою лисицей тулуп-чегедек. Сказал сородичам на прощание:
— Перед царское лицо явиться должен я во всей красе сына Алтайских гор.
В сопровождении ста всадников сородичей спустился с гор шаман Уйла-Ола на туманные и неоглядные равнины великого царства Российского.
* * *
Высоки и неодолимы сибирские горы-сторожа, широки степи-равнины, непроходимы тундры-мерзлоты, реки-преграды, песчаные пустыни безводного юга, ледяные пустыни многоводного севера. Когда на севере полугодовалая ночь — на юге утренняя и вечерняя зори встречаются. Когда на севере от лютых морозов треск идет — на юге в то время самые нежные и духовитые цветы цветут. Велики просторы Сибирские: в разных концах их великие народы живут и о бытии друг друга не слыхивали. Владея великими просторами севера, якуты, остяки и тунгусы даже и в сказках не сказывали, что есть на юге Иртыш-река, и что тучны и привольны для кочевья великие степи заиртышские, и что живет там с незапамятных времен многоплеменный Киргизский народ.
О, киргиз, киргиз! Замкнутого небом степи, тебя не знает мир. Всадник от рождения, богатырь-певец от колыбели, в погонях и набегах храбрец, непокорный пленник и учтивый гость, щедрый хозяин, гостеприимный даже для врага, не прощающий ничьих неправых оскорблений кровавый мститель, — ты, киргиз, не вероломен в рыцарской любви. И хоть от времен творения женщина для тебя – рабыня, она же для тебя и божество, священная причина радости земного бытия и символ достижений бытия загробного. Лишь своей верностью к возлюбленным киргизские богатыри стяжали и непобедимость и бессмертие.
Более трех тысяч лошадей в табунах у Тохта-хана, сына Сырыбаева. Более двух тысяч рогатого скота, а баранов в ханских гуртах считать не принято. Двадцать пять отдельных пастухов, каждый с четырьмя подпасками, в двадцати пяти отдельных стойбищах пасут гурты и табуны Тохтахановы. Скот плодится, как растения в степи, — сам собою, по воле Аллаховой. Никогда в веках не мерены, никем не заселялись и не вспахивались девственные пастбища у западных отрогов Тянь-Шанских высот, на краю солнечной Туркестании.
Богат и добродушен, и чрезмерно тучен Тохтахан-киргиз. Женат он на трех женах, все три женщины живут в отдельных юртах, все полны здоровья и крови, но только старшая родила ему сына да вторая — маленькую дочку, а больше нет у него потомства. Не допусти Аллах — если своенравный и единственный сын Ахметбай в отчаянной борьбе с тремя соперниками из-за маленькой и глупой, хоть и прекрасной Фати-Нарзан сломает себе шею, — кто будет продолжать старинный Тохтаханов род? Кому достанутся все табуны его и все владения?
Четыре жениха Фати-Нарзан, четыре лучшие во всей степи джигита будут спор о девушке решать байгой: состязанием на лучших бегунцах. Чей конь скорей и легче пронесет джигита через ковыльные просторы до условных курганов, — тот и будет обладать ласками степной красавицы. Ахметбай ли, Тохтаханов сын, останется без Фати-Нарзан? Ахметбай ли не слетит вместе с конем с высокой горы в пропасть, если конь его не выйдет победителем? Не одобряет Тохтахан горячие волнения сына, но сам он поступил бы точно так же, даже несмотря на свои преклонные годы. И потому велик был риск и страшен день грядущий для рода Тохтаханова.
Был тонок, ловок, быстр во взгляде, но медлителен в движениях Ахметбай. Сверкание его черных глаз как молния, за ней вот-вот ударит гром. Но грома еще не бывало, лишь улыбка пьяной юношеской удали да изредка негромкий окрик на любимого коня. Ведь все в коне — и жизнь и смерть и Фати-Нарзан. Одно касание носком ноги украшенного тонкой золотой насечкой стремени — и миг посадки на самого сурового коня неуловим. Глаз киргиза, видевший так далеко, как далеко простираются степи, жадно заострен лишь в поисках Фати-Нарзан, которой он еще не видел. Как же мог он полюбить ее? А полюбил он потому, что и другие трое, не видевшие, готовы победить или погибнуть, — сердце киргиза видит лучше глаз. Всю страсть степного сокола, всю волю и все рыцарство былых родов собрал он в острие своего взгляда, ведь перед ним только Фати-Нарзан — в этом мире, если конь его обскачет трех лучших коней степи, и в мире лучшем, если конь его отстанет от коня счастливца. Готов на самое последнее достойный сын хана киргизского, потому что как степной пожар — любовь его, как небесная молния — желание его.
Но в тот день, когда вся горечь и весь страх Тохтахана влились все в то же сердце Ахметбая, запылавшее полным пламенем проснувшейся надежды и любви, — накануне небывалых состязаний из-за Фати-Нарзан, — прискакал один из дальних пастухов и разнес повсюду трепетную весть:
— “Киргизы от Иртышских степей со всеми табунами укочевывают в глубь степей и движутся в Монголию, в Китай и в Туркестан”.
Молниею облетела эта весть все кочевья и стойбища, все киргизские аулы. И тронулись со своих пастбищ все киргизы, и подняли, и двинули все табуны, весь кибиточный скарб, все племена и роды. Степные просторы огласились пронзительными криками пастухов, диким мычанием потревоженных гуртов рогатого скота, блеянием бесчисленных баранов. Ржали тысячами голосов перешедшие на рысь испуганные табуны лошадей. А перешли они на рысь потому, что позади их на необозримой широте степей появились и заполыхали огненные языки степных пожаров. Это значило, что откочевывавшие последними отрезали возможность их преследования каким-то смертельным врагам. Красные знамена пламени стоверстными зигзагами пошли на запад, к Иртышу, за которым где-то далеко сидит на золотой горе великий, страшный русский царь, не ведавший, что, покоренный давно, никогда и никому не покорился еще сын вольных степей — киргиз.
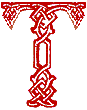 уманны берега Енисея осенью, пасмурно величие его среди таежных просторов, и суров его неукротимый бег к Океану. С северных вершин Алтайских, мимо величавых гор Саянских, с неумолкаемой победной песнею спешит Енисей к Океану, спешит века, спешит тысячелетия, и нет конца серо-зеленым рядам его быстрых волн. Пышно богат он в лазоревых днях светлого лета, неуемен и грозен весною, когда ломает ледяную броню зимы, но зимою он, закованный в серебряные латы, белый среди бело-зеленого, как бы засыпает богатырским сном. Спит и грезит, и молчание его величаво: зимою у него нет настоящего — у него тогда все в прошлом и все в будущем...
уманны берега Енисея осенью, пасмурно величие его среди таежных просторов, и суров его неукротимый бег к Океану. С северных вершин Алтайских, мимо величавых гор Саянских, с неумолкаемой победной песнею спешит Енисей к Океану, спешит века, спешит тысячелетия, и нет конца серо-зеленым рядам его быстрых волн. Пышно богат он в лазоревых днях светлого лета, неуемен и грозен весною, когда ломает ледяную броню зимы, но зимою он, закованный в серебряные латы, белый среди бело-зеленого, как бы засыпает богатырским сном. Спит и грезит, и молчание его величаво: зимою у него нет настоящего — у него тогда все в прошлом и все в будущем...