СТО ПЛЕМЕН С ЕДИНЫМ
ГЛАВА ПЯТАЯ
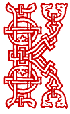 добру ли для других, к худу ли для себя, но русская душа мягка и незлопамятна. Широта ли в этом или узость, глубина ли или неведение, но русский простой человек редко мстит даже тогда, когда он доведен до полного отчаяния. Чаще же всего он и на злодея своего смотрит с искреннею жалостью. Неведомо по каким душевным побуждениям, но ротмистр вскоре позвал к себе Кондратия и, вручая ему золотой пятирублевик, криво усмехнулся и сказал:
добру ли для других, к худу ли для себя, но русская душа мягка и незлопамятна. Широта ли в этом или узость, глубина ли или неведение, но русский простой человек редко мстит даже тогда, когда он доведен до полного отчаяния. Чаще же всего он и на злодея своего смотрит с искреннею жалостью. Неведомо по каким душевным побуждениям, но ротмистр вскоре позвал к себе Кондратия и, вручая ему золотой пятирублевик, криво усмехнулся и сказал:
— Тут при лазарете есть зубная докторша. Иди к ней и скажи, чтобы тебе вставила зуб. От меня тебе на память, — прибавил он, стараясь шуткою смягчить нанесенное солдату оскорбление.
— Покорнейше благодарю, — сказал Кондратий так, как должен был сказать всякий солдат, получивший от начальника подарок. Но вышло так, что в благодарности солдата прозвучала снисходительная жалость к офицеру.
Кондратий где-то тут же за спиной почуял деда Фирса Платоныча, которого нельзя было вообразить побитым и затем купленным за деньги. Но именно дед Фирс сейчас как бы шепнул ему: “Возьми, не обижай его...”. И вышло, что не себя уже жалел, а командира, который по горячности лишил себя такого преданного ординарца. Жалость обогрела сердце. Простым, добросердечным мужиком шагнул он ближе к офицеру и самыми душевными словами произнес упрек:
— Што ж, можно и к зубному сходить. И обиду я свою забыть могу... Ну вот девчушку ты напрасно изобидел словом...
Ротмистр по-своему, по-господски, понял это движение мужицкой души. Самое глубокое, самое истинно-христианское офицеру показалось наглостью.
— Ты не забывайся! — прервавши слова Кондратия, сказал ротмистр. — Я тебе не “ты”!.. Иди!
Непроходимая, тяжелая стена опустилась между ними, которую Кондратий все-таки истолковал для себя мягче:
— “Нельзя ему... Должон он быть без сердца. Для порядку...”
Но его собственное сердце застучало болью и тревогою за многое и многое, а больнее всех — за девочку-Мишку, лежавшую в лазарете. Запросилось сердце под улыбку молодой сестрицы — что-нибудь да скажет утешительное. Может, что-нибудь еще про дяденьку Василия расскажет. И уж не ротмистра, а самого себя стало жаль Кондратию. Что ежели ожесточится его собственное сердце? Ведь он единственный теперь держатель рода. Род надо держать терпением и жалостью, а от озлобления испепелится все хорошее. Нехорошо уж то, что не хотелось ему золотой зуб вставлять. Как-нибудь отдать надо назад пятирублевик ротмистру. И помириться бы с ним надо: должен он понять, что готов Кондратий от всего сердца простить ротмистра. И все-таки пошел Кондратий в лазарет, к зубной докторше.
Докторша была большая, полная, в годах. Снимая мерку с зуба, нечаянно прикасалась грудью к плечу Кондратия и спрашивала просто и немного строго:
— Зуб-то, небось, командир выбил?
— Никак нет! С лошади на ученье упал.
— То-то, упал! Знаю я вас. А пятирублевик-то кто дал? Сам богатый, что ли?
— Так точно. Мы с достатком.
— То-то вот — с достатком. Знаю я вас!..
Видно было, что у этой женщины много накопилось материнской ласки, но она старалась прятать ее в своей невзабольшной строгости. Может, потому и на войну пошла, чтобы избыток ласки на солдат истратить. Больно уж полна, тепла и сугревна – мать, да и только.
— А сестричку молодую нашу где встречал?
— Никак нет, не доводилось!
— То-то вот, не доводилось! Знаю я вас, — в этом “знаю я вас” было недоверие и все то же ласковое сердце.
— Раскрой рот шире! — мягкая рука сердито отстранила его руку от пушистой кучерявой бороды. – Не бойсь, не поврежу кудрей твоих. Ишь, зубы-то как у тигра. Нельзя такие золотом портить! Золото свое побереги на черный день. Белый тебе вставлю. Завтра приходи опять. А теперь иди. Сестричка тебя видеть должна. И девчушка об тебе скучает. Иди да зубы-то не ощеряй — прореху залатаем, тогда хоть беспрестанно смейся. А так других смешить будешь. Иди по лестнице, наверх.
Когда Кондратий с широкою улыбкой вошел в палату, где лежал Мишка, — Мишка встретил его без улыбки, с широко открытыми, испуганными глазами.
— У-ух, я думал — это вовсе не ты...
И такими же чужими и даже негодующими глазами встретила его вошедшая в палату молодая сестра.
— Что с вами? — спросила она строгим шепотом. — У вас такая страшная усмешка... О-о! У вас нет зуба...
Кондратий перестал улыбаться и понял, что он теперь не должен улыбаться.
— Ничего... — сказал, кривя рот, чтобы справиться с новою, обидною усмешкой. — Скоро новый вставят.
Он стеснялся смотреть в лицо сестры и только исподлобья поглядывал на Мишку, но Мишка вдруг расплакался и протянул руки к Кондратию, всхлипывая:
— Я знаю, это “он” тебя!.. Из-за меня...
— Да нет же! Это я с лошади упал... Зашибся.
Сестра быстрым движением обеих рук поправила косынку на себе, и большие серые глаза ее блеснули молнией куда-то вдаль, через окно.
— Вы не должны этого прощать ему, — сказала она низким голосом. — Вы не должны смеяться этой страшною улыбкой. Вы — Чураев! Вы...- она не досказала и спрятала глаза под длинными ресницами, из-под которых еще раз блеснула молния, на этот раз влажная, смягченная первыми каплями из грозовой тучи.
Кондратий поднял голову, и лицо его с закрытыми губами стало строгим и благообразным. Он решил более не улыбаться и с изумлением смотрел, как молодая женщина-сестра быстро смахнула набежавшие слезинки и, отвернувшись от него, сказала коротко:
— Пойдемте.
И пошла впереди, чуть склонивши голову и придерживаясь тонкою, слегка дрожащею рукою за красный крест на белом переднике.
Никто бы не узнал теперь в этой тонкой и высокой сестре милосердия еще недавно полную степной вольности и веселой стремительности Гутю Серкову. Это была совсем новая Гутя, с плавными, неторопливыми движениями, с негромкою, скупою речью и с какой-то неотвязною и напряженною мечтой или заботой. Как никто другой в этом лазарете, она отдавала себя делу милосердия. Как ни одна из сестер, она знала все свои обязанности и права и упорною затворницею проводила свой редкий и короткий досуг за чтением книг. Только здесь, перед лицом страданий и смерти, которая так часто и так близко приходила к людям на ее глазах, книги стали для нее убежищем и знания и радости и — просто отдыха. Быть может, потому ее и почитали здесь все остальные сестры как старшую, уважали и любили санитары и почтительно сторонились не сдержанные в ухаживаниях офицеры. А врачи с ласковою шуткой называли ее матушкой-игуменией.Казалось, что со времени ее отъезда из Сибири прошли не месяцы, а годы. На ней была вся та же кожаная, мужского покроя куртка, но она уже обмялась, обжилась на ней и обрисовывала ее тело мягкими, спокойными чертами. Под длинной серой юбкою, под кожею мужского сапога, под мягкой кожею самой куртки покоился привычный аскетизм труда и недоспанных ночей у постели умирающих. И не казалось удивительным, что ее стройное, полное упругой молодости тело не заботилось и позабыло о красоте своей. Из-под косынки изредка выглядывала прядь каштановых волос, но быстрое движение руки, красной от постоянного мытья и грубоватой от неустанного труда, — и прядь волос небрежно заправлялась под полотно косынки.
Когда Кондратий вошел за нею в небольшую комнату с двумя кроватями, он был поражен, увидевши, что именно такая чистая, почти святая сестрица быстро и молча закурила папиросу и, севши на свою кровать, жадно, закрывши глаза, затянулась синим зельем. Затем она открыла глаза, пристально впилась ими в лицо Кондратия и виновато, чуть заметно улыбнулась. И в этой улыбке обронила, а потом обильно пролила на Кондратия давно накопленную в молчании и в тревожном ожидании такую теплую, такую слезно-трепетную ласку.
— Вы очень похожи на Василия, — сказала она наконец.
Кондратий снова позабыл о своем зубе, и снова из улыбки его сделалась гримаса. Гутя немедленно отвела от него взгляд, и меж бровей ее образовалась складка. Она встала и прошлась по комнате. Грудь ее высоко поднялась, как бы от рванувшегося в ней вихря слов и мыслей, но не знала, что говорить, и говорить ли с этим человеком? Взяла со стола круглое зеркальце и поднесла его к лицу Кондратия. Продолжая улыбаться, тот невольно увидал себя в зеркале и немедленно же отстранил его от себя.
— Нет, вы посмотрите, что он сделал с вашей человеческой улыбкой? — она рванулась к висящей в уголке иконе Богоматери, но вместо молитвы с порывистым вздохом простонала глухим голосом: — Я проклинаю себя за то, что рвалась к ним из своих диких степей, что я могла мечтать о их городах, о их пакостной жизни! И вот теперь, когда я узнала, за что он выбил вам зуб, я еще лучше поняла, почему находится в тюрьме ваш дядя, Василий Чураев. Таким нет ходу в этой жизни. Я видала его только дважды, но я поняла, почему был распят сам Христос. Я поняла, что люди — все еще не люди. Я поняла, что среди них невыносимо жить немногим, таким, как Василий... Я поняла теперь, я поняла!..
Она села на кровать своей подруги, а Кондратию показала на свою, видимо, собираясь ему что-то многое рассказывать, но тотчас снова встала, снова закурила свежую папиросу и прошлась по узенькой полоске меж кроватями. Потом села рядом с Кондратием и посмотрела на него упорным, проникающим в глубину, суровым взглядом, в котором были скорбь, тревога и надежда.
— Вот что, — она вымолвила это твердо и при этом выпустила из округленных, ставших совсем маленькими губ струю табачного дыма прямо в лицо Кондратию. — Через месяц или полтора, не позже мая, я возьму отпуск и поеду на Алтай, — она увидела, как неприятен ему дым, и быстро, плавным движением руки развеяла его. — Можете вы тогда взять отпуск тоже? — спросила она и прищурилась.
Холодная волна нахлынула к шее и к голове Кондратия снизу и сразу же стала горячей, спускаясь медленно вниз и снова охлаждаясь, даже замораживая все его тело. Что-то мелькнуло, как острие ножа, в глазах сестры. Он даже встал с кровати, но продолжал смотреть на нее упорным, тоже испытующим взглядом, не спрашивая ее и не отвечая на ее вопрос.
— Вы — Чураев! Я вижу это потому, что вы умеете молчать. И молчите до времени. Идите и старайтесь в службе, чтобы вам через шесть недель дали отпуск. Пока больше ничего. Идите!
* * *
Через неделю зуб Кондратия был вставлен, белый, натуральный, крепкий. Золотой пятирублевик он отнес командиру и, вытянувшись, отрапортовал:
— Покорнейше благодарим, но так что золотой нашему брату не к лицу.
Ротмистр взял пятирублевик и молча, долгим взглядом испытывал: что это — глупость или особое мужицкое гордячество?
— Кто научил тебя вернуть мне золотой? Небось, эти... — он грубо обозвал сестер.
— Никто на свете, ваше благородие. Так что я за все в ответе сам.
Ротмистр не нашелся что-либо сказать и молча отвернулся от солдата. Кондратий же ушел от него человеком облегченным от стыда.
* * *
Ротмистр еще ни разу не бывал в лазарете и стеснялся даже при случайной встрече с главным врачом заводить какие-либо неслужебные разговоры. Причиной был, конечно, Мишка: история с Мишкой все еще казалась командиру эскадрона не оконченной. Но младшие офицеры не могли не проторить туда дорожку, главным образом, из-за молоденьких сестер. Однако по приказу старшего врача все сестры были под надзором Ирины Петровны, зубной докторши, которая, несмотря на свою мягкотелость и добросердечность, держала молодежь в ежовых рукавицах.
— Куда лыжи направили? Небось, на свидание с офицерами? Знаю я вас! А коли нет, так меня обождите. Сейчас с вами пойду. Вернее дело будет. А то в капкан какой запрыгнете.
Сестры с неохотой соглашались, меж собой ворчали и фыркали, а все-таки любили Ирину Петровну и слушались ее как мать. И как настоящая мать, она заботилась о их развлечении, устраивала им катания, прогулки в ближайший разоренный городок с подобием кинематографа; изредка устраивала даже приемы в главном барском доме.
Ротмистр получил приказ о выступлении на боевой участок в составе одного из кавалерийских полков, и по этому случаю Ирина Петровна устроила для солдат эскадрона баню, полную смену белья, чай с сухим печением, а для офицеров — ужин.
Ужин был обильный, дружеский, с вином и студенческими песнями, а после ужина под доморощенный оркестр из соединенных лазаретных и эскадронных музыкантов начался самый настоящий бал.Здесь, впервые увидав сестру Серкову, эскадронный наметил было ее себе в пару, но Гутя мило улыбнулась и сказала просто:
— К сожалению, не умею.
— Значит, не хотите?
— Нет, значит, не умею. Честное слово! — она вспыхнула, раскраснелась от неловкости и все-таки прибавила: — Да если бы и умела, сегодня не могла бы веселиться.
Гутя не хотела показать другим сестрам, что она не может видеть, как они танцуют в форме сестер милосердия. А тут подоспел Мишка; глаза у Мишки были не на шутку широко раскрыты, и по губам его Ирина Петровна угадала, что случилось что-то необычное. Она выбежала следом за сестрою, но тотчас же вернулась и стала успокаивать встревоженных гостей.
— Ничего особенного. Привезли с позиции сестре письмо какое-то. Музыка, играй!
Ирина Петровна потащила за рукав конфузливого и неуклюжего земского деятеля;
— Ну-ка, Петр Степаныч, покажем им, как настоящий вальс танцуют. Музыка, вальс играй! Вальс!
Старший врач был полный и высокий, в очках и с почтенной лысиной, которая забавно стала мелькать перед глазами всех собравшихся, и потому всем сразу стало весело, всем захотелось пойти следом за полновесной пожилою парой, под которою слегка покачивался выцветший, неровный пол в большой барской зале.
* * *
Перед Гутей, пришедшей из зала, где танцуют, с веселою открытою улыбкой в коридоре стоял Кондратий. Лицо его было сурово, а глаза горели мольбой и ожиданием от сестры необычайного решения. В руках его было распечатанное, на небольшом листке письмо.
— Так что к вам, сестрица, за советом. Только чтобы с глазу на глаз.
Он покосился в сторону Мишки, но Мишка, отбежав подальше в коридор, стал там как бы на посту, но как только Гутя и Кондратий скрылись за дверью приемной, он подбежал и приложил ухо к оставшейся не прикрытой щелке притвора.
Мишка был одет опрятно и даже щегольски. На нем была новая гимнастерка, суконные шаровары, маленькие сапоги, а на голове косматая папаха, как на настоящем текинском казаке. Но в очертаниях тонкого личика, в нежности гибкой шеи и в кошачьей грации движений явно обнаруживалась хрупкость девочки. Своим жадным любопытством к тому, что происходило за дверью, Мишка выдал себя окончательно. Но и то, что он услышал, стоило какой угодно жертвы, чтобы быть подслушанным. Только одно слово “Таисья” бросило Мишку в жар и в холод. Мишка даже отскочил от двери, когда все сразу понял. А понял он все ясно: письмо было от Таси. Значит, Тася напала на след Любы, и значит, то, что затевается теперь с Гутей, будет прервано, и вообще Мишке пришел конец. Начнется снова либо прятанье и бегство, либо позорное водворение восвояси, в Иркутск.
— “Ни за что!” — прошептал Мишка и стрелой пустился убегать, еще не зная, куда и зачем, но по дороге собирал всю находчивость, всю хитрость, чтобы что-нибудь придумать. Почему-то задержался у аптеки, и пришла ему мгновенно озорная мысль, смешная и вместе смелая. Мишка знал, где положила Гутя тот пакетик, из которого не так давно она давала кое-что больным. Мишка схватил этот пакетик целиком и помчался с ним обратно. Снова припал к дверной щелке и снова услыхал невероятные вещи. Говорил Кондратий:
— Раз што послезавтра мы выступаем на позиции, то, стало быть, невозможно мне об отпуске даже заикаться. А другое — што свою присягу перед государем и перед отечеством даже и для ради брата али для отца родного сломать не в моей воле.
Голос Гути слышен был не так отчетливо, но все же Мишка уловил:
— Ломать присяги и не надо. Но пойми: такой человек, как твой (она так и говорила теперь: твой) дядя, ценнее для отечества сейчас, нежели целый полк. Не ради него самого и я стараюсь, а тоже для отечества.
Кондратий продолжал упорствовать:
— Послезавтра на позиции идем, и может, мне не суждено возворотиться.
— Почему же ты не веришь мне? Ты можешь быть героем, если спасешь героя настоящего, народного!
Кондратий промолчал. Гутя снова в чем-то убеждала, упоминала имена и Любы и Таисьи Стуковой и повторяла, что нельзя откладывать, надо спешить.
Кондратий продолжал молчать.
— Скажи: ты веришь мне или не веришь? — добивалась Гутя.
— Так точно, верю. Только ежели бы волю дяденьки Василия узнать. Ево же воля для меня как воля Божья все равно.
— Ну а если бы он согласился?
— Никак не можем мы об этом узнать.
Наступило молчание, после которого Гутя чуть слышно произнесла:
— Может быть, ты прав. Может быть, он свободы нашей не желает сам.
— Какая уж свобода, ежели ее придется красть и прятать?!
— Иди! — и слово это прозвучало грустно, как далекое лесное эхо.
Мишка отскочил от дверей, но когда Кондратий вышел, Гутя строго заглянула в глаза Мишки.
— Ты слушала? — спросила она Мишку как Любу.
— Так точно! Я все слышал, — твердо, оставаясь Мишкой, отвечала Люба.
Сестра взяла Мишку за руку и плотно за собою затворила дверь.
— Хочешь ты быть настоящей героиней? — спросила сестра.
Мишка понял, что в эти минуты, очевидно, ему необходимо быть не маскарадным Мишкой, а настоящей девочкою Любой, которой что-то важное хотят доверить.
— Ежели ты желаешь быть настоящей героиней, такой, о каких даже и в книжках не прописано, то умей молчать о том, что слышала. А если ты сумеешь быть глупым, бестолковым мальчиком, то я дам тебе одно очень интересное поручение. Понял, Мишка?
— Никак нет, — с лукавою усмешкой отвечал сразу поглупевший Мишка.
Сестра даже испугалась и подумала, что Мишка понял что-то, чего не поняла сама она как следует. Но улыбнулась и ответила:
— Ну, молодец, что ничего не понял.
— Рад стараться, сестрица! — еще громче и еще глупее сказал Мишка, и на этот раз в глазах Мишки мелькнул огонек совсем не детского коварства. — Только для такого дела надо много денег, сестрица! — с прищуркою сказал хитро ухмыльнувшийся мальчишка. И для того чтобы сестра поверила, как твердо решила девочка Люба стать большою героиней, Мишка скривил лицо в гримасу строгой бабушки Арины и прошамкал по-старушечьи: — На поворотах легше, мила дочь. На поворотах легше.
Гутя рассмеялась, но на этот раз не поняла слов Мишки. Она даже смутилась перед его шуткой, а Мишка снова превратился в дурачка и, почесывая затылок, затянул, как нищий под окошком:
— Е-ежели бы у меня были богатые тетки и дядьи, да ежели бы нашлась царевна, а у царевны бы царевич был в неволе... Тогда бы я оборотился соколом и полетел бы я...
— Куда, куда? — не выдержавши, горячо спросила Гутя.
Мишка неодобрительно махнул рукой:
— Ну, вот и выдали себя! Э-э, с вами пропадешь! — Мишка сделал строгое лицо: — Царевна не спрашивает, а приказывает, а дурачок Мишка, как Ванюшка-дурачок, на Коньке-Горбунке скачет за моря и все исполняет.
Гутя схватила Мишку за голову и нежно его поцеловала.
— Ты, Мишка, можешь стать большим человеком!
Мишка скривил мордочку в недовольную гримасу:
— Хорошо бы человеком, а не бабой.
Они громко рассмеялись и разошлись, пряча друг от друга то, с чего начался весь этот разговор. Как будто не было письма от Таси Стуковой, как будто Мишки не касалось это письмо, требующее выдачи Любы, на след которой удалось, наконец, напасть именно Тасе, немало затративший денег на поиски отбившейся от дома девочки.
Мишка вдруг остановился в коридоре, снял папаху, и в расширенных его глазах мелькнула новая, смелая, даже отчаянная мысль. Он даже закрыл глаза и так, почти слепком, поднялся наверх к своей постели. Ему надо было побыть одному.
* * *
У Августы Серковой, взрослой, опытной сестры и вполне сложившейся женщины, вдруг ушла куда-то почва из-под ног. Ни один из ее планов не мог быть выполнен. Между тем и Кондратий и даже Мишка, видимо, опередили ее во всем, и оказалось так, что в день ухода эскадрона Кондратий был доставлен в лазарет в тяжелом состоянии. У него оказался странный вид дизентерии. Мишку же сестра застала врасплох с тем самым письмом от Таси, которого Мишка ни в коем случае не должен был знать. И сестра тут поняла, что Мишка и Кондратий что-то знают более ответственное, нежели Гутя. Мишка же, как назло, старался поразить сестру новыми выходками. Он то и дело заговаривал с нею на разных языках, и так как Гутя ни одного из иностранных языков не знала, то она совсем терялась и была в нелепом положении. Она не знала, как себя вести и чем помочь Кондратию, который с каждым днем слабел и истощался. Но самое поразившее Гутю непонятное событие разыгралось как раз в то время, когда она получила назначение в одну из передовых летучек, куда она давно просилась и куда теперь должна была выехать внезапно, оставивши Мишку и Кондратия как бы на произвол судьбы. Прощаясь с Мишкою, она, однако, не заметила в нем никакой тревоги, а напротив, Мишка заговорщическим тоном ей признался:
— Тасе мы написали. Она скоро сюда приедет, и вы, сестричка, теперь на нее положитесь.
Но Гутя на этот раз запротестовала:
— Боже упаси вас без меня что-либо начинать. Вы можете погубить того человека. Этого надо спасти, Кондратия.
— Сестричка, вы не беспокойтесь за него. Это я его нарочно слабительными конфетками накормил. А потом в лекарство слабительного подсыпал...
Гутя слушала и ушам своим не верила. Дурашливость Мишки показалась ей гениальной. Кондратий даже сам не знал, на что способна эта маленькая девчонка, столь удачно разыгравшая мальчишку. Но тем не менее Гутя уже искренно боялась затеянного ею рискованного плана, который оказался целиком в руках отчаянной малютки. Надо было теперь предпринимать что-то свое, чтобы в самом деле не погубить Василия, а тем более ни в чем не повинного Кондратия. Между тем сама она должна была покинуть лазарет немедленно, и все предоставлялось случаю или слепой судьбе.
* * *
В один из следующих дней на автомобиле, в сопровождении двух важных штаб-офицеров, в лазарет приехала Таисия Стукова, хотя и одетая сестрою милосердия, но державшая себя так же вольно и с очаровательным легкомыслием. Люба более не старалась изображать из себя Мишку и, расплакавшись, долго исповедовалась Тасе наедине. Но приезд Таси все-таки закончился тем, что Люба осталась при Кондратии и даже должна была, в качестве того же Мишки, сопровождать его для поправления здоровья на родину.
В вагоне Мишка стал Кондратия звать тятенькой и тем самым обеспечил себе неразлучность с младшим из Чураевых до самого Алтая. А через несколько дней в особом санитарном поезде получила, при тяжело раненном офицере, служебную командировку в Сибирь и Таисья Стукова. Мишке удалось вовлечь в рискованную авантюру Тасю, давно мечтавшую спасти таинственного узника. Весь план Тасей был, конечно, пересоздан по-своему, но пока что Мишка в нем играл первенствующую роль. Ничего не знавший об этом Кондратий, радуясь случайной эвакуации на родину, нежно относился к Мишке-девочке как к несчастной, беспризорной сироте. И никогда не догадался бы, что эта девочка теперь играет его головой и головою его дяди, заключенного Василия Чураева. Не знала и Люба, что Таисья Стукова везла с собой подложное эвакуационное свидетельство на имя никому не известного подполковника, нуждавшегося в поправлении здоровья на одном из кумысолечебных и глухих курортов Алтая.
Во всяком случае, ставка была, по крайней мере, на пять голов, в том числе и на голову сестры Серковой, ничего теперь не знавшей о продолжении ее плана.
В первых числах мая бабушка Арина Ивановна Торцова была поражена внезапною телеграммою из Барнаула:
— “Эвакуирована в Барнаул. Поправляюсь. Срочно переведи мне тысячу рублей. Таисья”.
У бабушки Арины таких денег не было, но она с трудом достала их, чтобы все-таки не отказать несчастной внучке, наконец-то “пострадавшей” за родину.
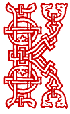 добру ли для других, к худу ли для себя, но русская душа мягка и незлопамятна. Широта ли в этом или узость, глубина ли или неведение, но русский простой человек редко мстит даже тогда, когда он доведен до полного отчаяния. Чаще же всего он и на злодея своего смотрит с искреннею жалостью. Неведомо по каким душевным побуждениям, но ротмистр вскоре позвал к себе Кондратия и, вручая ему золотой пятирублевик, криво усмехнулся и сказал:
добру ли для других, к худу ли для себя, но русская душа мягка и незлопамятна. Широта ли в этом или узость, глубина ли или неведение, но русский простой человек редко мстит даже тогда, когда он доведен до полного отчаяния. Чаще же всего он и на злодея своего смотрит с искреннею жалостью. Неведомо по каким душевным побуждениям, но ротмистр вскоре позвал к себе Кондратия и, вручая ему золотой пятирублевик, криво усмехнулся и сказал: