VIII. ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО
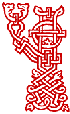 то ни говори, как ни рассказывай, а все что-то останется недосказанным либо недослышанным, а то и вовсе непонятым. Жизнь — она мастер на все руки, за нею не поспеешь, не уследишь. Надо же вот случиться так, что приезд незнакомой гостьи из глубины гор оказался как бы к счастью, к спасенью всей семьи от явного разбойничьего нападенья. Тут всяко можно рассудить, уж больно много разных случаев в одном. Но и перед самым этим нападеньем, хоть и некогда об этом было говорить и думать, Настасьино горе — девять месяцев нет весточки от мужа из действующей армии — всех молодиц-солдаток в доме, тайно друг от дружки, заставило вспомнить и встревожиться: а когда же последние письма пришли от их мужей? Писали они не так уж часто, но все же в месяц раз письмо придет, а теперь, если посчитать, то от Парунюшкиного героя письмо пришло перед Пасхой, а от Пасхи — вот уж Троица — почти что два месяца прошло... А от сына-гвардейца и того дольше не было известия. Ладно ли там с ними?
то ни говори, как ни рассказывай, а все что-то останется недосказанным либо недослышанным, а то и вовсе непонятым. Жизнь — она мастер на все руки, за нею не поспеешь, не уследишь. Надо же вот случиться так, что приезд незнакомой гостьи из глубины гор оказался как бы к счастью, к спасенью всей семьи от явного разбойничьего нападенья. Тут всяко можно рассудить, уж больно много разных случаев в одном. Но и перед самым этим нападеньем, хоть и некогда об этом было говорить и думать, Настасьино горе — девять месяцев нет весточки от мужа из действующей армии — всех молодиц-солдаток в доме, тайно друг от дружки, заставило вспомнить и встревожиться: а когда же последние письма пришли от их мужей? Писали они не так уж часто, но все же в месяц раз письмо придет, а теперь, если посчитать, то от Парунюшкиного героя письмо пришло перед Пасхой, а от Пасхи — вот уж Троица — почти что два месяца прошло... А от сына-гвардейца и того дольше не было известия. Ладно ли там с ними?
С первых дней приезда Насти Чураевой Макрина Степановна с каждою попутною подводой из Березовки, куда еженедельно отвозят масло, ждала каких-либо вестей. Почту по заимкам не развозят, а на ближайшей сельской почте — двадцать пять верст в сторону — бывать не приходится, надо гнать лошадей вперед и обратно пятьдесят верст. Вот и вышло так, что в Березовке, хоть и девяносто верст расстояния, а выходит попутно и сподручно, и каждую неделю прямое сообщение. Оттуда и телеграмму можно послать, и деньги переводом отправить и посылочку солдатам. Так сложилось и наладилось, а вот, глядите же, нету писем ни от единого из сыновей и от зятьев и ни от кого из соседей, которые тоже через Полуяровых получают и отправляют письма и посылки. Стало быть, слухи о всех этих непорядках там, в России, не досужие шутки, и вот в каком виде докатились они до заимки Полуяровых: прямой разбой, четверо вооруженных сорвались и наскочили, как камни с горы…
Грозной тучей дума эта ворвалась в сознание Макрины Степановны, волной огня охватила и зажгла все сердце болью. Материнское сердце — это раз, а и женское доброе сердце, которому всех жалко, — это два. Вот даже и этих разбойников как будто жалко, а уж на что противны!
Сразу после свалки и вязки старик и муж ушли из трапезной, и молодые разбежались, а она осталась. С места не могла сойти. Как попятилась под выстрелом, села на кухонную табуретку в дверях между кухней и трапезной, так и сидит как парализованная.
В нее ведь метил, ее под пулями держал вот этот негодяй, который теперь лежит и храпит, как болотная лягуша. И все храпят на разные голоса, все пятеро. Один со свистом, другой с бульканьем в горле… А она, как громом пораженная, сидит и как будто наглядеться на скотов этих не может. У Панфила и так день рабочий пропадает, да и молодицам и девицам надо было воздуху глотнуть от этакой перепалки с поцелуями... И хорошо, что позабыли о ней. И сама она себя впервые позабыла. Никогда не доводилось этакое пережить... Вот полюбуйся на убийц своих, пока жива, и подумай обо всех, кому вот так наставят нулю в лоб и без вины, без причины грохнут. А разве могло такое случиться в мирное-то время? Господи, да что же происходит на свете?
В ответ на это ласковым весенним ветерком пронеслась перед Макриной вся молодость... На Троицын день впервые встретились с Панфилом. Ой, же и верзила, испугал своим ростом. Хоть и сама она была уже в годах, двадцать ей минуло, а ему в ту пору было двадцать один с половиной. Как единственного сына-кормильца родителей, освободили его от солдатчины. Двадцать девять лет тому назад, в Троицын День, когда вся молодежь в поле и в лес гурьбой ходит, цветы рвут, венками девушки головы украшают. Поймал ее Панфил во время догонялок, поймал да огнем ожег: за грудки ухватил, бесстыдник... Ну, уж поняла, не зря стыдом горела. Поженились, свадьба была в зимний мясоед, на все село колокольцы гремели. Родни у тех и у других столько, что запряжек свадебных и пересчитать не удалось.
В ту пору невест для своих сынов родители выбирали. И на Макрину жребий пал не без смотрин, но и Панфил — детина могутной, а молчаливый — уперся на своем:
— Хочу Макрину без смотрин!
Ну и свекор и свекровка единодушно согласились: по всему подходила девка, телом дебелая, костью крепка, ростом высока, а и поведеньем, четвертая дочь в семье, на все село примерная была. В семье родилась небогатой, да и родители Панфила не были тогда богатыми.
Поженились и впряглись во все гужи, с того и хозяйство пошло шириться, и свекор и свекровка не нарадуются, вот откуда и богатство разрослось.
Вот уже и сорок девять лет Макрине, а ни одной сединки к голове. А и трудилась наравне с мужем, пока дети подросли, и родных теряла, оплакивала, и забот немало было всяких. Так уж жизнь Господь послал счастливую и характер мирный мужу и жене. А свекор, дай Бог здоровья и долгого веку, порядок веры крепко сохранил. Миром да согласием, да честным трудом всей семьей и благоденствие построилось. Даже и не бывало, чтобы пререканья со старшими их труд затемнили.
Не было в Макрине ни гордости, ни лести, ни чрезмерной прыти в угождении свекру и свекровке, но и не проспит, не опоздает, дверью не хлопнет, грубого слова никому скажет.
Наградил Макрину Бог здоровьем, детей рожала без повитух, только свекровку позовет, возьмет в зубы уголок подушки, прижмет ее к животу и ходит, ходит, пока Господь не разрешит. Потому и выкормила, вывела на свет, как на подбор, молодцев-сынов и дочек, одна другой краше. Почти что тридцать лет с Панфилом прожили на зависть всем. С ним и новый большой дом строили, с ним и скотоводство и пашни расширили. Вот уже и старость подходит, и, ежели бы не война, отнявшая сынов, зятьев и братьев и соседей, жить бы да Бога благодарить за счастье. И вдруг вот на тебе! Вот они, вот эти! Смотрела Макрина на связанных спящих людей, наполнивших трапезную пятью разнозвучными храпами, такими храпами, какими и скоты не храпят, разве только когда подыхают... Смотрела, не могла подняться, слышала хохот и бабьи взвизги на дворе, радуются, что несчастье миновало. Смотрела, не желая видеть, и думала, не желая думать. Думала о том, что ведь и у них у каждого есть мать. Читала она где-то — от дочерей уже взрослою научилась читать, — не помнит точно по порядку, а сердцем материнским чует, что матери вот и таких оплакивать должны. Аль должна каждая мать отвечать за всех разбойников, за дураков и за уродов?.. Там про это не было сказано. Там все о матери было написано. Как песня спета про мать дорогую.
Кто он и где тот человек, который написал такие нежные слова о матери? Должно быть, сам он был несчастный, быть может, потерял мать, либо жену, либо невесту. Но вот слышит она его слова, как бы тут он въяве говорит их. Поплачь, говорит, поплачь, русская женщина! Поплачь для облегчения души своей, русская жена, сестра, невеста. И ты, бабушка, поплачь! А особливо ты поплачь, русская крестьянка, потому что ты родила, и вскормила, и вынянчила, и на коня посадила великого воина несметной русской рати! Ты, говорит, родила и вскормила всю рать Христолюбивую от начала веков, с тех давних пор, как Святая Русь крещенье приняла. И ты же их оплакала, когда костями за Русь полегли али когда калеками, без рук и без ног, они вернулись в бедную, ветром подбитую избушку твою. А и ты же, мать, сестра, невеста и бабушка, ходишь и до сего дня на могилы их братские, и разыскиваешь могилки их, потерянные в неизвестности, а и не знаешь, что сын твой, и муж твой, и твой возлюбленный лежит костями на поле не схороненным, птицей хищною обклеванным, зверем диким обглоданным!..
Дальше было сказано еще о том, как крестьянка и рабой была, а героев-воинов рождала и героев-рыцарей прекрасных воспитала. А любовью своей раба в господина обратила, и господина кротостью покорила, и трусов нежностью и красотой своей на смелый подвиг подвигала, и молиться Богу научила, и из тьмы язычества неверных выводила, и песни сладкие и песни грустные о жизни великой сложила, и верой Христовой всю Русь просветила.
Тут Макрина поникла головой, почуяла, как муравьями пополз по голове ее озноб, такая грусть-печаль глубокая, что старит в одночасие, что серебрит сединою голову. Прониклась пониманием: всю Русь Святую создала печаль и любовь женская! Всю Державу Русскую она своим страданьем вывела на свет, на славу, а теперь, выходит, — на позор... Как ножом, полоснули ее в сердце заключительные слова баллады о русской женщине-крестьянке:
— “А где же твое счастье? А где, а где тебе за все это награда?!”
Никто, никогда не видел и не слышал, чтобы Макрина Степановна произносила ругательное слово. Редко помнят ее даже сердитой или плачущей. А тут как встанет во весь рост, как выбросит вперед, на спящих и храпящих бандитов, свои белые руки — как две стрелы вонзились в переносицу ее крутые черные брови, — как закричит:
— Вот, вот она, тебе награда! Вот какое твое счастье!
И захлебнулась, не слезами только, но глотком огня — первого в ее жизни неумолимого ожесточенья. Шагнула к выходу, толкнула дверь ногою и, ступивши на крылечко, увидела свекра, и не голосом, а рыком львицы, выдохнула пламя страшного негодованья:
— Уберите падаль из трапезной!
И медленно ушла в большой дом.
Не выносил над собою женской команды Кузьма Иваныч, а покорился. Позвал Панфила. Преодолевая одышку, сам взялся за работу.
— Я за ноги, а ты за плечи. Вишь, руки-то у них за спиной связаны. Придется хваткой — за одежу на плечах. Да, слышь, не урони! Чтобы без царапины, без синяков.
— Управимся!
Панфил шел впереди, и потащили первого в завозню. И так, с передышкой, пять концов туда и обратно.
Случилось так, что Паруня пробку в бутыль с карболкой забыла вставить. Ненароком бутыль толкнули, карболка пролилась как раз под чернявого. Запах ударил в нос Кузьмы.
— Ничего, прокашляются, — сказал он, кашляя.
— Заразу духа прекратит, — смудрил Панфил. — Воздух очистит.
Уложили всех рядом.
Кузьма пошутил:
— Как в холерный год, всех в одну могилу да известкой бы залить!
Когда последним принесли мужика-кучера, Кузьма склонился над ним, подумал и сказал:
— А ведь у этого леворверта не было. Пожалуй, его можно развязать.
— Развяжем, — согласился Панфил и развязал.
Потом хозяйским глазом оглядел просторную завозню. Отодвинул бочки, поднял оглобли праздничного экипажа, откатил его в угол. Убрал с дороги хомуты. Мимоходом полюбовался на Настины седла, лежавшие в экипаже. Пошире распахнул ворота, чтобы сильный запах карболки разрядился.
Делал все это Панфил, чтобы как-то себя успокоить, стряхнуть с себя беду-заботу с этими людьми. Шутка ли — везти пятерых?.. А замениться некем.
А в это время молодицы и девицы, и с ними Настя, собрались убирать трапезную. Дело шло к полудню. Надо убрать посуду и готовить обед.
Звон посуды, певучие женские голоса и взрывы смеха наполняли кухню и трапезную и вырывались через открытые окна в ограду. Молодые силы не поддаются страху и печали, скоро забывают опасность и поднимают дух даже тех, кто в минуты горестей теряет голову.
Настя заметила на глазах ушедшей в дом Макрины слезы и даже не решилась утешить ее. Она одна из первых поняла состояние Макрины, но присоединилась к общему веселому настроению молодых женщин и первая же вспомнила одну подробность из удавшейся борьбы с бандитами.
— У меня щеки все еще чешутся, — пожаловалась Настя.
Зиновея посмотрела на нее с особой нежностью, другие перестали стучать посудой.
— Этот, что с кувшинным рылом, — как бы по секрету сообщила Настя Зиновии, — так зарос щетиной, что исколол мне щеки, как иголками, своей бородой.
— Обзарился! — лукаво подмигнула Зиновея. — Он думал, что ты его взаболь полюбила... — тут Зиновея обратилась ко всем, и к Насте наособицу:
— А я “своего” подмяла под себя, а он как котенок ластится, к грудям прильнул... Вот-вот сосать зачнет!.. А изо рта-а!.. Тьфу! Отняла леворверт — не успел и очухаться...
— А меня разобрал в ту пору смех, — призналась маленькая Аннушка и, не и в силах говорить от смеха и стыда, приподняла и показала на мокрое пятно своего сарафана. — Видите, что со мною приключилось?
Новый взрыв хохота был настолько сильным, что на него примчался Василек, который уже ждал обеда.
— Ну, ты, проваливай! — весело сказала ему Ненилушка. — Тут не твоего ума дело.
Василек неохотно вышел, а это время в трапезную вошла Макрина. Глаза ее были сухи, но губы плотно сжаты. Не могла одна успокоиться в доме. На народе лучше справиться с нахлынувшим на нее непривычным волнением. Парунюшка заботливо взглянула на нее и не узнала.
— Мамынька, ты, как полотно, бледная! Напужалась? Проклятые! Сумятицу какую в дом внесли...
Настасья подошла к Макрине, заглянула ей и глаза и с вздохом вымолвила:
— А я вот хожу, все думаю да и дивлюсь: ведь убить могли... Господь-то милостив, уберег от беды.
Макрина посмотрела на нее, ничего не сказала, только погладила по плечу и отвела в сторону свой взгляд. Вот-вот опять заплачет. Не бывало этого с нею никогда. Расстроилась.
Василек опять вбежал в трапезную и сразу к матери:
— Мама, слушай! Я сразу угадал, что “они” налетчики. В горах, слыхать, каторжники и беглые солдаты скрываются. Я хочу револьвер!.. Я тятеньку хочу просить дать мне один из отобранных! Теперь, видишь, без защиты нельзя!
— Револьвер? — переспросила Макрина и еще повторила: — Револьвер?
Это ее сын-меньшак, любимец. Неужели и он в кого-то будет целиться? Нет, он “таким” не может быть! Не должен!
— Ты еще теленок у меня. Рано тебе стрелять в людей! — погладила его по кучерявым волосам и вышла опять на ограду. Щемило сердце: все-таки люди эти еще тут, в завозне. Чует сердце, что с ними так просто не окончится. Вся тяжесть расправы с ними падет на хозяина, на Панфила. Старик-свекор не в счет. С него не спросят — стар. А на Панфиле весь ответ. Не под силу это женскому уму решить. А сердце щемит. Завтра Троица. Сегодня бы пораньше с дойкой коров и с хозяйством справиться: молодежи отдых дать и за цветами, за зеленью в поле отпустить. Староверческой часовни близко нет, но в единоверческую церковь молодежь отпускают в село, двадцать пять верст от заимки. Сами и тут со стариком помолятся… А Троица праздник радостный, с детства почитаемый, веселый, памятный, всегда в цветах и зелени. На пасеку бы вместе с Панфилом съездить, как всегда в мирные годы ездили. Отдых, забава и погулянка для всех. А вот “эти” теперь по рукам и по ногам связали. Да и тучки набегают. Как будто где-то гром прокатился. Солнышко загородили тучки. Тень на всю ограду набежала, потемнело все вокруг, и сердце еще больнее сжалось: проснутся, буянить, кричать начнут. Освободятся — никогда не простят. Мстить будут. Видать, эти еще не опытны попались; другой раз не пойдут бражку пить, не попадутся. И тут нашла ответ на смутное, страшное слово, сказанное Васильком и повторенное ею самою дважды: револьвер. Нет, всех их не перестреляешь. Не надо Васильку револьвера.
Тучка быстро убрала с ограды тень, и все опять открылось для раннего лета, для завтрашнего радостного Троицына Дня. Вспомнила: пора всех звать обедать.
— Панфил Кузьмич! Оте-ец!
Слово “отец”, обращенное к мужу, всегда было нежнее и теплее, чем имя или отчество. Особую теплоту почуяла к Панфилу Макрина в эту именно минуту.
— Обе-едать! Зовите девок-то с молоканки. Бабушку зовите. Где ребятки-то? Солнышко-то, гляди, на паужну клонит.
Василек был вестником, гонцом туда-сюда. Василек опять вонзился в сердце. Время-то идет на возраст; не оглянешься — войдет в года, и в эту вот в компанию, а не войдет — надо рядом с этакими жить, на зависть им достаток сохранять, а может, и стоять под наведенными дулами револьверов. Все это неотвязно, не вполне ясно, а как отрывки из баллады о матери-крестьянке текут и текут в кровь и в плоть Макрины. Так остро, так неотвязно встала перед нею, женой и матерью, вся какая-то другая жизнь с сегодняшнего дня.
Обед прошел на этот раз при полном и всеобщем молчании.
Бабушки с ребятами вовсе не было. Никто о них не говорил, не спрашивал.
Связанные спящие в завозне люди были почти у каждого в мыслях. Тревожили вопросом: что с ними будет и что будет после них? Никто никуда не спешил. Как будто без слов и обсуждения все согласились, что везти их связанными в канун Троицы не подходит, а и держать их связанными — тоже не по-христиански. Было это чувство человечности и в молчаливых взглядах друг на друга молодиц и в думах старших.
Настасья почти не притронулась к еде. Как будто и уезжать теперь никуда не собиралась. Только Василек скорее всех закончил свой обед и, даже не спросивши позволенья выйти из-за стола, вышел на ограду. Он знал, где отец положил револьверы внизу, в кладовке. Пошел, выбрал один из них и пробежал в завозню. Один из спавших, мужик-кучер, проснулся, привстал, посмотрел вокруг, ничего, видимо, не понял, повалился на другой бок и снова заснул. Василек подошел к связанному, остроносому, с бритой головой. Наставил к его лбу холодное дуло револьвера и тыкал им в бровь, в нос, будил. Вдруг у того открылись дикие глаза. Василек даже отскочил, но, вспомнив, что тот связан, снова наставил револьвер и сделал вид, что вот сию минуту выстрелит. Солдат заорал хрипло и совсем по-коровьи: “му-о-а”!
А Василек продолжал целиться. Тот рванулся и понял, что он связан. Проснулся его сосед. Проснулся чернявый. Только один из пятерых еще храпел.
Поднялся рев и возня связанных тел. Рычанье. Василек отскочил от них на некоторое расстояние и продолжал целиться поочередно в каждого. Потом, когда рев перешел в визгливый вой протеста, страха и отчаяния, Василек разломил пополам револьвер.
— Дураки! Он без пули!.. Тру-усы!
Рев прекратился, тела изнеможенно плюхнулись на землю, а из трапезной на крики прибежали Панфил, Макрина и несколько молодиц.
— Василий! — крикнул Панфил. — Что ты тут делаешь?
— Они в маму целились заряженным, а у меня без пуль — они орут, как… — он постыдился сказать при родителях черное слово, которым хотел раз и навсегда запятнать воровскую подлость, вернее всего, не успел, потому что впал в недетское, неукротимое ожесточение. Сразу вырос в мускулах и в росте, дерзко потребовал:
— Тятя, где у тебя пули? Дай мне, я их всех перестреляю!..
Даже когда мать схватила его за руки, чтобы отнять револьвер, уговаривая нежно и тревожно, он вырвался из материнских рук и бросился к связанным людям с поднятым в руке револьвером:
— Я и без пули, я и так им головы размозжу!
Впервые применил Панфил к любимцу-сыну грубую силу. Вырвал у него револьвер, шлепнул его по спине и вытолкнул из завозни, громко наставляя:
— Перво-наперво: лежачего не бьют. А опосля того, ты не каторжного роду. В нашем роду никто кровью себя не замарал. Не смей!
Связанные люди постепенно приходили в себя. Дико озираясь, некоторые стонали, не могли повернуться со спины на бок. Руки у них затекли и посинели от веревок.
Василек наблюдал за ними издали и кричал:
— Ага! Шпана поганая! Теперь поняли, почем фунт лиха?
Мужик-кучер подхватил слова Василька:
— Лиходеи, это верно, малец! Наставили на меня пистолеты и кричат: “Как собаку, грит, застрелим... Вези!..”. А вот теперь и самим собачья смерть приходит.
С опозданием, по своей грузности и одышке, вошел Кузьма Иваныч. Узнавши его, мужик-кучер поднялся на ноги, но пошатнулся и снова сел.
— Хорош у вас медок, хозяин! Снотворный! Вот же угостили! — и, повернувшись к Панфилу, добавил: — А и встретил ты их героем: “Слезай, говорит, с коня!” Это главному-то их варнаку. Ну, я этого в жисть не забуду. И меня и всех своих спас таким простым манером. А я ведь боялся: начнут стрелять да грабить и меня в беду вляпают. Да и молодушки же, дай Бог здоровья, не подгадили и ловко всех пощекотали... Не забуду, вот те крест!
Теперь мужик опять привстал, удержался на ногах, шагнул вперед и ткнул пальцем в грудь Панфила:
— Ты их лежачих бить не хочешь, а они тебя и мертвого зубами загрызут... Это ж каторжане беглые, а говорят: “мы де солдатские мандаты...”
Он хотел было загнуть подходящее ядреное словечко, да посмотрел на большеглазых молодиц, все еще молча стоявших у входа в завозню, и осекся.
Откуда у мужика и слова нашлись? Был как бессловесная рыба, а тут и смелость и прыткое слово:
— Хозяин! — обратился он опять к Панфилу, а потом к Кузьме: — Хозяевы! Мальчика не обидьте! Он чует зло змеиное. Их, этих, не стрелять, а вешать для острастки прочим надо! Слышьте: у нас в Березовке доброй девке вечером теперича пройти по улице нельзя. Уж сколько изобидели, а от каких и следу нету.
Тут он подошел к одному из тех, которые с ним ехали в телеге, пнул его в бок:
— IIIто, не глянутся мои речи? Ну, вот подожди, теперь у меня руки и язык развязаны. Скажу и сделаю: вот сейчас к хвосту коня тебя привяжу да сперва в помойную яму. Искупаю да под солнышко подвешу подсушить. Ага-а! А потом и другого, и до атамана вашего, персиана черномазого, доберусь. Над тем уж я потешный суд доспею так, что вся Березовка, как на кеятру, придет. Не-ет, его я вешать не буду... Я его к киргизам тем, к пастухам, у коих он коней с мучительством ограбил... Вот уж те над ним потешатся!.. Вместо баранинки изжарят... А? Не правятся мои речи?
Видно было, что у мужика хмель еще бродил в голове и в теле, он пошатывался, как бы пританцовывал, ходил, разминал ноги и размахивал руками, и говорил, и говорил.
Макрина посмотрела на молодиц и повела бровями на мычанье коров в пригонах. Те поняли. Ушли. Осталась одна Зиновея. Мужик опять ткнул пальцем в грудь Панфила:
— Хозяин дорогой! Послушай-ка! Угости-ка ты их опять медком твоим снотворным! Веселей им висеть будет. Во сне умрут и не заметят!
Старик Полуяров тихонько затряс животом. Всех это рассмешило, даже один из связанных, бритый, и тот ощерил золотые зубы, понял, что все перешло на шутку.
Мужик не унимался:
— Хозяин, принеси-и медку! Они выпьют, делать им тут нечего. Выпьют и уснут, а я их в помойной ямке искупаю и развешу просушить, пока полиция подъедет. Небось, послали за становым-то? Он же у нас новый, великатный, обходительный. Говорят, допрежь он даже был исправником, а нынче в пристава, на пониженье, попросился. Должно, на возвышеньях-то тоже, как под пулей. Вот он их, этих супостатов, великатно осмотрит, дознает, какие они есть депутаты-мандаты, снимет с вешалки и... закопает!
— Хотите выпить? — спросил мужик лежавших.
Все молчали. Принимали за насмешку. Мужик за них ответил:
— Выпьют!
Мужик болтал, а сын с отцом переглянулись и вывели свое.
— Дело говорит мужик, — сказал Кузьма. — Надо подкрепить. Сподручнее будет везти. По холодку надо с ними отправляться к становому.
— Иди неси стаканы! — сказал Панфил Зиновее, а сам пошел в подвал.
В завозне из семьи остались только двое: Макрина и Кузьма. Василек при виде выходящего отца ушмыгнул за угол.
Макрину не смешила болтовня словоохотливого мужика. Ее что-то мучило. Она ждала чего-то и хотела уже уйти, но взглянула на стоявшего в воротах завозни Василька и испугалась его взгляда. Будто и не ее сын: так было искажено его лицо, прикушены губы, и глаза сощурены.
— Ты уходи отсюда! Что тебе отец наказывал?
Василек тряхнул головой и отвернулся от матери. Незнакомым, грубым голосом бросил ей через плечо:
— А ты знаешь, зачем они приехали? Всех нас поубивать, а деньги отобрать и молодых солдаток в горы увезти!..
Макрина ничего не сказала и снова вернулась в завозню.
Убийством ее уже не испугаешь. Была уже убита. А солдатки? Эти живыми не сдадутся. Этих будут мучить и убьют! Господи! Царица Небесная!..
Она подошла к свекру. Тот сидел на опрокинутой бочке и в правой руке для охраны держал суковатую дубинку, а левой гладил бороду.
— Где бабушка и ребятишки? — беспокойно спросила Макрина. — Их на обеде не было.
— Отправили их всех на пасеку. Марфинька с Сашуткой поехали с ними.
— Вот и добро! — согласилась Макрина. — От греха подальше. Помолчала и тихонько, беспокойно тронула Кузьму за локоть:
— Что же с этими надумал делать? Повезете сами аль нарочного за полицией послать?
Старик потянул свободною рукою одну половину бороды:
— Как ты смекаешь?
— Может, отпустить их вовсе?
Старик повернулся к ней всем телом, крутнулся на бочке, как на жернове:
— Отпустить? Вот сказала-сгрохала!..
И судорожно снял правую руку с палки, передал ее в левую, а правой потянул вниз другую половину бороды.
Одновременно пришли Панфил со жбаном и Зиновия со стаканами.
Когда холодное и пенистое медовое пиво было розлито в стаканы, поднялся и тот, который дольше всех спал. Поднялся и упал. Не выдержала этого Макрина. Подошла к Панфилу и сказала:
— Развяжи его!
Кузьма Иваныч продолжал совещаться с бородой. Из бороды в ответ на просьбу Макрины выпало:
— Дело говоришь, Макрина! Надо всех развязать, — и обратился ко всем связанным: — Эй, вы? Слышите: развязанному — два стакана, связанному ни капли. Ну? Кого развязывать?
Никто, казалось, ничего не понял. Выходит, две награды: и развяжут и пивом угостят. Какой-то опять подвох.
Бритоголовый первым попросил развязать. За ним еще двое.
Развязывали трое: Панфил, Кузьма и мужик.
Свободными, но слабыми, как плети, руками, едва держали стаканы. Выпили. Зиновея налила по второму. Бритоголовый сразу выпил, закряхтел и повалился, раскинув руки и ухмыляясь от облегчения и тупого, глупого блаженства.
Кучер-мужик поднес стакан чернявому. Тот лежал, не двигаясь, и черные глаза его сверкали злою непримиримостью.
— Врет, выпьет! — сказал мужик. — Хозяин, держи стакан, а я ему рот открою. Когда открою — лей, не жалей, не захлебнется!
Когда мужик приподнял его и стал силой разжимать рот, тот схватил его за палец зубами и укусил.
— Ах ты, змея! — мужик ткнул коротыша в зубы кулаком. — Хочешь по второму?
— Развяжите и его! — строго приказала Макрина. — Развяжите, я сказала!
Мужик неодобрительно покачал головой и впервые рассмотрел крупную чернобровую женщину. Другую бы выругал, а перед этой только попятился и беспомощно тряхнул руками вниз, как бы стряхивая всякую ответственность.
— Дело ваше, а по мне, змею жалючую надо прикончить, а не жалеть! — сказал и сел на земляной пол завозни.
Панфил и Кузьма Иваныч молчали. Видно было, что и на них женское милосердие не повлияло. Наконец Кузьма сказал:
— Добро, сноха. Развяжем и на волю пустим. Так ли?
Макрина подошла к чернявому, склонилась и наткнулась на ту же черноту ненависти в его глазах, горевших желтыми огнями волка. Все же она преодолела страх и спросила мягким, успокаивающим голосом:
— Хочешь, подадим холодного пивца?
И оглянулась на стоявшую позади ее с готовым стаканом меда Зиновею.
Вместо ответа чернявый пососал и покусал синеватые губы и набрал слюны, чтобы плюнуть в наклонившееся над ним лицо.
Макрина быстро поднялась и отскочила. Плевок попал на подол темно-синего сарафана Зиновеи.
Кузьма приподнял палку, Панфил сжал кулаки. Зиновея крикнула:
— Ах ты, гадюка!
И с размаху выплеснула в плохо выбритое, искаженное лицо всю брагу из стакана. Он даже не моргнул и не обтерся, так и лежал с глазами без зрачков, только еще сильнее и острее заострилось бессильное жало змеи, не знающей милосердия.
Коричневая густая влага стекала с его носа и щек и застревала в сизой щетине подбородка.
И все-таки еще раз, более решительно, Макрина приказала:
— Развяжите его!
Голос ее от волненья перешел на шепот, а рука оттолкнула протянутую к ней успокаивающую руку мужа.
— Развяжи, я говорю!
Панфил повиновался, но чернявый не давался, кусался и плевал бесслюнным, пересохшим ртом. Панфил отступил, но Кузьма пришел на помощь и, чтобы избежать плевков, подсунул палку под спину лежачего врага и перевернул его животом вниз. Тогда Панфил с усилием развязал узлы.
И тот не встал, не состонал, не охнул, только вытянул затекшие, со следами веревки руки вдоль тела и как будто успокоился. Лежал как труп.
Все трое хозяев и пораженный происшедшим чужой мужик смотрели на него и молчали. Ждали ли, что вскочит, или растерялись и не знали, что с ним делать.
А из-за пустых бочек в это время, согнувшись, подкрадывался Василек. За спинами взрослых его никто не видел. В руках его был камень. Он держал его позади себя побелевшей тонкою рукой. Глаза его были направлены в одну точку: на чернявого. Из голубых они стали белесыми, и в них поблескивал желтоватый огонек взгляда хищной птицы. Но неподвижный взгляд чернявого уперся в него и вонзил в глаза подростка острие страха и угрозы, и это острие подожгло в юной душе неукротимую решимость мщенья.
Не успели взрослые даже заметить Василька, как он кошкой прыгнул на чернявого, но запнулся за отставленную ногу отца, упал и выронил камень. Тогда чернявый вскочил на ноги и, схвативши камень, размахнулся им на Панфила.
Макрина бросилась к Панфилу и загородила его. Камень угодил ей в голову, оглушил и уронил на землю.
Взвизги Зиновеи и Василька, вой Панфила, крики Кузьмы Иваныча и мужика слились в одно разноголосое рычание, из-за которого не слышно было слабых стонов Макрины.
И все пятеро бросились к ней, сбились в кучу, кричали, ругались, а помочь не могли.
Зиновея первая упала на колени, приподняла голову Макрины, и по рукам молодицы потекла кровь. Панфил и Кузьма все еще стояли в оцепенении, пока Зиновея не скомандовала:
— Ну, что же вы! Несите же ее в дом… Воды скорее!
Василек помчался за водой. Панфил, Кузьма и мужик подняли размякшее, полное тело женщины и понесли из завозни.
Сидевшие свободными, развязанными, трое налетчиков попытались, было встать, но хмель браги был сильнее их желания воспользоваться свободой. Они так и сидели, готовые в любую минуту повалиться и беспечно обо всем забыть. Но не позабыл о них Кузьма Иваныч. Задыхаясь и опираясь на тяжелую дубинку, он вернулся в завозню тотчас же, как отнесли Макрину; остановился и удивленно посчитал пальцем арестованных. Оказалось три, а не четыре. Он вновь пересчитал и прорычал, забыв даже бороду потрогать:
— Уползла змея жалючая!
Даже не подумавши, что надо и этих постеречь — не притворились ли спящими, — он вышел из завозни и остановился, озираясь и не зная, в какую сторону двигаться. На ограде никого не было. Шла дойка коров. Молодицы, кроме Зиновеи, даже и не знали о несчастье. Гостья, Настасья, без дела не живет. Где-то с остальными, на работе. Пастух подкладывал сено под морды давно забытых, даже и не распряженных лошадей, на которых приехали налетчики.
Кузьма не решился сказать пастуху о новой угрожающей беде. Тяжело, со стоном, дышал, а крикнуть не решался. Отупел старик. Знал одно: ядовитых змей не надо учить, как прятаться или притворяться безвредной хворостиной. А эта змея и подавно уползет в такую нору, что и артелью не найдешь. Эта будет теперь жалить даже грудь матери, ее питавшую.
И уже не на уползшую змею, а на себя, на Макрину и на все привычное, такое натуральное и мирное крестьянское благодушие взроптал старик:
— Вот беды наделали!
Не смел даже пойти в дом, чтобы узнать, как там с Макриной? Отводятся ли аль не выживет?.. Не смел, потому что сказать о последнем, тоже страшном несчастии, о побеге смертельного врага, значило бы добить, если жива, Макрину, и переполошить Зиновею, оторвать Панфила от раненой, а может, умирающей жены.
Пошел вокруг амбаров, запылавших в красном свете заката, и так и охнул:
— Ведь спалить может!.. Все спалит и всех погубит!.. Вот беды наделали! Вот наделали вреда какого!
Борода его висела смятою куделей. Ни рука ее не тронула, ни ветерок. Старая, желтая от многих лет борьбы за эти вот амбары и за пригоны, полные скота, и за пастбища, и за пашни. Ветрами обдуваема, и дождями омываема, и солнышком припекаема, и от многих жирных капель масла и сладкого меда вытираема, и по другим причинам трудовою рукою гладима, борода эта теперь уж не поможет думу думать, висит, как старая пакля, не может дать хозяину никакого совета, ни памяти, ни сдогаду: что делать?
Стоял и никуда не шел. И даже Бога не вспомнил.
Стоял, стоял, потом согнулся и тяжело опустился, сел огромным суковатым пнем.
Заря догорала. Сгущались сумерки.
А вместе с потухающей зарей за волнистой гранью полей тишина заимочного мира вдруг вскрикнула протяжным женским голосом в одном конце, потом в другом и заревела тяжким горем, застонала страхом…
— Ма-амынька!.. Де-евоньки!
— Скорее идите сюда-а! Пару-уня!.. Мамонька кончается…
— Аннушка, где остальные-то?.. Иди-ите в до-ом!
— Василек! Иди-ка поищи Савельевну!..
— Жива-а, еще ды-ышит… Господи!.. Исходит кровью…
Завыли бабьи голоса, завыли собаки. А в это время из пасеки на ограду с песнями, с веселым криком въехала телега, полная ребят. Голоса их смешались с рыданьями и зовами беды.
Кучер-мужик метался от дома к завозне, а из завозни к своим лошадям. Он окончательно протрезвился, но потерялся в этом крике темноты и собственного затмения ума и памяти. Хотел уже уезжать, да лошади уж очень истощены: со вчерашнего дня не поены, не кормлены, да и ось ведь почти перегорела…
Бросился опять в завозню. Там трое еще спали, а четвертого, самого опасного, не было. Он понял и испугался спящих. Вдруг проснутся, а может, и не спят. Вскочат и убьют его. В темноте уж очень страшно. А крики все еще несутся от дома, и от трапезной, и из ограды. Теперь уж и дети ревут, и слышен строгий торопливый говорок бабушки с ребятами:
— Ну и молчите, ревом не поможете!.. Господь поможет…
Мужик стоял в завозне, прислонившись к новому экипажу — так называли легкие дрожки с нарядным кузовком, — когда в завозню с ручным фонариком вошла Настасья. Увидев его, она испуганно остановилась, взглянула в заросшее рыжим волосом лицо, которое в отброшенных фонариком оттенках показалось ей страшным. Отвела глаза в сторону лежавших на земле людей. Но мужик и сам как будто испугался и, виновато ухмыляясь, вымолвил:
— Эти дрыхнут как убитые, а тот убежал.
Настя помолчала, знала, кто убежал. Проверила глазами спящих, стараясь догадаться, кто же этот, что стоит и мирно с нею говорит? Поняла, что не опасен, заспешила. Схватила в беремя одно из седел, лежавших в дрожках, и молча, быстро вышла. Мужик пошел за нею. Она обернулась и крикнула ему:
— Неси-ка другое седло!
За воротами стоял Василек и держал на поводу двух хозяйских лошадей. Мужик не сразу взял седло. Серебряный набор, даже на ощупь в темноте, остановил и удивил его. Он взял седло, вынес и уже при свете фонаря еще раз жадно осмотрел и ощупал бляхи и стремена.
— Ну, что же ты стоишь? — строго приказала она. — Седлай второго-то коня! Мальчику-то не поднять седло, тяжелое.
Василек стоял и молча плакал.
Мужик неумело стал седлать. Настасья быстро управилась с первой лошадью и подошла к нему.
— Да не так, смотри, подседельник-то не так кладут.
Она сняла седло со спины лошади, выправила подседельник, бросила седло на коня. Изловчилась так, что подседельник и седло мягко вместе упали на спину лошади, а стремено, что должно перелететь на другую сторону, осталось у нее в руке, чтобы при переброске не ударить лошадь в бок, и сказала Васильку:
— Небось, ноги-то твои не короче моих, стремена-то не надо укорачивать.
Мужик стоял и удивлялся силе и ловкости, а главное, быстроте бабьих рук.
Лошади были ей не знакомы. Она деловито обошла их, ласково потрепала каждую по шее, нежно коснулась бархатных губ, вложила удила в их рты и, вставляя левую ногу в правое стремя, скомандовала мужику:
— Ну, что же ты стоишь? Иди… Там бабы-то одни… Может, помочь чем можешь? Хозяйка-то еще жива. За доктором я побегу, — и тут же повернула голову к Васильку, уже сидевшему на другой лошади: — Ну, с Господом! Кажи дорогу… Да не отставай!
Восемь неподкованных копыт застрекотали по твердой, укатанной земле ограды, и еще в воротах резвые сытые кони взмахнули на галоп, и топот их мгновенно поглотила молчаливая тьма ночи.
Мужик разинул рот и долго так стоял, потерянный среди этой чужой ему, потому что уж очень большой и богатой жизни.
Кузьма Иваныч отсиделся, пришел в себя, с трудом донес свое большое тело до завозни. Затворил ворота и сел возле них, держа свою дубину между согнутых коленей.
Тогда мужик сообразил, что сторож для опасных, развязанных бандитов на своем посту. И нехотя пошел на плач и крики женщин.
Панфил не мог оставить умиравшую жену, и никто из молодиц не отважился бы на ночное, быстрое и далекое путешествие в Березовку. Настасья вызвалась сама. У нее было две задачи: вызвать доктора и спешно рассказать обо всем случившемся, а главное, о побеге самого опасного лиходея в управлении станового пристава.
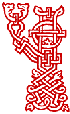 то ни говори, как ни рассказывай, а все что-то останется недосказанным либо недослышанным, а то и вовсе непонятым. Жизнь — она мастер на все руки, за нею не поспеешь, не уследишь. Надо же вот случиться так, что приезд незнакомой гостьи из глубины гор оказался как бы к счастью, к спасенью всей семьи от явного разбойничьего нападенья. Тут всяко можно рассудить, уж больно много разных случаев в одном. Но и перед самым этим нападеньем, хоть и некогда об этом было говорить и думать, Настасьино горе — девять месяцев нет весточки от мужа из действующей армии — всех молодиц-солдаток в доме, тайно друг от дружки, заставило вспомнить и встревожиться: а когда же последние письма пришли от их мужей? Писали они не так уж часто, но все же в месяц раз письмо придет, а теперь, если посчитать, то от Парунюшкиного героя письмо пришло перед Пасхой, а от Пасхи — вот уж Троица — почти что два месяца прошло... А от сына-гвардейца и того дольше не было известия. Ладно ли там с ними?
то ни говори, как ни рассказывай, а все что-то останется недосказанным либо недослышанным, а то и вовсе непонятым. Жизнь — она мастер на все руки, за нею не поспеешь, не уследишь. Надо же вот случиться так, что приезд незнакомой гостьи из глубины гор оказался как бы к счастью, к спасенью всей семьи от явного разбойничьего нападенья. Тут всяко можно рассудить, уж больно много разных случаев в одном. Но и перед самым этим нападеньем, хоть и некогда об этом было говорить и думать, Настасьино горе — девять месяцев нет весточки от мужа из действующей армии — всех молодиц-солдаток в доме, тайно друг от дружки, заставило вспомнить и встревожиться: а когда же последние письма пришли от их мужей? Писали они не так уж часто, но все же в месяц раз письмо придет, а теперь, если посчитать, то от Парунюшкиного героя письмо пришло перед Пасхой, а от Пасхи — вот уж Троица — почти что два месяца прошло... А от сына-гвардейца и того дольше не было известия. Ладно ли там с ними?