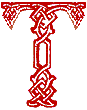 ак, так... Бывает жизнь страшнее смерти, потому что жизнь сильнее смерти.
ак, так... Бывает жизнь страшнее смерти, потому что жизнь сильнее смерти.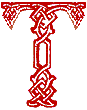 ак, так... Бывает жизнь страшнее смерти, потому что жизнь сильнее смерти.
ак, так... Бывает жизнь страшнее смерти, потому что жизнь сильнее смерти.
Напрасно старичок Минеич пытался увернуться от рассказа о Ермилыче, изуродованном на войне. Обо всем этом несчастии ей рассказала на первой, на полуденной остановке Ульяна Тихоновна, сама вдова убитого солдата и мать двух подраставших сыновей. Направляя Настю на заимку Ульяны, Минеич и не думал, что Ульяна знает всю эту историю гораздо лучше, нежели он сам. Ульяна приходится двоюродной сестрой Ермилычу. Угощала Ульяна Настю, хлопотала у стола и у печи, а сама рассказывала и заливалась слезами. Плакала и о покойном муже, убитом еще в японскую войну, и о своих недостатках — без хозяина все пришло в упадок – плакала, и о семье Ермилыча, и из участия к Настасьиному горю.
Настя слушала, а сама ела и не ела. Больше свою еду слезами заливала. Не поняла Ульяна, что отягчает ее сердце страшною печалью на всю дальнейшую дорогу. Рассказывала, плакала и уговаривала:
— Да ты кушай-ешь говядинку-то. Дорога-то дальняя, все равно сегодня не пущу. Ночуешь у меня. Кваском-то запивай. Квас-то из-под сусла, калинкою заправленный, холодный, с погреба.
Но Настя прятала слезы, утиралась наспех, чтобы ребят не расквилить. Ребят больше питала, самой ей в горло не шел гостеприимный кусок хлеба. Устала она. Дело было к вечеру. Осталась ночевать. Тут-то в бессонном бабьем горе снова по порядку и рассказала все Ульяна о судьбе Ермилыча.
Утром встали они рано, попитались наскоро, помолились на старые, потемневшие иконы и отправились в дальнейший путь. Лошади отдохнули, переседлала их по-своему. Дедушка Минеич седла перепутал.
И вот ехала опять Настасья с утра до самого вечера, почти не отдыхая. Расстилалась, ширилась ее печаль-тревога. Нет-нет и заплачет. Уж не о Кондратии только слезы проливались, а за сотни, за тысячи Ермилычей. Расширялись перед нею теперь уже безлесные просторы — вместо гор волнистые, взгорбленные поля, пашни, перелески, пастбища, — расширялась и печаль ее. О Господи, сколько же их, пострадавших, искалеченных, плененных, пропавших без вести со всей Руси-то необъятной! Сколько полегло в могилах братских, а то и без могил в чужой, далекой земле! Не хотела она плакать на глазах детей: чуяла, как Фирся хмурился по-взрослому, когда оглядывалась на него, а сдержать себя не могла. И облегчала горе свое придушенным стоном-шепотом:
— Господи, Господи! За что же, за что?..
Но вот перед закатом с одной из горных седловин развернулась перед нею широкая равнина впереди, вся, как лоскутное одеяло, испещренная пашнями, частью свежевспаханными, еще черными, чуть тронутыми нежной зеленью всходов, яркими полосами озимей, а больше клетчатыми, цветистыми квадратами — это разными цветными травами цветут пустыри, пашни, которых плуг и соха нынче не коснулись. На другой, на военной страде пахари орудуют, а может, уже отпахались навсегда...
И опять заклокотали в горле слезы, не уймутся никак. А между тем эти цветистые полосы, даже цветущие пустыри, где белой кашкою, где желтою горчицей, где розовым пыреем, а где синею вязилью радовали глаз и вместе усиливали тоску и одиночество:
— Господи, благодать-то какая!
Вместе с этими словами к слезной скорби прибавилась доля покорности, почти молитвенной, сужденной, стало быть, угодной Господу, имя которого она все время жалобно призывала.
И то, что Ермилыч, даже Ермилыч, покорился этой своей судьбе, вдруг выпрямило в душе Насти стойкость сопротивления против расслабляющей печали. При всей Настиной простоте, при всей ее неопытности в делах житейских вот эти развернувшиеся перед нею пашни подсказали ей простую мудрость: если Ермилыч, получеловек, питающийся лежа на синие, лишенный слова, ушедший от семьи, чтобы не терзать ее своим видом, может переносить жизнь, которая страшнее смерти, то всем здоровым, всем молодым и подрастающим грешно приходить в отчаяние. Слезами горя не поправишь все равно.
Старательно и долго вытирала она свои глаза, просморкалась по-мужицки, прямо с седла на землю, вытерла лицо рукавом сарафана и пришпорила свою лошадь. Даже постаралась улыбнуться Фирсе, крикнула:
— Эй, ты, лыцарь, не спишь?
— Не-е! — повеселел парненок.
Гнедчик, срывая по дороге с междуколейных грядок стебли травы, мотнул в знак согласия удилами и пошел хорошей рысью вслед за Настиной лошадью.
Тут с взлобка перед нею раскрылась в долине, как из волны выплыла, широко раскинувшаяся, мелькавшая в розовых предзакатных лучах, как серебряная паутина, поскотина, которой обнесены были широкие пастбища.
Самой заимки еще не было видно из-за тополевых рощ, которыми все постройки и дом были защищены с востока и с севера. Но Настя поняла, что это и есть заимка богачей Полуяровых. Она еще раз вытерла лицо, приоправилась. Даже остановилась, чтобы вытереть носы ребяткам, отряхнуть с них пыль, поправить седла, подтянуть ослабевшие подпруги. Когда опять проехали немного, Савелька раскис и отяжелел, его валил сон, и трудно было ехать с ним рысью.
Переложила с руки на руку Савельку и сказала Фирсе:
— Видишь, заимка-то какая впереди — у каких людей ночевать будем.
Фирся понял. Это значило — надо держать себя в порядке. Подходить к матери, когда надо нос вытереть передником или проситься, когда бывает “нужно”, самому не убегать далеко.
В голосе Насти еще скрипел слезный надрыв, но вместе с тем звучала гордость матери — показать чужим людям своих детей, здоровых, ладных, умненьких, хорошо одетых. Не какие-нибудь, а чураевского роду — два сына растит...
Солнце распылалось на закате. В ослепительном пожаре встречных лучей трудно было разглядеть заимку. В просторном охвате поскотин травы были как бы скошены, и скот ходил вроссыпь, отдельными стадами — коровы дойные и молодняк, овцы и широко разбредшийся табун лошадей. По количеству скота нетрудно было угадать обширность хозяйства. Вытоптанный выгон сам за себя говорил — для всего скота выпас уже тесен. За гранью поскотины — опять все те же пашни, покосные луга, темные приплюснутые стога прошлогоднего сена. Долина речки уходит изгибом вправо от дороги и влево, в золотистую даль предгорий. Даже Фирся вглядывался в этот пашенный простор. В горах у них пашни висят на крутых склонах, как картины, в рамках густого леса, а здесь пашни сплошь, во все стороны, куда глаз доносит. Даже Савелька спросонья щурился на позолоченный закатом простор, пестрый и неоглядный, среди которого, как зеленый остров, возвышалась обширная роща, укрывавшая дома, амбары, дворы, путаную городьбу из жердей и кольев.
Расстояние на равнинах обманчиво. Настасья не могла угадать, сколько будет до заимки — верста или три версты. С седловины казалось, что заимка вот она тут, у подола покатого склона, а съехали вниз — едешь, едешь — все еще далеко.
Целый день в седле и так истомил, а эти последние версты казались бесконечными. Вместе с тем по мере приближенья нарастало беспокойство: видать, люди богатые. А у богатых нрав бывает разный. Примут ли так, как уверял Минеич.
Вдруг справа из-за взгорбленной свежевспаханной полосы, послышалось распевное и молодое:
— Эй, вы, со-колы-ы!
И вскоре на взгорбленность к дороге вышла шестерка лошадей, впряженных парами в плуг. За плугом оставались сразу два пласта целинной пахоты. Плуг был двухлемешный. Настя остановила лошадь. Фирся, оглянувшись, круто повернул в траву и снова выехал на дорогу. Показал перед пахарями уменье молодецки править лошадью. Настя еще никогда не видывала, чтобы в плуг впрягали лошадей парами. У них и тройками в горной местности по целине не сдвинешь.
— Гляди-ка, Фирся: плуг-то две борозды сразу ведет! Вот где пахаря-то настоящие!
Фирся вбирал глазами все так, что на всю жизнь запомнит. Эти три дня для него были такими длинными как годы. Столько в них увидел и услышал...
— Соко-олики-и! — неслось от шестерки девически-звонкое. И слышно было, как приближавшиеся лошади тяжело дышали и, упираясь в землю копытами, спешили к краю полосы, зная, что тут передышка от тяжести. И слышно было, как под лемехами похрустывали корешки трав и мелкого кустарника девственной целины, и как равномерно, по шагу лошадей, позвякивала сбруя. Упряжь сыромятная, ременная, видать, не наскоро справленная хозяевами.
Покрикивание на лошадей неслось от подростка-всадника. Он сидел в седле на одной из лошадей средней пары. В левой руке его были вожжи от передней пары, в правой — длинный кнут, которым, однако, он ни разу не стегнул коней, а лишь помахивал в такт своих окриков, пощелкивал, посвистывал. Вся шестерка, темная от пота, была разных мастей, но покрыта пеной под шлеями и на боках, и везла она плуг дружно, в кнуте не нуждалась и выглядела сытой, жирной, оттого и пена под шлеями.
Вот шестерка вышла на край полосы, плуг вывернулся из борозды и шедший за ним пахарь разогнулся. Настя и даже Фирся раскрыли рты от изумленья. Это был не виданного ими роста, с длинной русой бородой мужик, в белой, холщовой, потемневшей от пота рубахе, охваченной узким ремнем и свисавшей до колен. На голове его была рыжеватого цвета шляпа-самокатка из овечьей шерсти, из которой валенки катают. Она была похожа на удлиненный подгорелый пирог из ржаного теста.
Но и разогнувшись, пахарь продолжал смотреть в землю, косясь на шестерку лошадей и следя за высветленными лемехами плуга, приподнятыми на время заворота. Он даже не взглянул в сторону Насти. Сделавши полукруг заворота, он всадил плуг в новую борозду и стал удаляться вдоль свежей пахоты от дороги. И шестерка снова скрылась за взлобком полосы.
Настя растерялась. Она узнала — это был тот самый Панфил Кузьмич, хозяин заимки, к которому ее направил Минеич. А даже не взглянул. Понравилось ей, как он шел за плугом, как разогнулся — косая сажень — и как опять склонился, точно бы какая-то своя великая забота-дума его гнула к земле. А все же было как-то страшно продолжать путь к заимке, и стоять — ни то ни се. Но все-таки она стояла, не зная, как решить. Время, пока шестерка сделала весь новый оборот, показалось долгим и мучительным. Но, видимо, за поворотом паренек сказал пахарю, что он видел кого-то у края полосы, потому что на обратной борозде пахарь еще издали поглядывал и сторону Насти. Настя решила подождать. Но и на этот раз пахарь, не взглянувши на нее, не поздоровавшись, сделал новый поворот, снова запустил плуг в борозду и пошел от края вдоль полосы. Но вдруг послышался его густой, окатистый, как бы облегченный оклик:
— Стой! — Это прозвучало трубно и напевно, как зов горного марала в бывших садах Чураевских.
Лошади стали. Пахарь выпрямился. Сказал что-то пареньку, который остался в седле. Снял с головы свою шляпу, стряхнул с нее пыль ударом о колено, надел опять, и на ходу к дороге, все еще смотря в землю, пальцами потрепал свою бороду, с той же, видимо, целью — отряхнуть с себя лишнюю земляную пыль. Шаги его были неспешны и широки. Запыленные большие сапоги-бутылы перевязаны ниже колен ремешками. Штаны из домотканой пестрядины — чисты, но в заплатах. От него пахнуло крепким здоровым потом, которого Настя давно не чуяла, может с девических лет, когда также пахло от отца на покосе в жаркий день работы.
Приблизившись, мужик на Настю не взглянул, а внимательно оглядел лошадей, похудевших, понуро-задремавших от долгого похода. Потом он посмотрел на Фирсю, который встретил его взгляд со страхом, но непоколебимо стойко, не моргнув. Была в этой минуте молчания, во всем виде пахаря, в его движениях, сила — покоряющая и мощь — ошеломляющая. Настя ни выдержала и первая сказала:
— Бог в помощь, добрый человек!..
Но пахарь не ответил ей. Он потрогал свою бороду, которая от пыли казалась полуседою и сбочилась на плечо, прокашлялся — видно, что у него в горле от молчанья и от пыли пересохло, — и только теперь поднял на Настю свои большие, серые, зоркие глаза и спросил совсем новым, мягким, пониженным голосом:
— Откуда Бог несет?
И, сделавши рогатку из двух пальцев, направил их в Савелькино пузо. И так ухмыльнулся, что если бы тут была зимняя гололедица, то и она бы растаяла. И, не дожидаясь ответа от Насти, он хозяйским глазом опять окинул лошадей и прибавил:
— Видать, издалека: лошадей-то изнурила.
— Да вот поклон тебе от Семена Минеича привезли, — начала было Настасья, но по тому, как Панфил Кузьмич скользнул глазами по переметным сумам позади седел, слова ее о поклоне были уже излишни. Хозяин понял, что баба из горных мест, и, стало быть, надо принять как желанную гостью с быстрых рек всеми почитаемого Беловодья. Имя же Семена Минеича только подтвердило его догадку. Тихая и добрая усмешка из-под густых порыжевших бровей его скользнула в длинную русую бороду и остановилась на Фирсе. Губы под густым навесом усов как-то приподнялись, образовали трубочку и выпустили шутливый свист:
— Ишь ты, соколенок!
И сейчас же отвернулся, посмотрел на солнце, на упряжку в плуге и зычно крикнул сидевшему в седле подростку:
— Распрягаться будем, сынок! – и, не оглядываясь, пошел к нему, продолжая распоряжение: — Сиди, сиди, я отстегну вальки постромок.
Красный круг солнца уже совсем коснулся горизонта и окрасил лицо Насти и ее детей, и от этого все их лица казались розовыми, смеющимися, счастливыми.
Распряжка была проста и быстра. С подвешенными к шлеям вальками постромок шестерка отделилась от плуга, оставшегося в земле, и тронулась к дороге. Панфил вскарабкался на одну из лошадей, что покрупнее, и, не оглядываясь, направил ее впереди всех вдоль дороги к заимке. Настя видела, как его длинные ноги бороздили по высокой траве подорожных грядок.
Улыбаясь, она покорно поехала следом. Солнце село и сразу погасло, как только они спустились в долину. Вместе с прохладою откуда-то повеяло свежею травой и степной полынью, не той, крупной и зеленой, что растет на пустырях, а мелкой, ароматной, серебристой, которую кладут в постели, чтобы не велись клопы и блохи. Это значило, что они приблизились к выгону в поскотине. Паренек проворно соскочил с седла и, понатужившись, открыл широкие жердяные ворота, пропустил всех и, бороздя столбиком, державшим весь переплет воротины, закрыл поскотину. Только тут, пользуясь остановкой, Панфил взглянул в сторону Насти, но ничего не сказал, только ухмыльнулся Савельке и снова, издали, поднял в воздух и показал в его сторону рогульку из двух пальцев.
— “Видать, что скуп он на слово. А скажет, истинно, — рублем подарит”, — решила Настя, и на душе ее стало так тепло, что вновь захотелось плакать, но не от горя, а от нечаянной какой-то радости. Она сердито внутрь себя нахмурилась, чтобы удержаться от бабьей слабости.
При въезде в самую усадьбу на Настю повеяло незнакомым запахом тополей: они осыпались липким сладковатым цветеньем, и, когда остановились лошади, явно слышен был их странный, переливчатый шепот. В запах от тополей вместе с легким ветерком ворвался из-за домов и амбаров резкий запах навоза. Много было скота и всякой живности у Панфила на заимке. Панфил перекинул одну ногу через голову своей лошади и шагнул на землю. Первым его делом было подойти к Насте и принять из рук ее Савельку. Это было тоже лучше всяких слов и приглашений. Фирся спрыгнул сам, а навстречу Насте из разных концов усадьбы и из дома устремились девицы, молодицы, дети — что-то очень много. Последней на широком и раскрашенном крыльце большого дома появилась крупная, полная, дебелая женщина. И это ее голос, певучий и свободный, покрыл все остальные:
— Ой, Господи, да ты ведь, девонька, измаялась, поди-ка!.. Да ты никак из гор с сумами-то одна, с ребятками прикатила?
И полилась ее команда по всем направлениям:
— Девки, берите лошадей-то, расседлайте да под крышу их. Ночи-то теперь еще прохладные. Да дитятко-то малое какое!.. Тоже Ерусланом ехал?.. Оте-ец! — обернулась она в сторону Панфила, но Панфил уже пошел к дверям амбара, и за ним устремилось все многочисленное птичье царство: индюшки, гуси, утки, куры, которым как раз в это время надо уже взлетать на седало. Это было время их кормления, а кроме самого хозяина, никто не смел распоряжаться зерном. Дело весеннее, когда-то новое зерно вырастет, созреет да намолотится! Но сам хозяин, вместо экономии, всегда был щедрее тех, кого ограничивал... Ну, уж своя рука владыка. Зато и удовольствия этого он никому не уступал. Птичий крик, гогот, кудахтанье, индюшечье булдыканье — все кружилось теперь в сплошном вихре возле его ног. Поэтому он широко разбрасывал в разные стороны золотые струи зерна и позабыл о гостье, о рабочих лошадях, обо всем, что после кормленья птиц опять им овладеет. Он спешил предотвратить птичьи драки около отдельных кучек зерна: шире, размашистее сыпал зерно туда, сюда, вдоль, напротив, позади себя. Играл с прожорами, радовался, что невозможно всех пересчитать: многие еще на гнездах... Вот молодняк подрастет, да разных возрастов, да разных пород — вот тогда управься с ними, вот тогда их всех ублажи... Прорва!..
— А ты сам ехал, как большой, а? — Ах ты, ветер мой бедович! — разносился по усадьбе голос хозяйки, Макрины Степановны. — Девки, воды-то в рукомойнике довольно ли?.. Сюда, гостьюшка, сюда, родимая, сперва помойся с дороги-то, потом и попитаться, чем Бог послал... Сегодня будем в стряпчей избе ужинать, уж не посуди — со всеми вместе. Семья то у нас — целая свадьба... Парунюшка, беги-ка полотенце чистенькое принеси. А ты, Ненилушка, ребяток-то догляди: тоже помыть их надо, гляди, глазки-то пыль запорошила. А ты их прямо и баню — там способней и раздеть и выхлопать...
Оторопела, онемела Настя. Не то во сне все это, не то наяву. И как-то не было у нее слов для возражений. Делала все, что говорили ей, шла, куда вели, улыбалась и вздыхала. А девушки и молодицы бегали, как стрелы, носились туда, сюда, взбегали по крыльцу в дом, появлялись неожиданно из разных дверей, все яркие, веселые, бойкие, потому их казалось больше, нежели на самом деле. И делали все быстро, споро, согласно и с неподдельной радостью. Точно все это у них было заранее разыграно и осталось только повторить каждой свое заученное дело.
И все еще никто не спросил, откуда она, кто и почему. Довольно, что сам хозяин ввел в ограду ее маленький караван. Довольно, что она мать двоих малюток-мальчиков. Этого не проглядишь со стороны и подвоха из этого не сделаешь. Седла на лошадях дорогие — отсюда первое доверие, сумы — знак дальнего пути, а дети — песня без слов, трогающая всякое доброе крестьянское сердце.
А в это время вокруг Панфила все еще трепыхало крыльями, шарахалось, прожорливо клевало, дралось, вскрикивало и волновалось птичье море. Это птичье море красноречивее всего сказало Настиному сердцу и о благосостоянии этих людей, и о правилах их жизни, и о широте их ласки к незнакомой мимо проезжающей гостье, незваной-непрошеной. А и хорош мужик: до чего могутной, до чего молчаливый, тут слов напрасно тратить нет нужды. Ишь, как щедро сыплет зерном... Сыплет и сыплет!..
Рукомойник — фигурчатый чайник из черного чугуна — висел на цепочке у крыльца стряпчей избы, из носка его лилась тонкая струя прохладной ключевой воды — точно новая струя неведомой доселе жизни освежала лицо, и шею, и руки до локтей огрубелой Насти, и любо ей было оглядывать обширную ограду и открывать все новое и новое в том новом царстве, в котором она так нежданно-негаданно очутилась. А царство это сперва было столь загадочным и даже темным и страшным, как те черные борозды свежей пахоты, уходившие за взгорье, за которым одно время пряталось такое неприветливое небрежение: не взглянул, не остановился, ушел за плугом... И вдруг открылась маленькая дверца — та первая улыбка, сопровождавшая рогульку из пальцев в Савелькино пузо. От этой улыбки, как от волшебной силы, и наполнилось все теплотою ласк и заботы, и веселых хлопот. Ничего о ней не знают, имени ее еще не ведают, а видно, что принимают как родную. Ново это для Насти, хоть и старо по обычаям в родных горах. Со старины повелось принять странного человека, как посланника Божия. Там, в горах, на глухих заимках даже и беглых каторжан, если случится, принимают, и в доме накормят, и на дорогу подадут, другой раз в баньке попарят. Оттуда и обычай — не спрашивать, откуда, кто и чем занимаешься. Но все это давно было, на себе она этого не испытала, а о том, как сами хозяева об этом понимают, подумать было некогда.
Освежилась, не успела взять из сум что надо для перемены дорожного платья, — подбежали к ней две молодицы, одна высокая, другая маленькая, но обе свежие своей нежностью и красивые в улыбках — по головным повязкам видать, что обе замужем, — и наперебой стали уговаривать:
— Да не надо тебе ничего доставать!.. Поди, тут в сумах-то, все смято, — пойдем в горницу, мы тебе все сами дадим на сегодня. А завтра ты свое погладишь…
И правда, не хотелось ей свои сумы ворошить: там всякой всячины наложено, и хлеб, и масло...
И опять, не возражая, пошла за ними, только сумы уложила в кладовую в коридоре дома: поближе, если нужно что. Но слово “завтра”, сказанное так, как будто она гостить, а не переночевать приехала, отозвалось в ней непонятной грустью — ведь надо завтра ехать дальше... Сон и сон!..
Ввели ее в горницы, одна другой наряднее, и пахнет чистотой и этой самой ласкою. На подоконниках гераньки и фуксии цвели, и из-за цветистых занавесок как бы улыбались Насте. И перины на кроватях, как горы, поднимаются, и подушки — по три, по четыре с обеих сторон — в изголовье и в ногах, — всех не пользуют, а на случай приезда гостей — не скажут, что подушек не хватило. Вспомнила о птице — все из своего пера и пуха...
Подвели ее к зеркалу, большому, какому-то волшебному — это самое волшебное из всех видений — и увидела себя Настя: лицо красное, загорелое, глупое от счастья, — посмотрела и отвернулась. Стыдно почему-то стало. Вспомнила, что сама-то молода еще, свежа, высока и, ежели оденется, пригожа будет...
И сделали ее пригожей две молодицы — узнала тут же, когда они наряжали ее: одна Ненилушка, сноха, другая Парунюшка, дочка хозяев. Обе солдатки, мужья на войне. А те, другие три, что бегали по ограде и лошадей расседлывали — те все еще девки: одна младшая дочка, другая молодицына сестра, а третья гостья — двоюродная сестра Парунюшки, а те, что помельче — “просто ребятня тут наша”. Не сразу запомнила, которая дочь, которая сноха. Когда спуталась, обе обрадованно помогли ей вспомнить: высокая — Парунюшка, Полуярова порода. Они все — в небо дыра, а низенькая — Ненилушка, сноха и мать двоих ребяток... Мать?.. Неужто мать? А смотрит как даже незамужняя: так молода и так пригожа.
Когда спустились со второго этажа в первый, их встретили еще две — они коров додаивали, потом готовили ужин — еще сестра Парунюшки и еще сноха, Зиновея, жена второго сына, только недавно забранного. И тоже молоды, и тоже хороши и высоки, и успели свежие сарафаны надеть. Пахло от сарафанов праздником — как в магазине с красным товаром. А когда вошли в стряпчую избу, большую, освещенную висячей лампой и лампадками у образов, там еще появились две девицы, кроме тех, которых Настя уже видела. Это две племянницы, подружки замужних дочерей, из села, помогают коров доить и на маслодельном заводе управляться. Свой у Полуяровых завод.
Стряпчая изба была просторна и опрятна, разделена на две половины: кухня и трапезная со скамьями, расставленными вдоль стен, и с длинным, покрытым пестрыми домоткаными скатертями, некрашеным столом, к которому девицы подставляли скамьи, замыкая стол квадратом в угол, под божницу. В стороне, в другом углу избы, стоял отдельный, низкий стол с низкими скамейками, и возле него, среди притихших разного возраста детей, Настасья увидела своих Фирсю и Савельку, о которых она впервые как-то не заботилась. Над ними ворковала бабушка, взявшая на себя заботу не только приручить и познакомить со своими внучатами приезжих нелюдимов, но и накормить их всех раньше взрослых.
Панфила пришлось со двора звать и дожидаться. За стол никто еще не садился, но гостью провели и усадили с краю у стола, поближе к божнице. Бабушка ни на кого из больших не обращала внимания, но что-то говорила и детям и взрослым низким негромким голосом так, что ее понимали сразу те, к кому это относилось, но для посторонних слова ее были загадочны.
— Початок-то духовитый, а все не то, что в прежние года, — слова были обращены как будто к детям: на них был направлен тихий, ласковый взгляд, а ответила Парунюшка вопросом:
— А поноска прибыльна?..
— Да мы кой-где только с десяток открывали... Старик-то сам вам скажет...
Настасья поняла: разговор шел о початке, о проверке в пасеке майской взятки меда.
— Взятки-то еще не брали. Рановато, — заключила бабушки.
В избе уже казалось тесно от людей: все больше бабы да девки, Василек-подросток, тот, что пахал с отцом, старался казаться взрослым, и был он уже высок, но тонок, как молодой тополек. Еще недавно за низким столом обедал, теперь — с взрослыми, но сесть не смеет, хотя и притомился за день. Все дожидаются отца и дедушку. Вошли они вместе. Старик был тучен, но ниже сына — осевшая гора, но борода еще длиннее, и шла она двумя белыми волнами на грудь. Так привык он ее загребать в горсти, приглаживать вдоль подбородка и вгибать к вороту рубахи, а потом разглаживать еще и по груди. Он прошел шаркающими, мелкими шажками — годы на него надавливали грузно — ему под восемьдесят, — ни на кого не поглядел, остановился посреди избы со взглядом на божницу, и все шорохи, все слова вдруг погасли. Дети встали возле их столика и тоже устремились на иконы.
— Очи всех на Тя, Господи, уповают... — начал негромко, как бы про себя Кузьма Иваныч.
Ничего истового в молитве не было. Это была привычка, семейный порядок, повторяющийся дома и в поле всякий раз при начале и конце еды. Но крестное знамение у всех, от мала до велика, было истовое, размеренное, широкое и одновременное у всех.
— “Молится, как у нас”, — вместо молитвы думала Настя, и ей было приятно, что и по вере и по обычаям — это свои люди, родня.
Сели все чинно, бесшумно, без разговора, только Настю пригласили сесть поглубже в угол рядом со стариком, по левую руку, а по правую сел Панфил Кузьмич.
Теперь послышались слова Макрины, негромкие, но складные, певучие, направленные то к младшим дочерям, то к молодицам. Две из них служили у стола. Подавали быстро, каждая свое. Одна из молодиц, Ненилушка, и дочь Парунюшка сели за стол: Ненилушка возле дедушки, Парунюшка возле отца.
Все стали брать ломти хлеба из большого деревянного раскрашенного блюда, и сейчас же голос матери распорядился:
— Феклушка, хлеба-то подрежь, подрежь, мила доченька!
Как только квас из жбана убавился, опять напоминание:
— Аннушка, подлей, подлей кваску... Да полотенце подлиннее принеси. Видишь, на всех-то полотенца не хватает.
Полотенце, что было подлиннее, лежало на коленях дедушки и протягивалось на колени гостьи и дальше — руки и губы вытирать, а отсюда должно было достать в длину скамьи — там тоже гостьи, племянницы, сидели. Полотенце должно соединить всех.
Молодица-дочь и молодица-сноха — Аннушка и Зиновея — подавали, подавали. Лица их были румяны от загара, озабоченны, а голоса между собой понижены до шепота. Ни разу обе вместе не покинули стола: одна здесь, другая уходит, одна возвращается, другая шумит сарафаном — спешит подать очередное.
Разносолы-кушанья были обильны и вкусны. По вечерам даже в будние дни, видать, здесь ели много, медленно, как в праздник, и толк в еде знали, и есть умели с чувством, не спеша. От щей курился жирный вкусный пар, от ворохов жареной птицы трудно было оторвать глаза. Сливочное, своей сбивки, масло лежало горками на двух концах стола. Каша пшенная была крута, желта, как воск, рассыпчата. На ней деревянной ложкой выдавливались ямочки, и в них лилось масло топленое, еще горячее. Шинкованная капуста была со льда, нарезана так мелко, что можно было принять ее за пряди тонких ниток. Она розовела окраскою тонко-натонко нарезанных круглых ломотков свеклы. Соленые огурцы в рассоле, с мятой и с укропом, плавали в широкой гончарной миске. Хлеб был всякий: черный — ржаной, белый — пшеничный, сдобный — калачиками, кипяченый в масле, круглый — булочками с поджаренной корочкой, сибирские шаньги, и шанежки творожные, и еще особый ситный — в четверть аршина высотой, нажмешь на него сверху, а он, как на пружине, сейчас же вверх подпрыгнет. Калачики из крупчатки подали позже к суслу, варенному с сухой клубникой. Возьмешь калачик или шанежку — они еще в пальцах похрустывают, и шанежки подогреты, как со сковороды. Остынут — от печи другое блюдо подают. А молоко белое, густое, как сливки. Пей хоть кувшинами — только рады будут.
— Ешь, ешь-поедай, — вдруг первым раздается приглашение Панфила, обращенное к Насте.
И взгляд Панфила только покосился, только скользнул по опустевшему блюду с румяными калачиками — дочка Аннушка в один миг догадалась, принесла, пополнила.
— И медку бы! — это произнес сам Кузьма Иваныч.
Потому что не принято в будние рабочие дни медок пить за столом, но старик понял: гостья, и он благословил по стаканчику, только старшим да гостье.
За медком идти — дело уже хозяйское. Это знать надо, какого сорта, из какого лагушка. Открыть, закрыть — все надо самому. И на молодиц поклепу не будет: дескать, украдкой выпила и посудину какую уронила...
Так может уронить, сломать, со всяким всякое бывает, а урони после погреба — всякий может согрешить, подумают, что выпила...
Ох, же и медок! От первого стаканчика Настасьины ноги так и приковало к полу. И смех и грех, и отказаться было неприлично: для нее медок достал Панфил Кузьмич.
— Пчелок ворошить, думаю, рано, — голос у старика не басовитый, скорее тонкий, но после второго стаканчика помягчел и потеплел: — Вот уж отроятся — тогда первинку подрежем. Осотинок-то привез сегодня, да темноваты. Цветок-то разный на полях, пустырей много нынче непаханых. Оне летят куда попало — обзарятся, вощина-то и не того... Не чисто-белая еще. Ну, оне это поправят...
В этом последнем выражении доверия самим пчелам речь Кузьмы Иваныча была слаще меда для Насти. Дедушка Фирс Чураев вспомнился. Так же вот просто и ясно, только у того голос был громкий, и, когда близко подходил и ждал ответа на вопрос, — рот держал открытым.
Сам хозяин, Панфил Кузьмич, так больше ничего и не сказал за все долгое время ужина. Только перед концом взглянул на Василька — тот понял, быстро вышел из-за стола, одиноко помолился на иконы и ушел. Лошадей к сену спустить. В полночь Панфил встанет рано с первыми петухами — напоит, задаст овса. Пахать они выедут на заре. По холодку приходится пахать — целину впрок пашут, — днем-то овод донимает лошадей. Днем и он в амбаре часок всхрапнет. А сейчас и всей семье пора спать. Света в доме зря не жгут, да и вставать всем тоже на рассвете.
Когда все встали на молитву, Настя поднялась последней. Едва оторвала ноги от пола и чуть не расхохоталась.
Угостили, так уж угостили.
И когда шла вместе с молодицами в их горницу, — едва тащила ноги. И не удержалась, громко рассмеялась и сказала:
— Да что же это со мною делается? Ведь будто и не пьяная, а себя не чую...
Все громко засмеялись. Когда вошли и горницу, она села на первое попавшееся место и потихоньку продолжала смеяться. Мысли ее были ясны, а ноги не держали. Вскоре пришла Макрина Степановна и повела за молодиц беседу. Слова ее лились без принужденья, гладко, просто и понятно.
— Ненилушкин-то муж, большак-то наш, уж третий год воюет. С первого грома забран, — она рассказала это для развлеченья Насти. — А у этих двух — обоих зимусь забрали. Куда ни погляжу — все девки да бабы. Из сынов-то Василек один остался на поглядочку, а робит как большой. Да и сам-то мой, дай Бог здоровья, поневоле молодцем доспелся: до зари встает да до потух-зари работает. До войны-то пятеро годовых работников нанимали, а теперь даже и дедушка заместо пастуха должен за скотиной доглядывать.
И про племянниц и про дочерей:
— А и девки-то работают заместо мужиков. Вчера да сегодня больше двухсот овечек остригли. А бабье ли это дело?
Настя слушала, а всего понять не могла. Чьи, от кого внуки? От сына или от зятя? Спрашивать неловко, да оно и так хорошо. Даже в сон клонит. А половики-то какие домотканые! Покрывала на перинах, подушек горы мягкие. Чистота, порядок, и видать, что мир да благодать. А Макрина Степановна, как родная мать, мысли угадала:
— Парунюшка и Аннушка, долговязые-то, — наш род, дочки; а Зиновея — видишь, тоже краля рослая, — наша сноха. Да всех сразу ты и не упомнишь. А вот эта, маленькая, что вошла, Ненилушка, — тоже сноха, жена большака нашего. Внучат-то двое от нее, а у Аннушки и Паруни — по одному, по третьему годку, а те там, что постарше — ребята двух племянниц да от брата моего, на войне убитого солдата, двое подростков, сиротки...
Макрина поникла головой и в раздумии продолжала:
— Я все к тому, что семья у нас большая, а мужиков-то нет работать... Бабы да девки во все гужи. Да от соседей, тут с заимочки, к молоку ребят берем. Молока-то у нас — слава Богу, на всех хватает. Две солдатки-бабы в поле, доглядать некому за ними. А тут у нас бабушка как наседка с выводком — всех под крылышко.
Заслушалась Настасья, залюбовалась всем и про своих детей забыла. Да и они про нее не вспомнили. У детворы были игрушки: дедушка на пасеке от нечего делать понастроил разных штучек из бересты: туесочки, лодочки, избушки с крышами и с окошечками — залюбуешься... А из обрезков тонких досок смастерил наливное мельничное колесо. Тут же, под тополями, ручеек, подставил под струйкой — оно и крутится. Хоть и поздно было, после ужина сбегали гурьбой, показали Фирсе, даже Савельку туда таскали под руки, как пьяненького. А теперь все с бабушкой внизу — перед укладкой в общую широкую постель забавляются с котенком. Для забавы Насте надо было и про котенка рассказать. Самый игрун, самый смешной, желтенький пушистый, озорной, как обезьянка, а без ушей. Кошка кормила пятерых, всех облизывала как полагается, а этому уши отгрызла еще крохотному. Так и растет без матери. Дети его кормят, и он спит с ними, всех веселит.
Пока Макрина рассказывала, две молодицы незаметно вышли из горницы и вскоре опять появились из разных дверей, одна после другой. В руках позади себя они что-то держали и выжидательно улыбались.
— Ну, покажите, покажите, — разрешила Макрина и разъяснила Насте: — это оне патретикн своих-то показать тебе желают. Уж я по глазам вижу...
Первой выступила Ненилушка. Темные длинные ресницы над глазами, синими, как васильки, дрогнули. Смеясь, она пыталась удержать накатившуюся слезу нежности и ласки и тоски. Она смахнула ее концом нарукавника — фартуки в тех местах носили с рукавами, чтобы сарафан спереди не пачкался. На груди ее подпрыгнули и затрепетали три тяжелые нитки бисера из настоящих янтарей, таких настоящих, что их блеск отсвечивает глубоким дымчатым огнем, а звук их подобен хрусту тонких нежных пальцев, выражающих волнение. Ненилушка имела привычку подавлять волнение швырканьем тонкого носика, и вся ее маленькая, тонкая фигурка, видимо, боролась против нахлынувшей силы любви. Хрупким, низким, ровным голосом она сказала просто:
— Это он нам к Пасхе прислал, когда его в унтера произвели.
При этом она, отводя влажные глаза в сторону, мимо свекрови, посмотрела на стену в горнице, где в рамке под стеклом висел аттестат ее мужа об окончании им, подростком, Березовской четырехклассной школы.
Настя с восхищением всматривалась в расцвеченную фотографию, на высокого невиданно-красивого воина в мундире с малиновой грудью, с перчаткою в одной руке, которая была сама в перчатке, а другую, без перчатки, правую, он молодецки приложил к фигуристому киверу, отдавая честь. Он снят был во весь рост, стройные ноги в высоких сапогах тоже невиданной формы. Лицо его было строго, чисто, с чуть подкрученными усиками... Макрина издали любовалась сыном, но больше наслаждалась произведенным на гостью впечатлением.
И робким, надтреснутым голосом Настя сказала:
— Господи, да он же у вас царь-царевич!
Ничего, казалось, не могло так наградить Ненилушку, и мать, и сестру Парунюшку, как именно такое, сказочное слово: царь-царевич...
— В царской он гвардии, в Питере, да, в Питере находится, — с гордостью ответила Макрина Степановна и сама передала обратно карточку снохе.
Настала очередь Парунюшки, которая все еще держала свой портретик позади себя, как бы боясь состязаться с братом. Брат, понятно, Полуяровой породы, богатырь, и к тому же унтер, и в мундире царском, но кто же поймет, как дорог ей ее солдатик милый?
Парунюшка с высоты своего роста поклонилась Насте, когда передавала карточку.
— А это Епифан мой Тимофеич!
Голос у нее был тонкий, сочный, распевистый, и волосы из-под головной повязки то и дело выпадали: тяжелые, их надо было все время пальцами вправлять под кашемировый платок. Другой рукой она придерживала янтари, чтоб не гремели при поклоне. Нет, это она сердце в груди придерживала. Поэтому говорила она с придыханием, не дожидаясь разъяснений матери:
— Он тоже Березовскую школу проходил. Ну, он еще только ефлетур.
Тут уж Макрина прибавила, чтобы Ненилушка не задавалась:
— Меньше года как его забрали, а пишет, что три раза Бог привел в действии, и за последний раз… Видишь, на груди-то?..
Да, этот был простой, не очень высокий, но крепкого сложения, бравый, в фуражке набекрень, в полной походной обмундировке, со свертком шинели через плечо, с винтовкой у ноги и с белым крестиком на левой стороне груди.
Парунюшка опять сама вслед за матерью сказала свое, и лицо ее, белое, вспыхнувшее краской, сияло юною, безоблачной улыбкой счастья:
— Так и написал: не снялся бы, ежели б, говорит, не получил Георгия…
Счастлива и горда была Парунюшка еще и потому, что и она писать умела и сама с мужем переписываться. Многие из других заимок к ней приезжают письма читать и писать на войну.
Настя любовалась карточкой, и особенно Георгием, и свое, тревожное, щемящее и вместе тоже гордое и радостное подступило к ее груди и к горлу. Не утерпела, и сама, не дожидаясь вопросов, сказала раздумчиво и печально:
— Ведь и мой-то уж теперича давно кавалер…
Глаза ее запали — три ночи недосыпала, да дорогою измаялась. В сравнении с молодицами в это время она казалась постаревшей, а всего-то, может, на три года старше младшей.
Задумалась, засмотрелась на карточку. Нет у нее карточки Кондратия — показала бы им, чтобы поверили, что герой, не соврала…
— Кавалерист, и тоже в чине… А только что вот уже девять месяцев ни слуху от него, ни духу. Вот и поехала его разыскивать, Кондратия Ананьича своего предорогого…
Как-то все сразу примолкло в горнице. Молодицы переглянулись с Макриной, а Макрина посмотрела на Настю, как бы впервые ее увидела, и протянула почти шепотом:
— Разы-ыскивать?..
Опять все помолчали, потому что Настя не ответила. Ей самой теперь казалось, что сама не в себе и говорит неправду. Но очнулась, как разбуженная после крепкого сна, и заволновалась:
— Да что же ребятишек-то я своих бросила? Ведь Савельку-то надо спать укладывать… Завтра надобно нам ехать.
— Ну, об детях ты уж не заботься. Бабушка тебе и не отдаст их. Сама-то притомилась. Девки, стелите-ка для гостюшки постель…
Вдруг Макрина Степановна строго и решительно покачала головою и сказала нараспев:
— Ох, нет, родимушка, никуда мы завтра тебя не отпустим… Ты и так измаялась, больше полутораста верст за три дня по горам… Ну, не-ет, нет, ты будешь завтра спать до солнышка, а потом денька два ты отдохнуть должна у нас. Завтра ты тут погуляешь, покрасуешься.
— И правда: не отпустим, – в голос пропели обе молодицы.
Вдруг табунком ворвались на цыпочках, чтобы не шуметь и не затоптать чистых половиков, четыре девушки, прислушались, поняли, в чем дело, и хором подхватили:
— Не отпустим, не отпустим!
— Мы завтра тебе огород покажем. Большо-ой у нас нынче, — похвалилась Феклушка, тоненькая, стройная, с льняной косой в руке, которую она привыкла на ночь расплетать.
— И маслоделку, — вставила Марфинька, точно по секрету: — У нас свой сепаратор — ж-жу-их, как работает!.. Утром мы тебе све-еженьких сливок принесем.
Марфинька, совсем еще подросток, на один год старше Василька, поспешила соблазнить:
— А мы у тятеньки попросим лошадь да на пасеку тебя прокатим. Трашпанка у нас но-овая, тятенька для нас недавно купил. А пасека наша — всего три версты отсюда. Всех ребятишек заберем, да и…— она не досказала, испуганно взглянув на мать, и тут же поправилась: — А мы коров подоим утром и к вечерней дойке возворотимся…
Даже слова молвить не дали. Молча развела Настя руками. Да и как не согласиться? Эдакое тут приволье, и всего полна чаша, и люди-то, Господи, какие все предобрые, прямо как родня, да и родня не у всех такая…
Как в награду за согласие, все сразу же заговорили шепотом, вперебивку рассказали ей, где что лежит, куда ночью, если надо, выйти, где умываться утром, сами же вихревой артелью постлали ей постель на перине, с горой подушек, и, подвизгивая от непонятного восторга, хороводом окружили Настю, как дорогую пленницу.
А Настя чуяла, что она уже спит и видит сон, хороший, долгий сон… Уж очень все так хорошо, так неправдишно, что лучше и не просыпаться. Смотрела опять на чистоту убранства, на цветистые половики, на мягкую постель, на занавески на окнах, на высоко взбитые подушки и на все такое хорошее, добротное, новое, неправдишно-тихое и чем-то дорогое. Сон и сон! Но вдруг проснулась, уронила голову себе же на колени, молодая, гибкая, нарядная в чужом новом наряде, и в голос завопила:
— Да родимые вы мои!.. Незнакомые мои подруженьки!.. Да не знаете вы горя моего несчастия!.. Да вы не ведаете моего имени и отчества!..
И пошла причитать складно, песенно и надрывно, каждым словом своим проникая в сердце. Сочиняла, как когда-то со своими подружками частушки на ходу сочиняла, и заливалась-плакала, как плачут над родным покойником…
И заплакали возле нее все женщины беззвучно, потому что слушали каждое слово, каждый вздох, каждый стон своей незнакомой, но уже по-родному близкой и понятной гостюшки. А она так же внезапно прервала себя, тяжко выдохнула последнюю скорбь, вытерла глаза и новым, крепким голосом, торопливо, чтобы успеть сказать больше, начала рассказывать про жизнь свою, про родное покинутое гнездо, про мужа, про весь чураевский род и быт и бывшее счастье…