II. ПОСЛЕДНИЕ В РОДУ
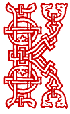 ак всегда, в горах алтайских там, где долины рек узки, а реки быстры, села и деревни стоят растянутыми по берегу и почти все в одну улицу, а к берегу реки городятся пригоны, воротами к реке, чтобы в любую погоду легко было выгонять на водопой скотину.
ак всегда, в горах алтайских там, где долины рек узки, а реки быстры, села и деревни стоят растянутыми по берегу и почти все в одну улицу, а к берегу реки городятся пригоны, воротами к реке, чтобы в любую погоду легко было выгонять на водопой скотину.
Так же была построена и Чураевка, но только в ней было две улицы: одна — пошире и застроенная сплошь хорошими избами, а другая — поуже и местами вовсе не застроенная. За ней лежала путаная сеть обнесенных плетнями и седыми тынными заборами огородов.
Когда зимою завывали из ущелий вьюги, огороды заносило сугробами до последнего колышка. К марту эти колышки первыми показывались из-под снега, и в тихую погоду снег на колышках держался белыми шапочками до самой оттепели. А во время оттепели шапочки покрывались тонким ледком, и тогда даже предвесенняя, самая свирепая вьюга не могла сорвать их с кольев.
Большая чураевская усадьба была также построена поближе к берегу реки. Когда задние пригоны, обращенные к реке и наполовину разоренные временем, совсем оттаяли, опавший снег так и лежал нетронутой стекловидной пеленой. Никаких следов на снегу: ни зимних, ни свежих — не было заметно. Значит, из дворов усадьбы на берег реки никакого скота на водопой в течение зимы не выгонялось.
Зимой, когда все было закутано снегами и когда, во время масленичного катанья, Настя проезжала в своей кошеве мимо усадьбы, вид старого чураевского гнезда еще не так был скучен, как стал он скучен и уныл весною, когда снега растаяли. Тогда обнаружилась вся бесхозяйственность двора со следами давнего пожара. Наваленный за зиму мусор и зола, сгнившая солома, недогоревшие черные головни и обломки разбитых старых горшков — все это наводило скуку на всякий обращенный на усадьбу взгляд и заставляло всякого прохожего тяжело вздохнуть и вспомнить все благополучие этой когда-то самой богатой здесь усадьбы.
С тех пор как года четыре назад Антон, второй зять покойного Фирса Платоныча, решил перенести торговлю в понизовье реки, все попечение о домашности осталось на руках первого зятя, Филиппа, мужа Анны Фирсовны.
А про Филиппа уже давно сложилась шутка: “Филипп из мужиков ушел и в купцы не вышел”.
Когда был жив Фирс Платоныч, Филипп был вроде приказчика в лавке, а когда Фирс умер, а средний сын, Викул, разорился и попал в несчастье, у Филиппа как-то все пошло из рук вон плохо: простоват был и доверчив. Остатки товаров, закупленные еще Викулом, роздал в долги, которые успешно выколачивал напористый Антон. Так все и пошло на ветер.
Анна Фирсовна, давно исхудавшая в нужде да воздыханиях, чаще и презрительней чужих корила мужа:
— Ой, да какой из тебя муж и хозяин? Ни козленка, ни дитенка завести не можешь.
Не столько бедность, сколько бездетность сокрушали Анну. От этого и у нее ни на какую работу руки давно не поднимались. А тут еще беда за бедой в роду и в доме. С тех пор как сгорела хоромина, жили они в одной комнате когда-то ярко крашенного, с резьбою по карнизам и по оконным наличникам большого дома, теперь уже серого, с заржавевшей железной крышей. А старая молельня, черная от времени, выдавала свои беспризорные годы белыми, ярко блестевшими на солнце заплатами из бересты на крыше. Большой дом стоял слепцом с закрытыми ставнями окон в нижнем этаже, с забитыми дверями лавки, хмурый серый великан среди соседских изб.
Пробивался Филипп кое-чем и кое-как кормился; все так же неизменно добрый и безропотный, он и сам шутил над собою:
— Богатого-то злые собаки стерегут, спать не дают. А нам с тобой, Фирсовна, замков не надо. А когда умрем, никого наследством в грех вводить не будем…
Послушает его Анна, разведет руками, да и сама ухмыльнется. Оно и правда: у родителей было всего вдосталь, и детей был полон дом, а куда все делось? И ни одного сына, ни внука на месте не осталось. Скрепя сердце умолкала и мирилась. Но когда изредка в ограде появлялась Булануха, а в седле ее Настя, жена Кондратия, Анна Фирсовна бегом бежала навстречу и осыпала жену племянника самыми нежными словами, расспрашивая о ребятах, о дедушке Ереме, о домашности и обо всем, что было дорого ее отцу Фирсу Платонычу: о пасеке, о часовне, о маралах. И о том, стоит ли еще крест на могиле родителя, схороненного у часовни? О том, что пишет Кондратий с войны? Оживала, веселела, даже молодела Анна Фирсовна всякий раз, когда к ним приезжала Настя.
А на этот раз, когда в один из солнечных весенних дней в ограде появилась на Буланухе Настя, Анна Фирсовна даже с места не двинулась. Только встала у окна и испуганно сказала:
— Гляди-ка, мужик: с ней что-ето неладное приключилось. С обоими ребятками приехала…
В седле сидели трое: Настя, позади ее седла – Фирся, а впереди – маленький Савелька.
Навстречу вышел Филипп и поспешил взять из рук Насти ребенка. Шестилетний Фирся сам скатился наземь. Настя оставалась в седле, безмолвная и неподвижная. Лицо ее не выражало ничего: ни горя, ни улыбки, — но было бледно и исхудало, точно после болезни. Филипп не спрашивал, а она не говорила. Наконец он помог ей слезть с коня, а в это время в ограду с замотанными поводьями узды, нагруженный сумами поверх седла вошел Гнедчик, и за ним следом вошел и остановился поодаль Савраска, без седла, только в узде с замотанными поводьями. В тени Савраски с высунутым языком медленно улегся уставший, не привыкший к путешествиям Борзя, цепной заимочный сторож.
Филипп попробовал пошутить:
— Да ты как это из воды сухой выехала? Вода-то вон какая дикая, а ты, видать, ни вплавь, ни вброд переправилась. Прыгом перескочила, что ли?
Настя не ответила, а Филипп продолжал шутить:
— Ты куда это со всей домашностью?
Но так как Настя опять не ответила, он подошел к Гнедчику, чтобы размотать повод и привязать коня к столбу.
В это время из избы в ограду вышла Анна Фирсовна и, обнимая Настю, приветливо залепетала:
— Што это с тобой доспелось, моя ягодка? – и, не ожидая ответа, задала другой вопрос: — Да где ты переправилась через вешнюю-то воду? Лошади-то сухие…
Настя снова помолчала и потом ответила обоим сразу:
— А вот чудом переправилась. Надоумил меня Бог верст пять по тропинке вверх по реке подняться. Брода, дура, в этакую пору с горя-то искала. А там лесорубы-то плотов наплотили. Все плесо ниже порогов-то запрудили плотами. Лесорубы-то ко мне приходят, молоком одолжаются. Вот они и сотворили чудо. Отрубили от большого плота “салок” (малый плот от десяти до двадцати бревен) да на салке-то по тихому плесу и переправили. Лошадей-то поодиночке, даже не расседлывали, а меня с ребятками на лодке. А без них — да разве я решилась бы с ребятками перебраться?.. Вброд-то там и в малую воду не всяк отважится брести, ну и я бродила, только без ребят… А нынче Бог послал мне этих лесорубов.
Анна и Филипп молчали. Настя склонила голову, повязанную тяжелой праздничной шалью, и пошла к покосившимся ступеням старой молельни.
Здесь она уселась, опустила голову на обе руки и завыла громко, с причетами:
...Да сокол ты мой милый, быстрокрылый!
Улетел ты, сокол, в край чужой, постылый...
Не найду теперь тебя нигде на свете.
Ой, сиротками злосчастными остались твои дети...
Так вот складно в горести и скорби сами собой сложились причитанья. Молча слушали Настю Анна и Филипп. Поняли: что-то тяжкое случилось с Кондратием. Но Настя скоро вытерла слезы, последний раз всхлипнула и тут же, на крыльце, стала рассказывать. Лицо ее покрылось красными пятнами, веки глаз распухли, ноздри вздулись, и на нос упали вылезшие из-под шали пряди неприбранных волос.
— Три недели билась я одна-одинешенька… Дедушка Ерема-то ведь ушел от нас…
— Ушел?! – в один голос спросили Анна и Филипп. — Куда ушел?
— Да куда? Надо быть, в скиты убрел! Все о грехах своих докучал мне. А я куда одна-то? Нанять некого, да и не на что. Способие свое от волости вот уже три месяца получить из-за распутицы не могу. А он хоть и хромой, а все же я за ним была как за каменной стеной. Да это бы еще в полбеды. Уж и маралов бы не жаль… — сказала, а сама залилась опять слезами и продолжала сквозь рыдания: — Последние ведь убежали… Городьба-то без призора в одном месте повалилась. При дедушке еще поставлена. Как травка-то на горах пошла, они убежали… Кабы зимой, так к сену бы вернулись, а теперь ищи их… И всего-то было двенадцать с молодняком… Ушли!.. А после одной беды – другая: пчелы наполовину умерли в омшанике… Замерзли, что ли. Зима-то, вишь, какая злющая была.
— Ну и што же ты теперь надумала? – спросил Филипп, поглаживая белокурую головку беззаботно смеявшегося Савельки. Фирся нахмуренно смотрел перед собою, как бы вслушиваясь и вдумываясь в жалобные слова Насти.
— Да что же я могу надумать?.. Кабы Кондратий-то был дома, так я бы и пахать сама готова, а теперича я не знаю, что и думать. Писем-то от него нету почитай что девять месяцев. Кабы знатьё, что он в плену… А ежели где в лазарете искалечен либо…
Настя запнулась, залилась опять слезами и долго молча вытирала влажные глаза кончиком красной шали, а потом стала просить и деловито наставлять:
— Вы уж поспешите на заимку-то. Коров-то я препоручила лесорубам, а они говорят: не умеем доить, но как-нито высосем.
Настя просто сквозь непросохшие слезы усмехнулась и продолжала наказ:
— Молока-то им давайте без отказу. У меня ведь три коровы доятся. Теленочка-то маленького я к корове подпустила, вы уж сами его отсадите… Да птицу-то кормите, корм-то еще есть в амбаре. И муки всем хватит. Все ведь я на волю Божью покинула...
Последние слова она выдавила через силу. Снова захлебнулась плачем. А потом опять справилась и снова учила дядю и тетку, давно отставших от хозяйства:
— Соберите что вам надо, на Булануху навьючьте, да и поспешите, прямо до порогов и идите, там покричите лесорубам, они вас переправят на салкe. Да Борзю-то не оставляйте здесь, он сам за Буланухой побежит… Ведь я не хотела его брать, хотела на цепь посадить, да он сорвался, побежал за нами и реку вслед за нами сам переплыл…
Во всех этих подробностях Настя была все еще в своем горном углу, в заботах о своем хозяйстве, а в слезной думе о неведомом, туманном завтрашнем пути лелеяла одну надежду на Кондратия. Найдет его – с ним и разоренное хозяйство заново поставят. А не найдет?.. Об этом сама дума застывала, в страхе утопала. Но решение было твердо, безумно до отчаянья. Любовь ли к мужу была так сильна, страх ли вдовства и сиротства-одиночества, — об этом думать ни времени, ни пользы не было. Вставала во весь рост живая, чистая, цельная душа жены и матери и вела ее неясной силой в неведомое завтра – вот и все тут.
— Коров-то вы возьмите, — вдруг сказала она, задыхаясь, что значило, что она решила заимку свою покинуть надолго, может быть, навсегда. – Ежели Кондратия мне Бог поможет разыскать, тогда уж как-нито сочтемся за труды… А ребяток я… — тут Настя больше продолжать уж не могла. Да и так все было понятно: решила взять с собой обоих.
Всему бывает тот или иной конец. Уж больно много за последние дни выплакала слез Настасья. Главным и самым решающим ударом по ее сердцу было то, что позавчера пошла она мимо часовни коров загнать, смотрит: крест на могиле дедушки Фирса упал. А в семье давно было поверье: кто на родительской могиле крест не убережет, — не владеть тому родным углом. Вот почему боялась она сказать и Анне про упавший крест. Не поедет Анна на заимку, если это узнает. И хоть поставила Настасья крест на место, чтобы не сразу Анна заметила, когда приедет туда, но все равно крест долго не устоит. Все подножие прогнило. Не досмотрели, допустили этакое нерадение. Как ножом, ударило это по сердцу Насти. Вся неминучая беда выросла перед нею как непроходимая стена. Вот она и заметалась, бросилась куда глаза глядят.
Сперва она хотела ехать к золовке Степаниде, да больно далеко живет. Степанида, Стешка, младшая Ананьевна, которая уже три года замужем за солдатом и живет вместе с матерью, Варварой, Настиной свекровью. А муж у Стешки на войне. Своей беды у них довольно, а главное, живут далеко в понизовых волостях, верст до ста от Чураевки. И потому надумала Настасья отправиться к “учительше”. Так они с Кондратием прозвали жену дяди Василия, Надежду Сергеевну. Она еще не знала, где живет учительша и ближе ли свекровки Варвары, но почему-то ей казалось, что утешенье будет только от учительши. Слыхала она о ней от дяденьки Василия, когда он был здесь во время солдатского сбора на войну. Знала Настя, что учительша – бывшая жена Викула, когда-то прикатившая вверх по реке на красной, дьявольской, самокатной лодке. Не знала Настя всех подробностей, как знала их по-своему Анна, на особый лад, нехорошо. Так случилось, что избегали говорить в семье о Надежде Сергеевне как о тяжелом семейном позоре. Не довелось и Насте слышать всех подробностей о женитьбе дяди Василия, которого Настя и Кондратий привыкли поминать добром.
Однако Анна, не тревожившая расспросами Настю в течение вечера, наутро набралась материнской нежности к ребятам и решила удержать их при себе.
— Куда ты с ребятками поедешь? Обоих либо заморишь, либо вовсе потеряешь!
Филипп, при всей своей застенчивости, не позволявшей ему давать кому-либо советы, на этот раз сказал решительно и ясно:
— Очень просто: ребяток мы с тобой не отпустим! Останутся у нас, и все тут!
Настасья промолчала. Разумом она была с Филиппом, сердцем же — с детьми. Она не представляла, как она может их кому-либо оставить, но чуяла, что как-то это вырешится у учительши. То, что у учительши есть свои дети, внушало больше доверия к учительше, нежели к родной бездетной тетке.
Подумавши, как бы не обидеть тетку и Филиппа, она сказала наконец:
— Пока что я с ними не расстанусь. А там видно будет. Может, и вернусь с пути. А может, для ребяток лучше добьюсь льготы на дорогу.
Она предполагала, что с детьми ее везде пропустят и подвезут без денег.
Как упавший на могиле дедушки Фирса крест толкнул ее на неожиданный отъезд с заимки, так и дальнейшие ее решения происходили неожиданными толчками, без определенного плана, без обдуманного решения.
— Булануху-то тоже возьмите, — сказала она после ночевки утром, уже перед отъездом. – А то что же вы будете делать на заимке без лошади? Да собаку-то привяжите, а то за мной погонится.
Это растрогало Анну и Филиппа, который в самом деле сразу становился как бы полным хозяином. Но тем острее было его желание оставить при себе хотя бы старшенького, Фирсю. Но Настасья не согласилась. Так же, без ответа, она продолжала сборы, и вскоре был оседлан Саврасый. Седло с Буланухи пошло теперь на Гнедчика. Настя, поднимая седло, понатужилась: седло-то из тяжелых, дорогих. Обе луки окованы серебром, нагрудник и подфея тоже под серебряным набором, ручной китайской работы; стремена звякнули, когда поднимала седло, и тяжестью ударили ее по коленкам. Эти из нержавеющей стали с золотой насечкой по краям. За такое седло хороший хозяин пару лошадей отдать не пожалеет. На Саврасом-то седло полегче, потому что подседельник там из домашней самодельной кожи, а этот – тоже из Китая, кожа толстая, под нею желтый, правда, потемневший от конского пота потник, но по углам кожаного подседельника опять же узорчатые треугольные пластинки из серебра. Впервые привелось ей подумать о седлах и сравнить их, и спросить себя: там, на равнинах, знают ли цену таких седел? И тут же согрешила насчет дяди Филиппа. В дедушкиных амбарах, Кондратий сказывал, таких, да еще лучше, седел было больше десяти, а где они, когда и амбаров-то уже нет? Все на пожар сваливает… Неужто ни одного седла не спас?.. Но другая думка перебила жалость о пропавших седлах. Страшновато и с этими в путь пускаться: на такие седла и не вор позарится. И когда оседлала Гнедчика, застегнула нагрудник, выправила хвост из-под подфеи, подтянула подпруги, Филипп помог наложить позади седла сумы, Настя открыла одну из сум и, порывшись, достала помятое Савелькино фланелевое одеяльце и им прикрыла седло и часть подседельника, а в словах Филиппу слукавила:
— Так-то мягче ему будет сидеть.
И заметила: глаза Филиппа завистливо скользнули по серебру набора, но он смолчал и только тяжело вздохнул, быть может, вспомнил о тех, других седлах, о которых вспоминала и Настя.
И вот Настя сама усадила на Гнедчика Фирсю, села на Саврасого и взяла из рук Филиппа заспанного Савельку.
Борзя привык оставаться на привязи, и так как оставалась Булануха, то он не скулил и не рвался за хозяйкою.
Булануха стояла на привязи и, повернувши голову в сторону Саврасого и Гнедого (оба ее сыновья), — звонко, предчувственно заржала. Оба мерина ей не ответили, но из ограды выходили нехотя и порывались обратно. Недаром же они ходили за Буланухою без поводьев, гнались, как жеребята.
Настя при прощанье с теткой Анной не плакала. Лицо ее, напротив, было озарено какою-то надеждою, а главное – оба сына были с нею. Где-то, если надо, она может продать Гнедка и Савраску с седлами, но детей она ни на кого не оставит.
— Ну, тетанька Анна, прости и благослови в путь-дороженьку! – сказала Настя и даже улыбнулась.
Это не утешило Анну. Филипп почти побежал вслед за лошадьми Насти, а Анна осталась с опущенным в свой фартук мокрым от ослепивших ее слез лицом.
— Ну куда она, куда она поехала? – спрашивал себя и Анну Филипп и смотрел вслед маленькому каравану, ускорявшему шаг вдоль вытянувшейся по берегу реки горной тропе.
Куда поехала Настя, она и сама еще не знала. Но сердце ее рвалось туда, в неведомое и далекое, где должен, должен был быть ее Кондратий, отец вот этих самых малых, самых последних в чураевском роду.
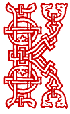 ак всегда, в горах алтайских там, где долины рек узки, а реки быстры, села и деревни стоят растянутыми по берегу и почти все в одну улицу, а к берегу реки городятся пригоны, воротами к реке, чтобы в любую погоду легко было выгонять на водопой скотину.
ак всегда, в горах алтайских там, где долины рек узки, а реки быстры, села и деревни стоят растянутыми по берегу и почти все в одну улицу, а к берегу реки городятся пригоны, воротами к реке, чтобы в любую погоду легко было выгонять на водопой скотину.