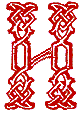 з тысячелетней нашей истории пора нам знать, что жизнь русского народа огнеупорна. Душа его неистребима и в огне лишь закаляется и очищается.
з тысячелетней нашей истории пора нам знать, что жизнь русского народа огнеупорна. Душа его неистребима и в огне лишь закаляется и очищается.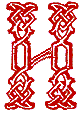 з тысячелетней нашей истории пора нам знать, что жизнь русского народа огнеупорна. Душа его неистребима и в огне лишь закаляется и очищается.
з тысячелетней нашей истории пора нам знать, что жизнь русского народа огнеупорна. Душа его неистребима и в огне лишь закаляется и очищается.
Циклами приходят беды на Россию, а она стоит, не падает.
В семье Полуяровых крепко помнились стародавние преданья и проверенные опытом веков, из поколенья в поколенье перешедшие, житейские истины. Одна из них уже оправдалась:
— “Беда не приходит одна, а всегда с беденятами”.
Когда Настя с Васильком ускакали в Березовку, Макрина долго лежала без памяти, истекая кровью. Вся семья уже прощалась с нею как с умирающей, только Парунюшка не отчаялась и догадалась льдом и перевязкою остановить кровотечение, но раненая не приходила в себя, дышала тяжело и даже задыхалась, потому что рот ее был переполнен кровью. Парунюшка и тут нашлась: она разжала ей рот концом серебряной ложки и чистой тряпочкой удалила сгустки крови, а Ненилушка подсказала влить ей в рот горячего молока. Макрина захлебнулась, молоко вызвало рвоту, и это удалило остатки крови. Женщина стала ровнее дышать и затихла. Никто не знал, к лучшему или к худшему она затихла. Так прошла вся ночь, в тревоге и бессоннице для всей семьи,
Лицо Макрины было обмотано повязкой, только один, неповрежденный, глаз был открыт. И вот утром, при свете солнца, когда бабушка сменила Паруню и Панфила, Макрина открыла этот глаз, узнала бабушку и слабо, невнятно сказала:
— Пить.
Бабушка растолкала тут же спавших молодиц:
— Вставайте, молитесь Богу. Макрина в твердой памяти!
Все ободрились, ожили, повеселели, а сама бабушка собрала всех детей и опять уехала на насеку.
— Рано им наши грехи расхлебывать! — сказала она громко, и эта мудрость успокоила и обессилевшего от волнении Кузьму Иваныча и самого Панфила, который уже не отходил от Макрины.
На другой день поздно вечером на заимку прикатили становой и доктор. То, что требовалось для Настасьиного пробега в первый путь: четырнадцать часов, а обратно — целые сутки, — становым на земских, переменных лошадях было покрыто ровно в семь часов. Доктор нашел, что жизнь Макрины вне опасности. Наложил швы на ее рану, сделал перевязку, оставил Парунюшке перевязочные средства и рассказал, когда и как переменить повязку. Исправник Шестков, ныне становой, между тем произвел дознание. Все было ясно. Полуяровы поступили правильно, что связали налетчиков, но сделали большую ошибку, что “развязали” самого опасного из них, главаря, и тем самым помогли его побегу.
К розыскам бежавшего будут приняты меры, но где теперь его найти? Мужику-кучеру Шестков приказал везти всех трех арестованных, и из сопровождавших его трех вооруженных стражников дал ему двух, а сам с третьим и с доктором в ту же ночь выехал обратно в Березовку. Настя никого из них на своем обратном пути не встретила, вероятно, потому, что пристав промчался, когда они с Васильком спали при дороге, а мужик с “пассажирами” заехал в одну из деревень для отдыха. Короче говоря, на заимке Полуяровых почувствовали облегчение и не побереглись бежавшего. А бежавший далеко и не бежал. Первую ночь он отошел лишь за поскотину, пытался в темноте поймать одну из лошадей, но у него не было узды. Тогда он прокрался на задние дворы, где встретили его собаки и помешали найти узду или веревку. Он залез на сеновал и наткнулся в сене на куриное гнездо, полное яиц. Яйца были холодные, значит, не запарены, и ими можно утолить жажду и голод. Напился сырых яиц, зарылся в сено и долго спал как убитый и хорошо выспался. Когда наступила темнота, он приготовился бежать, но не знал, как найти узду или веревку, чтобы поймать лошадь, однако звон колокольцев и шум большого тарантаса заставили его опять искать убежища. Он ушел через огород в кустарники, но собаки опять его выследили и подняли лай. На заимке же все были так заняты Макриной, приездом пристава и доктора, допросами, что отдаленного лая собак никто не слышал. Тогда чернявый забрался в старые скирды соломы на гумне, совсем у самой заимки, и там провел вторую ночь. Весь день он голодал до послеполудня. О судьбе своих партнеров он не думал, но чуял, что их увезли. Пешком он не хотел бежать, не знал дороги и боялся света. Но этот светлый предвечерний час он выкрал у времени для поджога того самого гумна, в котором прятался, а когда поджег, не теряя ни секунды, перебежал кустарниками к задним дворам, где было сено, и, выждав, когда хозяева и люди побежали тушить гумно, он быстро выбрал первую попавшуюся из висевших под навесом узду, зажег сено и, никем не замеченный в облаках дыма, убежал в овраг, где протекала речка и росли высокие кусты, густые и местами непроходимые.
Пожар забушевал с двух концов, и люди заметались между двух огней. Панфил бросился было к амбарам: там хлеб, зерно, а рядом сарай с плугами, сноповязалкой, сенокосилка, в завозне — пахотная сбруя, седла, экипажи...
Все то, что кормит и поит пахаря. Птица как раз была в ограде, ожидая вечерней кормежки. Пугнул се, а она, глупая — в огонь и в дым и снова к нему под ноги. Крики женщин напомнили ему, что надо ведь спасать людей и прежде всего Макрину. И работники, и пастухи, и доильщицы коров, и собаки, и куры, и индюшки, и коровы, только что пришедшие для дойки — все кричало и металось в дыме и огне... Где тут было думать о поимке поджигателя? А поджигатель тоже времени не терял и пытался поймать хотя какую-либо клячу, но и клячи все были так перепуганы пожаром, криками и бегством скота, что ни одна из них не поддавалась. Так вместе с дымом и огнем затмилось небо, потемнел овраг, и поджигатель залег в нем, как загнанный, истерзанный волк, и долго лежал, не имея сил и смелости искать исхода.
Усадьба между тем пылала. Уже загорелся маслодельный завод, огонь выбрасывал черные клубы дыма пережаренного масла. На выкаченную на середину ограды сноповязалку летели головни с загоревшейся завозни. Огонь наступал на трапезную... Времени ни у кого и ни на что не было. Спасали уже только самих себя и друг друга.
Опаленные волосы, измазанные сажей лица, изорванные тряпки вместо платьев делали всех женщин одичавшими в безумном метании, как в какой-то дикой первобытной пляске. Это было в то самое время, когда Василька и Настю их кони понесли в разные стороны. А когда Настя упала с лошади и уже лежала на земле без памяти, над усадьбою свершилось чудо: громадная туча навалилась с грозою, и хлынул ливень. Такой ливень, что в получасье все, что было огнем, зашипело паром, и только дым все покрывал своей уродливой косматостью.
Вот этот-то ливень и привел Настасью в чувство. Не сразу она встала, не сразу поняла, что с нею, не сразу нашла твердость в ногах направить слабые шаги свои на пепелище.
А когда пришла, увидела, что все еще дымится и черно вокруг, а большой дом целехонек. На крыльце его сидел Панфил и, свесив голову на грудь, был неподвижен, как окаменелый. Он был весь в лохмотьях, в саже, опаленная борода стала короче, волосы на голове стояли дыбом.
Он даже на шаги Настасьи не оглянулся. Она молча села возле него и не решалась заговорить. У нее у самой окаменело сердце от страха за детей, но потому, что дом был цел, в ней затеплилась надежда, что, может быть, и дети где-то спасены. Наконец она решилась тронуть за плечо Панфила. Он обернулся нехотя и будто не признал ее. А когда узнал, вскочил и, не говоря ни слова, повел ее к пруду, за тополями.
Настасья все еще не решалась спрашивать о детях. Страшилась ответа, а он молчал.
Под тополями на какой-то временной лежанке, укрытая с головой сборною одеждой, находилась Макрина. Около нее дремала сидя Ненилушка. Панфил остановил знаком руки Настасью, чтобы обождала поодаль и не подходила, а сам приблизился к больной и что-то ей шепнул. Макрина застонала и стала навзрыд плакать. Тогда Панфил поманил Настасью. Та подошла, и все три женщины стали обниматься, и выть, и причитать друг возле друга.
— Ну что плакать-то? — сурово зарычал на них Панфил. — Дом устоял, есть где голову преклонить. Девки и бабы уже все в доме спят как мертвые. Сама ты, слава Богу, будешь здорова.
В это время где-то на дереве поблизости пропел петух.
— Слышишь, и петух уцелел. Может быть, и пара куриц спаслась. Не плачь. Молись Господу! — и тут он спохватился, обращаясь к Насте: — Ведь вот какое Божье соизволенье! Бабушка всех ребяток еще с вечера увезла на пасеку. А за нею и старик отдыхать уехал, измаялся тут. Спят, поди, без горя, без печали. А тут вот и тебя Господь принес в сохранности… — но тут же вспомнил и спросил: — А где же Василек-то?
— А разве ты его не видел? — спросила Настя, но в вопросе уже не было испуга. Дети живы, уже ничто не страшно. — Ведь мы еще вечером приехали… Меня лошадь унесла, и я не помню, как это случилось... На пашне, тут поблизости, всю ночь без памяти лежала.
И сама, уже шепотом, спросила у Панфила:
— Неужто он тоже где-нибудь свалился? У меня и конь с седлом куда-то убежал. Я кое-как пешком дошла, — и в голосе ее вместо тревоги звучала спрятанная радость: — “Все живы!”
Гуси загоготали на прудочке. Эти оказались героями: все спаслись.
Панфил выпрямился во весь огромный рост, помолчал, посмотрел по сторонам. Опять приблизился к Макрине, наклонился, что-то шептал, но плача ее унять не мог. Из ее повязки смотрел лишь один глаз, и тот ничего из-за слез не видел, но вопрос был тот же — слабым голосом, но четкий и прямой:
— Где Василек?
Панфил молчал. Сказала Настя:
— Не сумлевайся! Он где-нибудь спит... Дорога была дальняя.
Василька действительно нигде не было, но Настасья, успокоенная тем, что дети ее целы-невредимы и в безопасном месте, почувствовала страшную усталость и о Васильке как-то не могла уже ни спрашивать, ни помнить. Ушла в дом и, не раздеваясь, сунулась на первое свободное место и но-настоящему заснула крепким, богатырским сном.
А с Васильком случилось то, чего нельзя ни сочинить, ни выдумать. Только сама подлинная жизнь, законы которой непреложны, может это продиктовать и уточнить.
Когда Василек потерял волю над конем, не пожелавшим идти в огонь, выело Васильку глаза дымом, а конь понес его вдоль стены огня и заворачивал все влево, туда, где, чуял он, спасаются другие кони, потом в овраг и прохладу густого кустарника. Но вышло так, что горящая головня догнала коня и упала ему на гриву, и на бегу грива вспыхнула. Василек стал голою рукой тушить, обжег руку, стал тушить другой рукой, обжег другую. Выронил повод. Заревел по-детски от боли и бессилия справиться с конем.
А в это время в сполохе зарева увидел, что за ним следом мчится лошадь в седле и без седока. Не сразу понял, почему лошадь в седле. Не поверил бы, что Настя свалилась с коня — такая наездница. Повод узды коня волочился... Руки и свой повод держать не могут, все равно не достать из седла повод другой лошади — пусть уж бежит так, только бы подальше от огня и дыма убежать… Вот если бы в овраг и к воде — напиться бы?.. Наглотался дымом, нутро горит... Сполох и гром... Нет, это не от пожара — это молния... И полил дождь, а в дожде вверх по косогору из оврага почти ползком крадется человек. Так и есть — крадется наперерез коню в седле.
В сполохе молнии, в косых струях дождя мелькнул за человеком хвост... Тонкий, черный, как змея... Нет, это у него в руках узда и повод тянется, блеснул ремнем в воде. Ближе и быстрее ползет, как четвероногий.
Все ясно! Он здесь прятался, ждал и дождался: лошадь в седле, в узде, без седока. Вот он уже поднялся к скользящему по траве поводу узды. Но лошадь шарахнулась от него в сторону неподвижного, скованного страхом Василька. А в руке у человека палка. Сверкнула молнией в дожде и поднялась и движется на Василька. И еще молния... А лошади опять шарахнулись и разошлись.
Но грохот грома, свет молнии и жуть оглушили, ошеломили Василька и все открыли:
— “Он самый!.. Это он!” — даже не мысль, не догадка, а вся суть, вся жуть в этом откровении: это под его ударом упала мать!.. И это он поджег заимку!..
И вдруг боль из обожженных рук ушла. Нет боли! Последний ожог ее напомнила висевшая на правой руке ременная плеть. Толстая, твердая, сплетенная из шестнадцати ременных полосок киргизская плеть. Плеть — последняя зашита. Рука впилась в тяжелую таволожную рукоятку... Но удар палки уже просвистал, и тело Василька как будто переломилось надвое: так рванула его лошадь вперед. Промахнулась ползучая жуть, удар попал на спину лошади, и лошадь рванулась вперед и отнесла от жути Василька. Василек жив и невредим. И сразу вырос Василек, и нет боли, нет страха, только ярость незнакомого ему ожесточенья.
А дождь все льет, и молния, и гром. Слепит и озаряет. Плеть!.. У него есть плеть! Без сознания, но в ожесточении повернул Василек коня, и конь послушался. Видит Василек: схватил “ползучий” человек повод Настиного коня, стал уже садиться на него, да не может сразу влезть. Стегнул по коню Василек, бросился к врагу... Тот изловчился, сел в седло, но выронил палку, но в руке у него узда и хвост-повод тянется и путается, он собирает его, а то, что было у ползучего лицом, стало страшной маской смерти. Только дыры вместо глаз, кость бритого черепа и носа нет... И это смерть набросила на луку Василькова седла головную часть узды. И покачнулся на седле Василек, но конь его повернулся боком, закрутил удавкой вокруг пояса узду, и это отдалило победу смерти: не телом Василька, но самим седлом выдернуло из рук смерти узду. Теперь у Василька вместо одного два оружия защиты: плеть и узда. И Василек вырос еще больше, в один миг вырос в силу неожиданной решимости — не отпустить, замотать, задушить, но не отступать! Белые ручки ему помахали... Белые, белые, нежные ручки!.. Вот для них и для отца и для матери, может быть, уже умершей, замучить и пригнать домой, на пепелище, живым, на потеху всем обиженным и погоревшим.
И остановилось время, а, может быть, полетело с удесятеренной скоростью... До времени ли Васильку, когда он растет не по дням, а по минутам? Выжидают оба, оба нападают, оба отступают. Времени нет...
Но смерть не сдавалась и блеснула новою угрозой. “Ползучий” вынул нож из-за голенища. Не длинный, но блеснувший остриём... Нож надвигался. Василек стегнул своего коня, отъехал... Смерть погналась за ним. Но обе лошади были измучены и не могли догнать одна другую... Уже тянулась рука смерти, вот-вот дотянется. Василек стегнул плетью по этой руке и по своему коню; рука отдалилась, но снова протянулась, и почуялась в ней дрожь неотступности... Выбежали на мягкую пахоту. Ноги лошадей стали вязнуть в грязи. С храпением от изнеможения они пошли уже шагом, обе, как сговорились, не отставая одна от другой. На одной траве паслись, одной водою вспоены, кони-братья, разделенные в эту минуту одним шагом смертного поединка всадников. И тут надумал Василек свой отчаянный, небывалый для подростка прием защиты. Левою рукой, в который он держал недоуздок — это не была узда, а был недоуздок, без стальных удил, — размахнулся наотмашь и ударил по морде настигавшей его лошади. Оскорбленная, невинная, измученная лошадь неожиданно для ее седока рванулась в сторону, и всадник-смерть вывалился из седла.
Вывалился, но и лошадь над ним стала как вкопанная, и Василькова лошадь стала. С усилием пинал ее в бока и понуждал Василек на новую атаку, видел, что смерть что-то шарит на земле и ползает... Смерть выронила нож. Как раз теперь удобно наскочить и задавить конем, ударить плетью... Нет, давить ее, ползучую, не надо. Белые нежные ручки машут и трепещут торжествующе. Ай да Василий Панфилыч!.. Но кони не сходились, и смерть опять вползла и седло. Она нашла нож и ножом стала тыкать в бок своей лошади и лошадь заржала от боли и ринулась на Василька.. И вот оно, острое, блестящее жало смерти достигает уже хвоста Васильковой лошади. Разрастаясь в блеске отдаленной молнии, показалась струйка крови на боку коня, на котором приближалась смерть. И опять нашлась сила, последняя, разъяренная жалостью к окровавленной лошади, и Василек ударил уже правою рукой, вооруженной плетью, с яростью, с оскалом зубов ударил по длинной-длинной руке смерти, и вывалился нож, и повисла длинная рука... И ударил по голому костяку, без носа, с дырами вместо глаз. И ударил еще... Но ручки помахали: “Не надо до смерти, Василий Панфилыч!.. Не надо!” А лошади только взмахивали головами вверх, а с места не сходили... И повалился в грязную пахоту убийца, поджигатель и... "депутат"... И сидел так — и ни звука, только дыры глаз зияли чернотой, и кровь текла с голого лба в черные впадины его глаз.
Василек плакал в седле, ребячьим ревом ревел. И уже не боялся, что смерть встанет, но и не хотел, не мог отступить от нее, не хотел оставить одну. Не двигались с места лошади. Кровь текла из бока лошади на окровавленный лоб смерти... Вечность протекла... Уже и дождь перестал, и занялась заря, а враги не расставались...
При ярком свете восходящего солнца в этом виде разыскал их пастух Полуяровых. Сам Полуяров рыскал на свежем неоседланном коне в другом краю полей. Вместо узды нашел веревочку. Искать узду в дымящемся пожарище было некогда.
Силы у Василька вовсе не было, чтобы помочь пастуху взвалить в седло окровавленную жуть смерти, а пастух один не смог справиться. Коротыш, а пожилому человеку — не под силу. И лошади не двигались. Стояли и спали, понурив головы. Пришлось пастуху скакать домой, на пожарище, и искать Панфила.
Не сразу кое-что нашли в обугленном хозяйстве. Ни узд, ни седел, ни телег, ни хомутов. Может быть, что и сохранилось под нагроможденьями дымящихся развалин. Устроили носилки и привязали их между двумя лошадьми. Так и доставили побежденного в небывалом поединке врата на черное пепелище им же учиненного зла.
Молчали все, и ни о чем не спрашивали Василька, и сам он молчал. На лице его были потеки слез и сажи, а руки — в пузырях, и, как старик, он с трудом слез с лошади, но стоять не мог.
Его ввели в родной, слава Богу, уцелевший дом, и он даже пить не попросил. Свалился.
Выпрямившись по весь рост, стоял Панфил над сыном, единственным оставшимся при нем, перекрестился на иконы и сказал:
— Неслыханное дело: одолел экую сатану! И добро, что не убил до смерти. Живого сподручнее к закону предоставить...
Но Василек уже не слышал. Он спал и во сне вырастал, чтобы проснуться молчаливым, потерявшим юность угрюмым парнем. Ожоги заживут, не заживет душа.
А над поверженным злодеем хлопотали молодицы. Обмывали раны, перевязывали и приводили в чувство. Придя в чувство, он на этот раз не кусался, не плевался, а молчал, но не издавал ни звука, неукротимый мститель.
На другой день выспавшийся победитель вместе с отцом сам сопровождал в Березовку преступника, но без стражи и не связанного. Злодей не принял пищи, был слаб и не опасен.
Шестков был поражен подробностями поединка и с трудом верил, что этот тоненький паренек мог победить. И этот случай еще более укрепил его в надежде, что и все зло революции будет вот так же молодыми силами страны побеждено, а правда и добро восторжествуют. Но в тайниках его сознания рядом с ненавистью к революции гнездилось небывалое удивление самому себе: в нем происходила внутренняя перемена и пробуждалась человечность... А может быть, это был только притаившийся страх и предчувствие чего-то худшего. Во всяком случае избитого преступника он отправил в больницу и не допрашивал его, пока тот не выживет и не оправится.
Белых, нежных девичьих ручек Василек не видел. Его в загородный дом пристава не пригласили. Но девушки и так узнают от отца, что Василий Панфилыч герой и навсегда останется врагом злодеев.
На замке Полуяровых через неделю после пожара произошло еще одно невероятное событие. Вся эта неделя била сплошным угаром. Все ходили сами не свои, не знали, за что взяться, но все же раскопки пожарища привлекали их и принесли большие плоды. Оказалось, что спасительный ливень под обвалившимися крышами завозни и амбаров сохранил немало добра. И телегу можно было по колесам собрать, и земледельческие машины не сильно пострадали, и зерно в амбарах только сверху обгорело и прогоркло дымом. Словом, копались и радовались каждой новой находке. Настя тоже помогала и все еще в дальнейший путь не уезжала. Если в счастии и благоденствии было приятно погостить, то в несчастии оставить больную Макрину и всю семью было бы грехом. Тем более что ни сама она, ни дети, ни даже дорогие ее седла не пострадали. Благо, своими седлами для поездки в Березовку оседлала хозяйских лошадей.
И вот, не найдя ни одного целого седла среди пожарища, Панфил попросил Настасью одолжить ему одно из седел, чтобы верхом на лошади поехать в деревню к новоселам. А в деревню новоселов пришли как раз три солдата, все из немецкого плена. Работали они у немцев в тылу армии, были истощены, толку в их работе было мало, а братанье на фронте было уже началом мира, немцы и прогнали их на русскую сторону. По той же причини непригодности ни в строй, ни на работу, отпустили их и из русской армии. Вот они и вернулись домой, на поправку, да не все из этой деревни. Один пробирался дальше, в горы. И вот этот-то солдат, бородатый, в потрепанной и грязной русской шинелешке и в немецких сапогах, и увидел стоявшего на улице деревни Панфила. Не Панфил заинтересовал его, а седло на лошади. Точь-в-точь такое, как у него на собственной заимке, куда он все еще не может дотащиться. Подошел солдат к Панфилу, остановил — и прямо о седле, смело и сурово:
— Откуда у тебя это седло?
— А ты кто такой? — огрызнулся великан. — Не у тебя ли украдено?
— У меня и есть! Это мое седло!
Тут в перепалке и открылось, что солдат был не просто пленный, а кавалерист, ефрейтор, Кондратий Чураев.
Не надо сказывать, как слез с коня Панфил, как обнял он Кондратия и как удивил его рассказом о всех приключениях его жены, Настасьи Савельевны.
Не надо сказывать, как много было пролито радостных и горьких слез при встрече не только Настею, но и всей семьею Полуяровых. Бывает всякая беда, бывает всякая случайность, но чтобы вот так хорошо, как все это хорошо закончилось для Насти, — ни для кого, нигде на свете не бывает. После этой встречи рассказывать о чем-либо еще, было бы уже великой скукой.
А потому пора и честь знать и на этом месте остановиться, чтобы дух перевести.
Конечно, остаются еще кое-какие концы не связанными, но прощупать их до их начала — потребовалось бы много времени и наших нервов, которые мы должны пощадить. Запасемся терпением до логического развития дальнейших событий. Ведь углубление революции и настоящая пляска во пламени только-только начинается. Терпение и пересмотр прочитанного в этом случае весьма полезны для нашего душевного равновесия.