XII. ДО ИСТОЩЕНИЯ СИЛ...
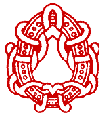 т заимки Полуяровых проселочная дорога уходила на северо-запад широкой полосою грядок. Хорошо утоптанные копытами коров и лошадей, накатанные колесами колеи отделены были одна от другой зелеными травяными грядками. По обе стороны дороги лежали молодые всходы пашен и заросшие дикими цветами невспаханные пустыри. От них веяло прохладой и душистыми травами. Быстрый бег коней укачивал, вызывая из тишины легкий встречный ветерок, который щекотал лицо Настасьи выбившимися из-под подшалка волосами. По временам она склонялась к гриве лошади как бы в усталой дремоте.
т заимки Полуяровых проселочная дорога уходила на северо-запад широкой полосою грядок. Хорошо утоптанные копытами коров и лошадей, накатанные колесами колеи отделены были одна от другой зелеными травяными грядками. По обе стороны дороги лежали молодые всходы пашен и заросшие дикими цветами невспаханные пустыри. От них веяло прохладой и душистыми травами. Быстрый бег коней укачивал, вызывая из тишины легкий встречный ветерок, который щекотал лицо Настасьи выбившимися из-под подшалка волосами. По временам она склонялась к гриве лошади как бы в усталой дремоте.
Извиваясь вокруг полей и пустырей, дорога скатилась в долину речки, перекинулась через грязное болотце, взбежала на взлобок и уходила дальше все тою же ровно-расчесанной, широкой полосою грядок и полей. Верстовых столбов здесь не было. Глаза присмотрелись к темноте, звезды гуще высыпали над полями. Впереди показались огоньки поселенья.
С галопа перешли на рысь, потом, перед самою деревней, — шагом. Надо было останавливаться, отворять ворота поскотины. Василек открывал и закрывал. Лошади дышали тяжело, но, идя шагом, подтанцовывали, горячились. Настасья спросила Василька:
— Сколько верст проехали?
— Я как-то спрашивал у тятеньки. Он говорит: никто не мерил.
Здесь дорожные грядки кончились. Дорога пошла ровной пыльной улицей. Избы были раскинуты широко, многие крыты соломой. Это новопоселенцы. Поселок вырос вместе с Васильком, на его памяти.
Собаки провожали их громким, разноголосым лаем до околицы, где после поскотины снова побежали грядки и повеяла ароматная прохлада пашен и лугов.
Чем дальше ехали в глубь равнин, тем больше было поскотин, тем больше паслось скота. Это задерживало бег, Потому что все чаще приходилось менять быстроту езды: то шагом, то галопом. Но вот выехали на большак. Поскотины не преграждали больше пути, а шли вдоль тракта, и дорога развернулась в гладкое, богатое пылью полотно. Загудели телеграфные столбы.
Василек даже повеселел. Отчетливо, высоким, спадающим на басовые нотки голосом, он проговорил:
— Прямая дорога, большая дорога, простору немало взяла ты у Бога...
— Ишь ты, как складно! — отозвалась Настасья. — От мамынькн научился?
— Нет, в школе, из книжки.
И еще проговорил, для Насти, чтобы послушать, что она скажет. Уж больно молчалива. Ни слова не проронит.
— Ты вдаль протянулась, пряма, как стрела; широкою гладью, как скатерть, легла.
— Во-он как складно! — похвалила Настя, сдерживая бег своего коня, потому что впереди показалась туча пыли, а из нее несся глухой рев скота.
— Это там гурты гонят, — сказал Василек.
Уже слышалось мычание и окрики погонщиков. Весь большак вскоре оказался запруженным медленно идущим гуртом скота, и весь гурт, кутаясь в облако пыли, преградил путь. Долго и медленно пробивались они сквозь эту рогатую массу.
— Все это быки, — объяснил Василек. — На убой для войны гонят. Зимой их обозами везут, застылыми тушами, а весной и летом — гоном гонят до железной дороги.
— На убой?
Печально прозвучал Настин вопрос, и мысли ее непривычно спутались. Никогда не видала, не слыхала, чтобы столько быков шло на убой, на войну.
Выбившись из удушливой пыли и теплого запаха живых, покорно и медленно идущих к своему печальному концу быков, Настасья снова понеслась галопом, как бы спеша убежать от этого обреченного стада и от своих мыслей. Василек, пригнувшись к гриве своей лошади, не отставал.
Неслись, спешили, не щадили коней, считали каждую минуту. Вслед за ними гналась тревога: как-то там, на заимке?
Изредка задерживали бег, давали лошадям пройти немного шагом. Вспомнила Настасья окровавленную спину лошади в ограде Полуяровых. Остановилась, склонилась к седлу Василька, пощупала подпруги.
— Видишь, как ослабли? — сказала Настя и потянула его ногу вниз.
— Слезь, я подтяну, да проведем их в поводу. Сами разомнемся.
Василек шел рядом, высокий, тоненький, гибкий. Ему не хотелось казаться моложе и ниже ее. Она заглянула ему в лицо, участливо спросила:
— Жаль мамыньку?
Он не ответил. Вопрос был как удар. Боялся сам спросить: выживет ли или напрасно погнали лошадей в такую даль?
Вместо прямого ответа. Василек выкрикнул:
— Я хотел убить этого бандита! А мама не дала...
Настя ничего не могла на это сказать. Даже боялась самой себе признаться, что и ее сердце так почуяло: убить бы, сапогами бы в землю втоптать, как змею!
— А ну, бегом пробежим немножко! — точно убегая от этой темной думы, позвала Настя и побежала бегом. И Василек побежал, и лошади за ними перешли с шага на рысь.
Тяжело дыша, смягчились сердцем, остановились, сели в седла и снова молча понеслись вперед. Хорошо, что дорога богата пылью, легче для некованых копыт, но все же конь Василька стал заметно отставать. Приходилось задерживаться, поджидать его.
Еще раз подтянули подпруги: худеют лошади поминутно. Под подфеямн и подпругами пена. Еще раз провели их шагом. Все чаще встречал и провожал их собачий лай. Вот послышалась перекличка петухов. Сколько времени, сколько верст проехали? Не знали. Вот у дороги свежескошенный лужок, а возле — молодая рожь. Надо дать немного похватать коням, с краешку. Рожь молодая, подрастет. Жаль коней, подвело их животы. Остановились.
Спешились, разнуздали, пустили на поводах на шелковую, свежую зелень. Жадно стали они хватать еще не колосящуюся рожь. Конь Василька повалился было, велик соблазн — мягкая озимь, захотелось коню поваляться.
— Седло сломает! — крикнула Настасья и сбросила с коня седло.
Расседлала и своего. Кони стали валяться, хорошо на оба бока перевернулись, и еще раз со стонами, с кряхтеньем. Встали, встряхнулись, сразу шкура разгладилась. Снова набросились на озимь, полными ртами стали захватывать зеленую рожь.
Василек упал головою на седло и сразу уснул, как дитя. Настя посмотрела на него, хотелось и ей упасть, где стояла, да нельзя: проспят. Устояла и начала спешно седлать. Нельзя долго держать на сырой траве перепотевших лошадей, но попоить их надо. Оседлала лошадей, с трудом разбудила спутника. Поехали искать водопой. Долго ехали. В стороне показался огонек. Тропинка к нему заросла бурьяном. Стоит одинокая хижина в купе ивовых кустов. Огонек слабо мерцал через тусклое окошко. Настя постучала плеткою в стекло. Никто не ответил. Прочитала нараспев Исусову молитву, как это делают у окон нищие. Молчание.
Василек толкнул стременами в бок своей лошади и подъехал с другой стороны избушки. Там два окошка. Он низко наклонился из седла, заглянул в одно из них и увидел: огонек горит в лампадке перед иконами, а на полу, склоненная в земном поклоне, лежит женщина. Лица ее не видно. Только руки вытянуты вперед, и голова лежит на них. Темные, тяжелые косы вывалились из-под красного платочка и закрыли шею.
Вернувшись к Насте, Василек в испуге прошептал:
— Там покойница!
— Господи, спаси, помилуй! — прошептала Настасья и сошла с коня.
Дверь в избушку оказалась не запертой. Она толкнула внутрь. Дверь скрипнула.
Настя вошла, перекрестилась на иконы, склонилась к женщине, притронулась рукой к ее телу: теплая и дышит.
— Ой, Господи! Да она спит!
Она потрясла спящую за плечи. Та слабо застонала. Настя с трудом перевернула ее на спину.
Женщина была в городском платье. Бледное лицо красиво, и темные косы змеями обвили шею. Руки ее слабо потянулись к груди. Глаза открылись и с удивлением остановились на загорелом лице незнакомки.
— Девонька, што с тобой приключилось? Я уж думала: ты мертвая.
Женщина молчала, но вскоре не обсохшие от слез глаза ее закрылись. Видно, что она измучена, долго не спала, долго молилась и плакала и так уснула в полном изнеможении. Пусть выспится. Видно, помогла молитва, наплакалась, уснула.
— Ну, слава Тебе, Господи, жива! — сказала Настя и поднялась с коленей. Медленно вышла, тихо затворила за собою дверь и молча села на коня.
Они даже позабыли напоить коней. Поехали шагом, молча. Выехали на большак, и только тут, пустивши лошадь полной рысью, Настасья крикнула Васильку:
— Жива она, только видно, что в беспамятстве. И про себя подумала о том же, о чем часто и мучительно болело ее сердце: “Может, весть печальную с войны получила. Может, милый друг убит. А какая молодая да красивая!”
И все это видение, как сон, перенесла на самое себя. Как будто себя, свою судьбу во сне увидела. И подумала в испуге: “А и умрет, может, от горя; может быть, и дети были. Может, и детей потеряла. Избенка-то и так бурьяном заросла. Умрет, никто не наведается. Завалится избенка, похоронит, никто и знать не будет”.
И посмотрела на небо, на вольность полей, на богатое свое седло. И не знала, как все это понять, как утолить тоску, которая, несмотря на все Божьи дары, рассыпанные по пути, несмотря на эти травы и пахучие цветы, все разрастается. Сосет и сосет сердце. И своего горя не унять, и чужого прибавляется.
Случайно взгляд упал на овражек под мостом. Там протекал ручей. Задержались, спустились в тонкую долинку, сошли с коней, разнуздали и напоили их. Кони долго пили. Ни Настя, ни Василек ни слова не промолвили. Снова сели в седла. Томила усталость и болело сердце от тоски у обоих. Жива ли, жива ли еще мать Василька, такая добрая болярыня, в которой Настя нашла мать и в доме ее ласковую обитель для безутешного сердца.
Медленно и слабо наступал рассвет. Наступал Троицын День. А путь еще неведомо как далек...
Движение на дороге увеличивалось. Из ближних сел и деревень люди на простых телегах ехали в Березовку. Многие были одеты по-праздничному. Троица.
Расширился горизонт. Небо поднималось выше, солнце заиграло на востоке и уже отбрасывало на дорогу длинные тени. Впереди путников серебряным лесом стояли дымные столбы, поднимавшиеся из труб домов и изб. Гуще пошла седая сеть поскотин, пригонов для скота, плетней. И вдруг издалека, из белой тучи дыма, послышался никогда еще не слышанный Настасьей колокольный звон. И не один, а двойной или тройной.
Настя сдержала бег своего коня и спросила Василька:
— Это уже Березовка?
— Нет, это еще не самая Березовка. Это Старая Деревня называется. Березовка — город.
— Город? — Недоверчиво сказала Настя.
— Город! Вот увидишь.
Никогда еще не видывала города Настасья, и все, что она видела, были плетни, жердяные прясла, старые крестьянские дома и хижины. Улицы кривые, узкие, дворы полны мусора, кучами лежит навоз, кое-где стоят вверх полозьями старые дрожки, вот телега без одного колеса…
— “Бабье горе — без хозяев-мужиков все идет к бедности…” — подумала она.
Много бродило по улицам коров, некоторые легко перескакивали в огороды, откуда их с криком и злыми лицами выгоняли хозяйки. Много лаяло собак, кричали ребятишки, кудахтали куры. Надсадно орали петухи.
— Ты говоришь: это город? — опять переспросила Настя.
— Это Старая Березовка, — повторил Василек. — Вон там, дальше, будет новая. Там город.
Больше всего удивлял Настасью звон колоколов. Была в нем сила и печаль, и торжество. Троица!
Но вот вилючие узкие улицы вывели их на площадь, широкую, обсаженную ивами и тополями. Из-за верхушек тополей блеснуло золото церковного купола, и звон колокола так усилился, что оглушил непривычное ухо. Люди шли к церкви, другие с криками бежали дальше. С площади показалась широкая, прямая улица, и по ней уходили двумя рядами дома, новые, большие, под железными крышами.
— Это Новая Березовка. Вот здесь, видишь, школа была, сгорела. А там, где пустырь зарос бурьяном, жил богатый купец Колобов. Его дом и лавку и маслодельню сожгли. Тогда и школа сгорела... Большая, сказывают, была школа. — Василек знал все это от отца, сам он тогда был еще мал и в Березовке не бывал. — А это, видишь, большие дома и лавки купцов Аникиных. У них там за домами — базар. Они гурты скота на войну гоняют. У нас скот они же покупают.
Все это было так ново и невиданно, что Настя даже засмотрелась по сторонам, позабыла, что каждая минута дорога. А Василек еще настойчивее показывал на разные невиданные веши.
— Гляди, гляди! — внезапно крикнул он. — Это автомобиль из их ограды выезжает. Видишь, сам, без лошади, катится?
Настя даже истово перекрестилась. Показалось ей в этом нечто страшное, как наваждение. Она слыхала о таких диковинках, но не думала, что это правда. Правда, сам бежит, да шибко как!
А в это время широкая улица наполнялась народом, все больше бабы, одетые в простые будничные платья, как на подбор, беднота. Не идут, а бегут и кричат, ругаются, размахивают палками.
— Господи, спаси! — опять перекрестилась Настя. — Чего это они?
Васильку не приходилось бывать ни у пристава, ни в больнице, но он знал, что до больницы еще далеко, она в леске, на окраине, но Настя не поехала в больницу, к доктору, а остановила одну из баб и спросила:
— Тетанька, где тут у вас пристав становой?
Баба была босая, худая, с запавшей грудью. Лицо ее было еще молодое, но в морщинках от сердитого выражения. Она неохотно подняла глаза на всадницу, одетую не так, как все бабы в окрестных селах. И седло, его блеск и тяжесть набора задержали ее взгляд. Затем, поднявши свою палку и указавши ею на бабий муравейник в боковой улице, прокричала:
— Во-он, видишь, где народ-то гомонит? Туда и мы бежим, — и вдруг еще повысила свой голос, как будто Настя и есть та сила, которая сразу наведет порядок: — Да, как же, родимая ты моя! Сегодня Троица, а ни на одном пастбище ни одного пастуха нету. А корова-то у нас — главная кормилица. Да что же это? Киргизы и те забунтовались!.. А “они” кричат: свобода, свобода!
А толпа из баб, старых и молодых, все нарастала, запрудила улицу. Трудно было на коне проехать. Так и доехали позади бабьего движения до дома станового пристава.
Солнце уже поднялось высоко. Пестрая толпа баб осадила большой, серый, двухэтажный дом с широким, покосившимся крыльцом, на котором стоял, окруженный стражниками, становой пристав, плотный, в белом кителе с серебряными погонами на плечах полуседой господин. Он поднимал и опускал руки, что-то кричал, но перекричать толпу не мог. Как стая вспугнутых галок, все кричали так громко и одновременно, что ничего нельзя было разобрать.
Кое-что из этих криков все же донеслось до Настиных ушей.
— Да не могу же я сам пасти ваших коров! — хриплым голосом выкрикнул становой пристав. — Замолчите, дайте выслушать, в чем дело...
На минутку гомон смолк, и одна из баб поднялась на первую ступеньку крыльца.
— Да солдаты избили двух пастухов, ограбили у них лошадей, а остальные все пастухи сидят у себя в юртах и не желают пасти коров. Все разбрелись кто куда. В хлеба ушли, в огороды вломились... Беды-то сколько за два дня наделали. Какой же это порядок, ваше благородие?
Поняла Настя, угадала главную причину бабьего бунта. Постояла немного, оглянулась на толпу и, сильно стегнувши своего измученного коня, ринулась через толпу к крыльцу, тараня вновь заголосившие ряды баб. Некоторые бабы повалились под ноги ее лошади, другие бросились в испуге в стороны. Василек не отставал.
Вот она достигла ступеней крыльца. Пристав и стражники и даже бабы удивленно устремили свои взгляды на необычный наряд Насти. В широком цветистом сарафане, в головной повязке, сделанной из красного подшалка на манер старинной кички, в сапогах с голенищами, в дорогом седле с блестящим набором, она так всех поразила своим видом, что шум и гам толпы постепенно затих, когда она осадила лошадь так, что лошадь вздыбила.
Веером развеялся широкий подол Настиного сарафана, когда она ловко перекинула одну ногу через седло. Одно коленко обнажилось, мелькнуло белизною тела, а тонкие, медные подковки на каблуках блеснули, как бы улыбнулись случаю — стать, наконец, на землю. Спрыгнула обеими ногами, даже как-то подскочила, спружинила на них. Упругая грудь приподняла ряд разноцветных янтарей, и так, с плетью на кисти правой руки, Настя бросилась вперед, на ступени крыльца, прорвала цепь стражников и, на удивление всей пораженной этим зрелищем и совсем затихшей толпе, повалилась в ноги приставу.
— Батюшка становой, ведь они Макрину-то Степановну камнем убили!.. Может, еще не насмерть, — и захлебнулась, не могла говорить. А все-таки обернулась к Васильку и выдавила через силу: — Поводи лошадей-то... Нельзя им стоять, шагом поводи их немножко!..
Становой пристав — ведь это же был сам, гроза уезда, исправник Шестков, добровольно понизивший себя до пристава, — был поражен наступившей тишиной толпы. Появление этой женщины из гор — он сообразил это по седлам на лошадях, — как и появление старого солдата-героя в толпе перед уездным управлением первого мая, может изменить весь ход событий сегодняшнего дня. Не привыкший думать и мечтать, он тем не менее так непривычно подобрел, даже растрогался и захотел совсем куда-либо уехать от всех этих толп, погромов, пожаров и свалившихся на него несчастий, что наклонился над стоящей перед ним на коленях женщиной и сказал ей:
— Да ты не плачь... Ты толком расскажи: кто такая Макрина Степановна?
И приподнял Настю с пола, придержал ее за плечи и, обернувшись к одному из стражников, потребовал:
— Кузьмин, принеси ей стакан воды!
Все это так растрогало Настасью, что она с трудом выдавила из себя:
— Да Полуярова, Макрина Степановна!.. Большая у них заимка тут недалеко.
— Как недалеко? — допытывался Шестков.
— Ну, говорят, что девяносто верст... Мы всю ночь и все утро ехали без останову...
Она говорила с перерывами, слезы душили ее, и только когда стражник дал ей воды, она вытерла слезы, и, как всегда с нею бывало, начала все по порядку рассказывать. Рассказывала громко, чтобы и бабы, притихшие, как на молитве, все слышали, потому что поняла она, в чем причина их бунта.
Киргизы-пастухи, у которых силой отобрали лошадей солдаты, те самые бандиты, которые наделали беды у Полуяровых, эти киргизы-пастухи были так оскорблены, так озлоблены, что и сами не явились принимать коров на пастбище, и другим пастухам запретили. От этого и все бабье горе, и бунт, лишивший их мирного весеннего праздника Троицы. И не только этим рассказом растрогала Настасья всех баб, но именно своими бабьими слезами, столь им попятными, потому что в каждой из них накопилось столько горя, что если бы было время плакать, они бы все плакали и рыдали и кому-нибудь изливали бы свои жалобы в бесконечных причитаниях.
И закончила Настасья свой рассказ опять тою же настойчивой мольбой:
— Батюшка становой, сделай милость, доктора нам прикажи послать скорее! Может, он кровь остановит... Спасти ведь надо, баба-то какая золотая... Да и сам-то поезжай туда, ведь один-то из налетчиков убежал, а те трое связаны лежат... Там не знают, что с ними делать...
Пристав стал рядом с Настей, слегка обнял ее за плечи так, что она даже склонила заплаканное лицо к нему на грудь, как бы стыдясь его объятий и все же принимая их как отеческую ласку, и обратился к еще молчавшей толпе баб:
— Слушайте, бабы! Вот видите, не у нас одних беда и не беда с коровами, а беда большая, человеческая беда!
В нем самом происходило нечто небывалое. Человеческие чувства просыпались, вспомнились свои потери и тревоги.
— Вот эта женщина прискакала за девяносто верст, чтобы помочь людям в несчастии… Вы слышали ее рассказ?.. Идите по домам, успокойтесь!.. Я постараюсь сделать все, что смогу, для вас. Я распоряжусь собрать ваших коров в поскотины, переговорю с пастухами... Уладим это дело. Идите с Богом!.. Идите, не волнуйтесь. Беда ваша поправима.
Настя шаталась от изнеможения и слез. Пристав приказал одному из стражников снарядить верховых нарочных, чтобы немедленно собирать разбредшихся в пригороде коров и гнать их в пастбище. А другим двум — объехать все те огороды и поля, где окажутся потравы и повреждения и, для успокоения владельцев, записать все убытки.
Через коридор и ряд комнат, где сидели чиновники, писцы и делопроизводитель, он провел Настасью в свой кабинет, усадил ее на стул и сам сел за стол, заваленный бумагами. Позвонил в ручной колокольчик. Вбежал один из стражников, тот самый Кузьмин, который приносил Настасье воду.
— Принеси-ка мне стакан чаю! — распорядился пристав.
Когда тот вышел, пристав взял перо и бумагу, помолчал, подумал, посмотрел на нежданную гостью, столь внезапно привнесшую мир в эти непрерывно-тревожные дни, и спросил ее:
— Как тебя зовут?
Настя не успела ответить. Кузьмин внес чай, стакан на подносе с прибором: сахарница, лимон, нарезанный тонкими кружочками, ложечка, салфетка — все, как привык он подавать чай начальнику. Пристав все это сам переставил на край стола, перед Настасьей, и сказал:
— Выпей чаю. Ты ведь едва сидишь. Вот-вот свалишься.
Настя не поняла. Ни вопроса об имени, ни предложения чаю. Вместо ответа она поднялась со стула и в пояс поклонилась ему.
— Сделай милость, ваша честь!.. Доктора-то нам бы поскорее!
Впервые за долгие смутные недели мягко засмеялся пристав. Стражник, подавший чай, смутился. Даже неловко, что подал простой бабе, как будто самому начальнику.
— А ты не стесняйся. Пей чай-то. Подкрепись, совсем ласково сказал пристав.
Но по-своему шли мысли у Настасьи. Не могла она выпасть из своей заботы и, видя, что становой совсем хороший человек, опять поклонилась ему и попросила:
— А у меня тут паренек с лошадьми...
Она оглянулась на стражника, как будто это было его делом — позаботиться о Васильке и лошадях:
— Загнали мы их, надобно мне их выстоять да покормить-попоить. А потом обратно ехать. У меня ведь там двое детей осталось...
Повернулась и пошла через все комнаты прямо на балкон. И только когда вышла, метнулась туда-сюда, не нашла Василька, бросилась к одному из стражников и в нетерпении потрясла перед его лицом своими руками и шепотом произнесла:
— Где у вас тут... Руки бы мне вымыть?..
Когда догадавшийся стражник провел ее в нужную дверь, он быстро и без доклада пошел в кабинет пристава и шепотом доложил ему об этом.
Пристав щелкнул себя пальцами по лбу и прорычал;
— Вот видишь, какие мы болваны! Не догадались... Женщина всю ночь на лошади скакала, — и про себя добавил: — Ну и баба! Пристыдила меня.
Это было сказано так сурово, что стражник вытянулся и повторил:
— Так точно, вашскородь. Так точно, видать, что прежнего порядка баба.
И пока Настасья мылась и оправлялась, пристав взял трубку телефона и долго вызывал жену. Телефон в Березовке был мучительной новинкой. И чаще всего был занят Торговым Домом “Аникин с Сыновьями”.
— Валя! У меня тут спешное дело. К обеду меня не жди. Я сейчас поеду в лазарет, и мы с одним из врачей должны будем срочно выехать на дознание. Сколько там пробуду? Не могу скакать. Может быть, вернемся только завтра. Да, да, конечно, на ночь будет у тебя усиленная охрана. Поцелуй девочек.
Он хотел было повесить трубку, но увидел широко открытые и устремленные на него глаза его гостьи и продолжал разговор:
— У меня тут очень интересная гостья. Кто такая? Ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот я сейчас опрошу ее, кое-что запишу и направлю ее к тебе. Пусть девочки посмотрят на нее и позаботятся о ней. Всю ночь она верхом скакала сюда. Ей надо выспаться... И спутник с нею, настоящий Ваня из “Жизни за Царя”. Прими, покорми их, и главное, дай выспаться.
Было от чего расширить глаза. Во-первых — разговор через трубку с кем-то, кого нет в комнате, а во-вторых — заботится о ней, как отец. А на балконе недавно стоял зверь-зверем.
— Да, да, — сказал он Насте, когда повесил трубку телефона. — Сейчас тебя посадят в мою коляску и отвезут ко мне домой. А пока садись, и кто ты и откуда — скажись. Как тебя зовут?
И опять хотела заспорить Настя. Для чего ему ее имя? Там беда стряслась, надо помочь, женщина кровью истекает, а она тут будет на колясках раскатывать.
Но еще пристальнее посмотрела в полуседую, подстриженную бороду пристава и неохотно ответила:
— Настей зовут, Настасьей, — поправилась она.
— А фамилия как?
— Чураева. Настасья Савельевна Чураева.
Пристав удивленно сдвинул брови, что-то припоминая.
Потом переспросил:
— Чураева?
— Чураева, и муж у меня Чураев, Кондратий Ананьевич. Кавалерист. Да вот уже девятый месяц от него нет весточки.
У Насти сморщился лоб, она тронула свои глаза быстрым движением руки. Потянулась за краем своего нарукавника. Стала усиленно сморкаться. Плакать не хотела.
— Чураева? Чураева, — задумчиво повторил пристав. — Ах, вот оно что. Чураевы! Значит, ты родня Василию Чураеву?
— Родня. Дядя он приходится моему Кондратию.
— Во-от оно как!.. Но ведь Чураевы где-то далеко в горах живут?
— В горах всю жизнь и я жила, а теперь поехала мужа искать, да вот у Полуяровых загостилась. Люди добрые. Не отпускают.
— Мужа искать? — удивился Шестков. И чем больше спрашивал, тем больше удивлялся.
— А ты все-таки чай выпей. Чай-то остыл уже.
Пристав побарабанил пальцами по столу и помолчал.
Стоявший у дверей Кузьмин был совершенно растерян. Никогда он не видал таким заботливым этого своего строгого начальника, которому столько лет служит и которому так трудно было угодить, всегда накричит. А тут принимает простую бабу, угощает ее чаем и, всего забавнее, приглашает к себе на квартиру. И правду сказать: особенная была эта баба. На коне чуть на балкон не вскочила, начальника зовет на ты: он ей слово, а она ему десять.
Настя истово перекрестилась и вылила чай в блюдце. Не сказала, что чай в их быту не пьют. Внутреннее чувство такта как бы родилось с нею. Выпила чай бычком, придерживая свои бисера. Ни сахару, ни лимона не положила. Опять перекрестилась и произнесла:
— Спаси те, Христос! Я и позабыла, что не пила, не ела со вчерашнего дня. А по дороге ночью заехали в одну избушку, в сторону от пути, думали, коней там можно попоить, а в избушке-то на полу лежит женщина... Покойница и только! Паренек-то мой перепугался, а я вошла, гляжу, лежит она на полу, видно, что молилась до кровавых слез и заснула... Вот я сейчас и думаю: услышал бы Господь мою молитву и помог бы мне моего-то кавалера вымолить.
— Значит, он на войне, твой кавалер? — спросил пристав.
— А где же ему теперича быть? — вопросом ответила Настя. — Вот я и отправилась искать его, да на перепутьях-то запутались мои дороженьки. Ведь если бы ты знал, какой это божий народ — Полуяровы, ты бы ни минутки тут не сидел, а сразу бы поскакал... Там ведь ждут тебя да доктора как спасителей с неба...
Пристав не мог понять, какой силою эта женщина берет над ним верх? Он так и сказал ей:
— Да ты уже принудила меня, я сейчас буду собираться.
Она даже не слышала последних слов пристава, так думы ее вдруг углубились.
— Я ведь и не одна отправилась разыскивать его, а с двумя малыми ребятками. Старшенькому-то уже шесть с половиной, а младшенькому — два...
Становой пристав так и не мог по-настоящему проникнуть в смысл всего этого круга. Он даже встал, прошелся по кабинету, но не мог собрать все это в один узел — такие длинные концы и обрывки спутались в его воспоминаниях. Он снова сел за стол.
— Как это с двумя малыми детьми можно мужа на войне разыскивать? — насмешливо спросил он у нее. — Это же, голубушка, тысячи верст надо ехать!..
— Да вот так! Бросила свою заимку, хозяйство и коров в горах, оседлала коней, взяла ребяток и отправилась.
Когда же она увидела, что пристав не верит или не понимает ее, она вскинула руки вверх, как бы указывая на небо, и просто разъяснила:
— А это уж Господь меня рассудит! Его воле предалась, вот и поехала...
Долго и внимательно смотрел на нее становой пристав, бывший начальник целого уезда Шестков. Потом три раза позвонил в ручной колокольчик. Вошел делопроизводитель. В его присутствии пристав спросил Настасью:
— А ты помнишь часть, в которой служит твой герой? Можешь сказать его адрес?
— Да и говорить не надо. Я его всегда с собой ношу.
Она запустила руку под нарукавник, брякнула бисерами — и от самого сердца вынула конверт, последнее письмо Кондратия.
— Вот же он — и полк, и эскадрон, и все!
— Так вот что, — подавая концерт делопроизводителю, сказал пристав, — запросите телеграммой эту часть, от моего имени.
И опять прищурился на свою гостью:
— Вот, молись Богу, может быть, и ехать тебе так далеко не надо?
Настя как сидела на своем месте, так и онемела. Не поверила, а когда поверила, не могла произнести ни слова.
Больше она уже ничего и никого не слушала. Одно она слышала: сильное, разрывающее ее грудь биенье сердца. Теперь в душе ее и в сердце накопилось столько и волнения, и неожиданностей, и тревог, и, главное, истощения ее последних сил, что она не выдержала, разрыдалась... Сидела на стуле и уже сама встать не могла.
И не спорила, куда и надолго ли ее ведут или везут. Даже позабыла о Васильке и о лошадях, на которых Василек ехал следом за экипажем, когда стражник Кузмин вез ее в дом пристава, в дом бывшего пристава, назначенного помощником исправника. Василек тоже еле сидел в седле. И когда их привезли в ограду большой деревенской усадьбы, Настю пришлось выводить под руки во флигель. Василек свалился на мягкое душистое сено в конюшне и забыл обо всем.
Долго несла на себе все накопившиеся горести и волнения Настя Чураева и как-то все же выносила и не падала. А когда через всю эту цепь случайностей как будто чудом прорвалась к тому, куда неотвратимо тянуло ее сердце, не могла выдержать. Видимо, сам Бог в это время отнимает остатки сил у человека и посылает сон как новую чару страданья, а может быть, и счастья...
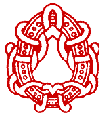 т заимки Полуяровых проселочная дорога уходила на северо-запад широкой полосою грядок. Хорошо утоптанные копытами коров и лошадей, накатанные колесами колеи отделены были одна от другой зелеными травяными грядками. По обе стороны дороги лежали молодые всходы пашен и заросшие дикими цветами невспаханные пустыри. От них веяло прохладой и душистыми травами. Быстрый бег коней укачивал, вызывая из тишины легкий встречный ветерок, который щекотал лицо Настасьи выбившимися из-под подшалка волосами. По временам она склонялась к гриве лошади как бы в усталой дремоте.
т заимки Полуяровых проселочная дорога уходила на северо-запад широкой полосою грядок. Хорошо утоптанные копытами коров и лошадей, накатанные колесами колеи отделены были одна от другой зелеными травяными грядками. По обе стороны дороги лежали молодые всходы пашен и заросшие дикими цветами невспаханные пустыри. От них веяло прохладой и душистыми травами. Быстрый бег коней укачивал, вызывая из тишины легкий встречный ветерок, который щекотал лицо Настасьи выбившимися из-под подшалка волосами. По временам она склонялась к гриве лошади как бы в усталой дремоте.