XI. ПАРАД РЕВОЛЮЦИИ
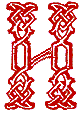 справник в своем кабинете что-то долго писал. Валентина Владимировна слышала из своей спальни, как он пошел наверх и тихо постучал в спальню дочек. Те тоже не спали. Слышно было, как они шептались, потом девочки в ночных халатиках, босые, спустились вниз, и дверь кабинета за ними мягко стукнула, скрывая какое-то совещание. Долго оставались там, и потом девочки молча прошли беззвучными шагами к себе наверх. Мать не решилась выйти и спросить их, в чем дело. Очевидно, у отца был какой-то свой план на завтрашний день. От усталости и напряжения Валентина Владимировна потеряла всякий интерес к происходящему и с тупой болью в сердце погрузилась в забытье. И увидела сон, а может быть, это было воспоминанье въяве. Она, маленькая девочка в белом платьице, на Пасхе играет в большом отцовском саду с маленькой собачкой. Собачка черная, мохнатая, смешная, подаренная ей тетушкой. “Это хорошо… — думает она во сне же. — Собачка — это друг”. И тотчас же проснулась. И больше не могла заснуть… А рано утром, пока муж, наконец, затих в своем кабинете, где он часто спал не раздеваясь, на диване, она позвонила дежурному чиновнику в управление и попросила его немедленно снять царский портрет со стены и вынести из кабинета исправника в одну из комнат архива.
справник в своем кабинете что-то долго писал. Валентина Владимировна слышала из своей спальни, как он пошел наверх и тихо постучал в спальню дочек. Те тоже не спали. Слышно было, как они шептались, потом девочки в ночных халатиках, босые, спустились вниз, и дверь кабинета за ними мягко стукнула, скрывая какое-то совещание. Долго оставались там, и потом девочки молча прошли беззвучными шагами к себе наверх. Мать не решилась выйти и спросить их, в чем дело. Очевидно, у отца был какой-то свой план на завтрашний день. От усталости и напряжения Валентина Владимировна потеряла всякий интерес к происходящему и с тупой болью в сердце погрузилась в забытье. И увидела сон, а может быть, это было воспоминанье въяве. Она, маленькая девочка в белом платьице, на Пасхе играет в большом отцовском саду с маленькой собачкой. Собачка черная, мохнатая, смешная, подаренная ей тетушкой. “Это хорошо… — думает она во сне же. — Собачка — это друг”. И тотчас же проснулась. И больше не могла заснуть… А рано утром, пока муж, наконец, затих в своем кабинете, где он часто спал не раздеваясь, на диване, она позвонила дежурному чиновнику в управление и попросила его немедленно снять царский портрет со стены и вынести из кабинета исправника в одну из комнат архива.
Чиновник понял и был рад исполнить это поручение, тем более что ему было сказано, что исправник с утра поедет на соборную площадь, а к вечеру, если все пройдет мирно, портрет можно будет вернуть на место.
И другое придумала она. Решила раньше мужа выехать в город и повидать помощника исправника, одного из двух — второй был в разъездах по уезду — и уговорить его составить в виде комитета группу из чиновников, как бы для мирной встречи тех, кто явится громить управление. Это было против инструкций самого исправника, но Валентина Владимировна пошла на этот риск. Более того, она созвонилась с одним из комитетов, чтобы несколько членов его явились, как бы для проверки, что портрет из управления убран, и чтобы было кому успокоить толпу и даже показать пустое место на стене. Теперь оставалось самое опасное: как и куда направить дочек тотчас после окончания парада, когда произойдут бесчинства черни и дезертиров, которых полон город и для которых ни законы не писаны, ни полиции не хватит. Применять же какую-либо вооруженную силу определенно запретил и сам исправник. Говорить девушкам о том, что она думала, было бы еще опаснее. По молодости и наивности они настроены празднично и могут поступить как раз наоборот.
В сердце и душе женщины натягивались тонкие и сложные чувства страха, вынужденного молчания и той смертельной скорби, которую таит в себе спрятанная телеграмма. Кроме этого, все остальное было так напряженно тяжело и запутанно, что в содержание телеграммы как-то все еще нельзя было поверить.
Она знала, что в ее действиях было много нетипичного. Жены исправников в дела мужей вообще не вмешиваются, особенно в такие моменты, как эти дни. Но вся сеть событий и острое желание отвлечь мужа от капкана, в который он сам с таким упорством лезет, и в то же время охранить достоинство и чистоту своих дочек, вели ее самое в ловушку полной неизвестности.
Не успела она вернуться домой из управления, как увидела, что весь дом пуст. Исправник с дочерьми уехал в город, не на парад, а, как было сказано в записке, в церковь. Очевидно, он выполнял свой план для дочек. Ей это понравилось. Но где же люди, где стражники, где горничные, повар? Даже дворника не оказалось.
Извозчик стоял у подъезда в усадьбу и ждал, пока она переодевалась. Переоделась она во все черное, взяла легкую, цвета крем, накидку и только на руки надела белые кружевные длинные перчатки.
Когда она ехала обратно в город, по улицам заметно было необычное движение. Люди тянулись к городской думе, на соборную площадь и по другим направлениям, в разные сборные пункты, смотря по характеру организаций, школ, клубов и правительственных учреждений. Кое-где уже развевались красные и черные флаги. Кое-где раздавались звуки музыки, пока что только марши… Где-то прозвучал намек на “Коль Славен”, но оборвался.
Когда она подъезжала к неуклюжему и большому зданию уездного управления, на обширном его балконе собрались уже все чиновники и служащие управления. Поодаль, вроссыпь по площади и на перекрестках стояла конная стража. А на самой площадке перед зданием уже собралась толпа, и, хотя никаких криков или шума еще не было, ее быстрое нарастание и уплотнение у входа на ступени было угрожающим.
Тонкая, высокая женщина в черном быстро протолкалась через толпу, вбежала на балкон и заняла место среди чиновников. Это было необычно для толпы. Послышались громкие вопросы:
— Кто это? Что за актриса?
Кто-то добродушно поддакнул:
— Бабенка хоть куда!
И еще кто-то из задних рядов:
— Эй, мадам! Можете петь?.. Марсельезу?
Помощник исправника, высокий, плотный человек в чесучовом кителе, в нарядной форме и погонах, встал и вежливо сказал:
— Это супруга начальника уезда, госпожа Шесткова.
— Гражданка! Господ теперь нету!
Этот голос принадлежал господину в очках, с длинной полуседою бородой. Он оглянулся по сторонам, видимо, отыскивая кого-то, кого все поджидали, а так как их еще не было, замолчал и отошел в сторонку.
Из толпы последовал вопрос:
— А где сам исправник? Народ кое-чем интересуется… Мы люди мирные, но хотим кое о чем спросить его.
— Боится народу показаться! – крикнул сухощавый человек в картузе и высоких простых сапогах.
— Хвост у него подмочен! – еще пронзительнее прокричал черноусый в солдатской гимнастерке, но в черных брюках навыпуск. – Вот и прячется. Правды боится.
Валентна Владимировна, подав знак помощнику исправника, который хотел что-то возразить грубияну, подошла к самому краю балкона.
— Граждане! Мы ждем вас здесь не для того, чтобы вы оскорбляли законную власть.
— Законную? – ревом отозвалось несколько голосов.
— Да, да, законную! Если вы этого не знаете, то прочтите приказ Временного правительства. Он расклеен на всех столбах и вывешен во всех учреждениях. Приказ о том, чтобы вся власть без изменения оставалась на местах.
По толпе пронесся рокот. Видно было, что слово женщины попало в цель, но многие приняли его иначе, заспорили между собою, даже передразнивали слова смелой гражданки. А она переметнула с руки на руку свою пелерину и подняла тонкую руку в белой перчатке в знак просьбы о внимании.
— Граждане! Я вижу, что среди вас есть люди, понимающие то, что сейчас происходит, а те, кто еще не понимает, должны учиться понимать. Я решила прийти сюда не для того, чтобы командовать, или заступаться за моего мужа, или замещать его. У него есть, как видите, штат помощников, и вот здесь его заместитель, потому что сам начальник уезда – она намеренно заменила слово исправник этим титулом – находится при исполнении его прямых обязанностей… Он должен руководить охраною порядка во время парада революции… Я же приехала сюда, чтобы помочь вам кое-что понять. А понять вам нужно многое, и первое вот что: вы все выкрикиваете недобрые слова, как будто грозите не только начальнику уезда, но и всей полицейской власти… А знаете ли вы, как один умный русский писатель написал о русском приставе, что пристав – это позвоночный столб России. Убери этот столб — и сразу получится кисель. Так и написал: кисель! Это первое, что я приехала вам сказать, и это для того, чтобы, чтобы сегодняшний ваш парад революции прошел мирно как национальный праздник.
— А второе, что я приехала вам сказать…
Руки ее дрогнули, когда она вынула из сумочки желтую бумажку. Задрожал голос, и она не могла сразу продолжать.
— А второе — вот это… Мой муж и мои дочери еще об этом не знают, и я рада, что их здесь нет… Вот эта телеграмма с передовых позиций извещает, что наш единственный сын, подпоручик конно-гвардейского полка, Дмитрий Иванович Шестков, три дня тому назад пал в бою на поле брани…
Хотя Валентина Владимировна произнесла свои слова довольно отчетливо, нарастающая толпа не могла слышать ее, и прибавлялась в числе, и надвигалась вперед, глухо гудела и таила в себе угрозу. Но в первых рядах, которые слышали ее слова, возникло молчание, и в то же время выделился высокий, худой, с полуседой узенькой бородкою солдат, в полной походной форме, только шинель его была не в свертке через плечо, а висела на левой руке, тогда как правою он снял фуражку и обнажил полуседую голову, как бы отдавая дань почета юному горою, павшему на поле брани. И так как солдат был выше на голову всей толпы, хотя и сутулился, а на груди его висели два георгиевских крестика, толпа невольно посмотрела в его сторону, и этот момент придал Валентине Владимировне некое ободрение. Она смахнула с глаз накатившиеся слезинки, и бледное лицо ее поднялось выше, а голос зазвучал увереннее и громче:
Какую еще жертву хотите вы от нас, родителей юноши, принесшего свою жизнь за родину? Я хочу сказать: чего вы еще от нас хотите?
В наступившей минуте молчания прозвучал голос пожилого солдата, повернувшего свое лицо назад, в сторону стоявшей позади его толпы:
— Вот я, сверхсрочный солдат, много раз раненный, иду опять на фронт, чтобы заменить этого героя.
Он обвел глазами вокруг себя и спросил высоким тенором:
— Сколько здесь таких, которые готовы пойти вместе со мною?..
И так как молчание было, как в могиле, он понизил голос и почти пропел:
— То-то вот... Ни одного нету!..
И, надевши на голову свою фуражку, он повернулся к женщине во всем черном и приложил руку к козырьку.
— Честь вам и слава, мадам, за ваше слово.
И выпрямившись, стоял, как на часах, высокий старый воин.
В это время со стороны соборной площади появилась знакомая пара вороных. В коляске был исправник во всей парадной форме, а по обе его стороны сидели Лиза и Марина в форменных коричневых платьицах с белыми кружевными воротничками, как полагается одеваться в церковь. Валентина Владимировна удивилась, что обе девушки с отцом, а не на своих постах, которые им были назначены в параде.
Толпа на этот раз расступилась черед коляскою, и пара лошадей, цокая по булыжнику мостовой, почти на рысях подкатала к зданию уездного управления.
Исправник вышел не спеша, подал девушкам поочередно руку и высадил их из экипажа. Потом бодро вслед за ними взбежал на широкое крыльцо здания и, не снимая фуражки, снял одну из перчаток и махнул кучеру, чтобы тот отъехал в сторону.
На нем был белый китель с серебряными погонами на плечах, но на груди кителя не было никаких отличий, хотя на месте их были знаки, как отпечаток, показывающий, где они висели и откуда сняты. Только на шее его был крест на Владимирской ленте. Шестков был бледен, борода его, полуседая, подстрижена была под Николая Второго, и он не брил ее, не изменял. Китель на нем висел мешковато, видно было, что исправник сильно похудел с первых дней Февральской революции. Дочки стояли рядом с матерью и молча, мужественно смотрели на замолчавшую толпу, приготовленные ко всему, к чему их приготовил отец.
Исправник Шестков прокашлялся и не сразу произнес:
— Кто у вас руководитель?
Спросил он негромко. Голос его был хриплым, на низкой ноте. И так как никто не отозвался, он громче спросил: — Где председатель революционного комитета?
То, что он сказал "революционного", внесло в немирную толпу некоторое умиротворение, хотя краткая речь высокого солдата с Георгиями на груди посеяла в толпе разлад. Вероятно, поэтому выступил вперед низенький человек в кепке и в мещанском пиджаке, не то рабочий, не то бывший солдат и вызывающе выкрикнул:
— А что, портрет Николая кровавого висит у вас в полиции?
Он даже шагнул на ступени крыльца, как бы начиная штурм здания, но задержался и обернулся к толпе: — Товарищи! Тут надеются, что царь опять будет царствовать и кровь нашу пить...
Ему ответил солдат в походной форме, в голосе которого прозвучал сдержанный смех:
— Твою кровь стал бы царь пить? Ты не шутишь?
В толпе загоготали, напряженное молчание разрядилось смехом и перебранками. Было ясно, что насмешка настоящего солдата оздоровляюще подействовала на толпу, но многих раздражила. Пожилой высокий солдат стоял уже не одиноким, а окруженным сочувствующими, тогда как противники его махали руками издали, а подойти ближе к нему не решались. Было нечто магическое во всей его фигуре с крестами на груди, и смешное — в щупленькой фигурке человека в кепке.
И вспышка спора не разрослась, а перешла в движение и любопытство, хотя толпа все больше уплотнялась и чернь из пригородов определенно здесь уже преобладала.
Исправник хотел, но, к счастью, не успел ответить на дерзкий вопрос рабочего, так как к толпе подъехали члены комитета. Высокий, тучный Агафонов первым неуклюжею походкой пробивался через густоту народа.
Он был без шляпы, в серой косоворотке, видимо, недавно сшитой, и, взойдя на балкон, вытер потный лоб цветным платком. Огляделся вокруг и, ни с кем не здороваясь, обратился к толпе:
— Товарищи! Мы уговорились с членами комитета, чтобы весь народ собрался на соборной площади, а не здесь. Это непорядок! Не надо позволять провокаторам вносить беспорядок. Гидра реакции еще сильна, она еще жива... Этак мы погубим революцию и самую свободу!.. Прошу вас, идите все на соборную площадь! Там масса народа собралась, и, если вы не пойдете, все разойдутся и парад наш будет сорван, а это на руку буржуям и монархистам... Они уже там сегодня службу служат... Панихиду по жертвам революции. Идите все на площадь!
Но толпа не подчинялась. Раздались выкрики:
— Сперва погоны с этого медведя сорвите!
— Портрет, портрет Николая вынесите нам! Мы хотим его подвесить!
— С корнем вырвать проклятое самодержавие!
Исправник поднял плечи и обратился к Агафонову:
— Позвольте мне теперь сказать!
Агафонов успокаивающе помахал рукою на толпу и громко обратился к исправнику, так чтобы все слышали его слова:
— Скажите, только помните, вы остаетесь на посту исправника только до тех пор, пока новая власть вам это позволит.
— Пока я исполняю свой долг точно и охраняю вас от беспорядка, — начал исправник медленно, с усилием дыша от негодования, — до тех пор в этом управлении я хозяин. Я исполнял свой долг верой и правдой всю мою жизнь!.. Как верная цепная собака я служил не только моему государю, я служил моей родине, России. Но теперь, когда каждый хочет быть свободным, я тоже хочу быть свободным, и пусть собачью цепь с меня снимут и наденут ее на того, кто лучше будет исполнять мой долг! Кто может взять на себя мои обязанности? Господин Агафонов?..
— Гражданин Агафонов! — поправил его председатель комитета.
— Гражданин Агафонов, — уступчиво поправился исправник, — благоволите назначить мне заместителя. Даю вам два-три дня, неделю, но не больше.
Агафонов был популярен в городе, но был достаточно практичен и умен, чтобы понять, что без полицейской власти порядка не будет, пока не установится более твердая революционная власть. Поэтому тоном этой власти он приказал исправнику:
— Ваше дело стоять на своем посту! Не может быть и речи об освобождении вас в это тревожное время.
В толпе произошло новое движение, как будто отделялись плевелы от зерен, и в то время как плевелы отступали назад, зерна придвигались ближе к балкону и замолкали, стараясь расслышать каждое слово Агафонова. Но Агафонов сказал немного:
— Товарищи! Повторяю, мы празднуем парад свободы, а свобода — не анархия! Она требует дисциплины и порядка. Прошу вас, идите на соборную площадь. Соблюдайте же порядок, как свободные, сознательные граждане.
Исправнику это понравилось и укрепило его смелость. Глаза его решительно прищурились в сторону толпы, и было нечто угрожающее в его налитых кровью глазах, когда он вырвал из бокового кармана две бумаги, свернутые вчетверо, и, попеременно помахавши ими в воздухе, продолжал срывающимся, но отчетливым голосом:
— А я все же прошу слова! Я имею на это право! Вот здесь два документа огромной важности. Для вашей пользы, для пользы и порядка всей России! Я должен их вам доложить. Они должны быть не только точно и полностью оглашены, но и каждый гражданин должен их выучить назубок, растолковать всем и каждому и принять к точному исполнению!
Толпа насторожилась, и странное молчание наступило в тот момент, когда исправник Шестков отделил один лист от другого и передал его одной из своих дочерей. Знаком руки он указал ей на место впереди себя.
Красивая, тоненькая и гибкая Лиза сделала несколько шагов вперед, оставив позади себя младшую сестру, Марину, и, бесстрашно озирая притихшую толпу, развернула лист. Голос ее, на низких нотах, зазвучал мелодией, как песня. Почти не смотря в написанное, но лишь изредка взглядывая на лист и поворачивая белокурую головку на тонкой, лебединой шее в разных направлениях, чтобы видеть всех, она отчетливо и медленно стала читать так, как будто не раз уже читала этот документ и затвердила его наизусть:
— “В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России тяжкое испытание...”
Кто-то прервал надтреснутым и грубым окриком:
— Как это: Господу Богу?! Какое “тяжелое испытание”?.. У нас свобода!.. Праздник!
Девушка прервала чтенье, но толпа зашикала, подняла руки, глухо, почти шепотом зашелестела меж собой. А пожилой солдат-герой потребовал:
— Читай! А вы, там! Умейте слушать!
— “Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем течении упорной войны”.
— Войны, войны! — опять послышались выкрики. — Кто хочет этой войны? Свобода дадена!
— Слушайте!
На этот раз голос высокого солдата с георгиевскими крестами на груди раздался приказом. Высокой нотою он разъяснил:
— Это манифест царский читают! Молчите!
Высокий солдат продвинулся к самому крыльцу, а народ даже отодвинулся, расступился, точно бы испугался дерзкого солдата. Для утверждения тишины и порядка тот взял фуражку в обе руки и прижал ее к груди. Глаза его остро вонзились в юную чтицу. Следуя его примеру, многие постепенно сняли шапки и фуражки, а те, кто не снимали шапок, шляп и кепок, озлобленно озирались... Больше половины народа обнажили головы, и никто не кричал, ни о чем не спрашивал. Молчание было полное и напряженное. Казалось, что читается какой-то новый манифест. Может быть, царь уже опять восстановлен во власти, и те, кто успел развязать умы и языки и оскорбить царя, преисполнились страха... Что-то будет? Что теперь будет?
Чтение продолжалось. Каждое слово звучало торжественно и убедительно:
— “Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа и все будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние усилия, но уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными союзниками нашими сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни жизни России мы считаем долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и, в согласии с Государственною Думой, признали мы за благо ОТРЕЧЬСЯ от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть...”
Тут раздался глухой ропот не то недовольства, не то разочарования. Послышались тяжкие вздохи, даже стоны:
— Во-от оно, какое дело!.. А мы-то ду-умали, его силой с престола сняли!..
Но продолжал слегка дрожащий голос лебединой песни:
— “Не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, Великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами Государства в полном и нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу во имя любимой родины”.
Высокий солдат с георгиевскими крестами на груди опустил глаза и вытирал их длинными желтоватыми пальцами. Чиновники и стражники с широкого крыльца увидели в наклоненной голове солдата седину и лысину, а на плечах его потемневшие нашивки из сплошного широкого позумента. Все поняли, что это не простой солдат, не дезертир, не отставной, а многосрочный воин в отпуску, фельдфебель.
Однако не один он слушал с наклоненной головой, когда заканчивалось чтение:
— “Призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелые минуты всенародных испытаний и помочь ему, с представителями народа, вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы! Да поможет Господь Бог России!
Подписал: Николай.
2-го Марта, в 12 часов, 1917 года. Город Псков.
Скрепил министр Императорского Двора Генерал-Адъютант, граф Фредерикс”.
Не сразу возобновился народный ропот. Это был именно ропот, глухой, подавленный, похожий на волнение и на сдержанный стон сотен грудей. Но многие молчали долго и упорно, даже злобно; молчали, потому что чуяли, впервые слышали о том, что в течение двух месяцев было им неведомой и извращенной правдой.
Молча развернул исправник второй документ, и так же молча и сурово насторожилась огромная толпа разноликих, разного возраста, обоего пола и разных сословий людей. На этот раз исправник передал белый лист бумаги младшей дочери Марине, такой же юной и красивой, только чуточку пониже первой и в венце волнистых каштановых волос.
Чтение ее было короче и поспешнее, но голос девушки звучал так же певуче и отчетливо. Пожилой воин, с позументом на плечах, медленно стал выбираться из толпы, как будто он уже насытился первым манифестом и не хотел слушать второго. Это задержало и отвлекло внимание толпы, и первые строки чтения не все отчетливо расслышали. Как будто и остальные люди из толпы упились горечью печальных нот царского отреченья от престола. Девушка прочла и повторила начало манифеста великого князя Михаила Александровича:
— “Тяжелое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский Всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народа. Одушевленный единою со всем народом мыслью, что выше всего блага родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые основные законы государства Российского”.
— “Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотою власти, впредь до того, как, созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное Собрание, своим решением об образе правления, выразит свою волю.
Подписал: Михаил.
3-го Марта, 1917 года, Петроград”.
За удалившимся во время чтения второго манифеста пожилым солдатом последовали многие из толпы, как будто он уводил их куда-то вдаль от этого массового и нежданного молчания. Одинокий старый воин отделился от тянувшихся за ним людей, свернул за угол и исчез, точно не был. Но именно он и его суровый и бесстрашный окрик: “Молчите!” внушал этим людям еще не понятую ими долю внимания и смущения и даже страха. Он ушел, и тогда начался галдеж, выкрики и недовольство. Недовольство это вскоре стало раздроблять толпу на мелкие группы. Многие о чем-то кричали, спорили и расходились, расползались в разных направлениях большого уездного города.
Все время молча и внимательно наблюдавший за поведением толпы Агафонов тоже как бы впервые по-настоящему слушал давно и наскоро прочитанные им манифесты, как будто понял их по-новому, и его упругая крестьянская душа пришла в смущенье. Пришла она в смущенье тем более, потому что понравились ему читавшие манифесты дочери исправника и все время молчавшая и утиравшая глаза жена исправника. И он потерял тон и власть вождя и оторвался от действительности. Он попытался еще раз призывать народ к порядку и направлял его на соборную площадь, но шли туда немногие, а некоторые из революционно настроенных рабочих в кепках и солдатских гимнастерках, потупившись, ворчали друг другу о провокации, о “каких-то манифестах”.
— “К чему что, для чего собирались?”
Ворчали, а на призыв Агафонова не отзывались, и на парадное собрание не шли… Необычно и неожиданно все мирно разошлись от полицейского управления.
Первомайский парад революции в этом городе не удался.
Однако к вечеру в центре города было разгромлено несколько магазинов, и, так как было приказано не применять оружия, полиция не могла справиться с одичавшими, успевшими напиться громилами и должна была не только отступить, но для самосохранения даже прятаться. Говорили, что часть вызванных на место погрома военных частей участвовала в разделе буржуазного добра. А поздно вечером вспыхнуло несколько пожаров, и, так как они были в большом расстоянии один от другого, пожарные команды не смогли их потушить.
Когда Валентина Владимировна с дочерьми на паре полукровок, с одним кучером, возвращалась домой, она еще издали увидела, что дом их горит и около него не было ни стражников, ни пожарных. Дом уже догорал, и спасти его не могли бы никакие меры. Вместе с домом сгорело не только все имущество семьи, но и все надежды на какую-либо мирную и безопасную жизнь в этом городе.
Сам исправник, верхом на лошади, с отрядом конных стражников носился но городу, пытаясь навести порядок, но ни порядка навести, ни пожаров потушить ему не удалось. Он охрип от крика, испачкал сажею пожаров лицо и белый китель и, обессиленный, в темноте ночи, поскакал искать жену и дочерей, и прежде всего к месту своей резиденции. Но прискакал туда лишь для того, чтобы увидеть дымящееся пепелище своего дома. Только здесь он в отражении красного света от догорающих головней, в сетке дыма пересчитал своих стражников, и из двенадцати не досчитался семи из них. Эта явная измена самых верных поразила его так, что он не решился у оставшихся что-либо спрашивать и, не оглядываясь, помчался в управление. Если управление цело, то оттуда можно как-то еще наладить организованные розыски семьи... В этом была вся его надежда как-то пережить вот это, самое страшное, — измену верных...
Управление оказалось не только целым, но и, несмотря на позднее время ночи, полно чиновников. Помощник исправника и остатки конного отряда были наготове защищать управление и себя, как выразился помощник, “до последней капли крови”. Это придало исправнику Шесткову некоторое желание продолжать борьбу. Прежде всего он попросил горячего чаю, заперся в своем кабинете и попытался думать, но ничего придумать не мог — так истощилась вся его энергия. Он не допил стакан чаю, оперся головою на облокоченную на стол руку и внезапно задремал. И даже не понял, что случилось, когда зазвонил телефон.
— Говорит Акинфий Агафонов.
— Слушаю.
— Валентина Владимировна не так давно звонила мне из пригорода, что она с дочерьми уезжает в Березовку и что все они живы-здоровы. В управление она не хотела звонить, боясь, что оно разгромлено...
Шестков как будто потерял дар речи, и только на испачканном сажей, сразу постаревшем лице его появилась жалкая улыбка. Агафонов продолжал:
— Вы знаете, я должен воздать должное вашей жене: она героиня. Это вы ей обязаны тем, что уездное управление не разгромлено. Ведь я потому и увлек народ на соборную площадь, чтобы не допустить погрома. Конечно, помогли и ваши манифесты...
Тут исправник прервал Агафонова:
— Манифесты не мои, а государевы...
— Да не в том дело, — прервал, в свою очередь, Агафонов. — Дело в том, что на толпу произвело сильное впечатление, как мне потом сказал один интеллигентный человек, что жена ваша приехала в управление в трауре и сообщила народу о гибели на передовых позициях вашего сына...
— Что? Что!? — задыхаясь, спросил Шестков, и судорога скорби исказила его лицо.
А Агафонов удивился:
— То есть как это? Вам об этом неизвестно?..
Шестков не нашел больше слов для вопросов. Агафонов еще что-то говорил, но Шестков его уже не слушал. Он уронил трубку телефона, и она повисла вдоль стены, издавая какие то пискливые звуки. Это было уже свыше всяких человеческих сил, и нужно было несколько минут полной неподвижности и тупого бездумия, чтобы прийти в себя и позвонить помощнику.
Помощник исправника, войдя и увидевши лицо начальника, понял, в чем дело.
У него тоже не было слов для утешения, и потому он поспешил выразить догадку, что Валентина Владимировна, наверное, избрала свой путь в Березовку, где становым приставом является ее двоюродный брат. Это было лучшим утешением для Шесткова.
— Да, это она сделала умно, — медленно и тихо сказал он и, подумавши, прибавил: — Там будет и мне спокойнее. Будьте добры, не откажите быть моим заместителем. Вас "они" не тронут. А я вам в помощники пришлю станового пристава из Березовки. Вам всем без меня тут будет легче...
Ехать ему на ночлег было некуда, и он остался в управлении на долгое, бессонное раздумье о том, чего в те дни никто ни изменить, ни исправить не мог.
Через несколько дней он выехал и Березовку. Самой крупной поклажей, не вошедшей в крытый экипаж, был хорошо упакованный царский портрет, который привязали плашмя сверху кузова повозки.
Акинфий Агафонов не возражал отъезду и даже был ряд замене исправника новым лицом. А сам Шестков втайне все еще надеялся, что “адвокатишка”, арестовавший государя и при этом, как ходили слухи, даже отказавшийся пожать протянутую ему царскую руку, долго во дворце столицы не усидит.
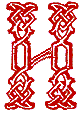 справник в своем кабинете что-то долго писал. Валентина Владимировна слышала из своей спальни, как он пошел наверх и тихо постучал в спальню дочек. Те тоже не спали. Слышно было, как они шептались, потом девочки в ночных халатиках, босые, спустились вниз, и дверь кабинета за ними мягко стукнула, скрывая какое-то совещание. Долго оставались там, и потом девочки молча прошли беззвучными шагами к себе наверх. Мать не решилась выйти и спросить их, в чем дело. Очевидно, у отца был какой-то свой план на завтрашний день. От усталости и напряжения Валентина Владимировна потеряла всякий интерес к происходящему и с тупой болью в сердце погрузилась в забытье. И увидела сон, а может быть, это было воспоминанье въяве. Она, маленькая девочка в белом платьице, на Пасхе играет в большом отцовском саду с маленькой собачкой. Собачка черная, мохнатая, смешная, подаренная ей тетушкой. “Это хорошо… — думает она во сне же. — Собачка — это друг”. И тотчас же проснулась. И больше не могла заснуть… А рано утром, пока муж, наконец, затих в своем кабинете, где он часто спал не раздеваясь, на диване, она позвонила дежурному чиновнику в управление и попросила его немедленно снять царский портрет со стены и вынести из кабинета исправника в одну из комнат архива.
справник в своем кабинете что-то долго писал. Валентина Владимировна слышала из своей спальни, как он пошел наверх и тихо постучал в спальню дочек. Те тоже не спали. Слышно было, как они шептались, потом девочки в ночных халатиках, босые, спустились вниз, и дверь кабинета за ними мягко стукнула, скрывая какое-то совещание. Долго оставались там, и потом девочки молча прошли беззвучными шагами к себе наверх. Мать не решилась выйти и спросить их, в чем дело. Очевидно, у отца был какой-то свой план на завтрашний день. От усталости и напряжения Валентина Владимировна потеряла всякий интерес к происходящему и с тупой болью в сердце погрузилась в забытье. И увидела сон, а может быть, это было воспоминанье въяве. Она, маленькая девочка в белом платьице, на Пасхе играет в большом отцовском саду с маленькой собачкой. Собачка черная, мохнатая, смешная, подаренная ей тетушкой. “Это хорошо… — думает она во сне же. — Собачка — это друг”. И тотчас же проснулась. И больше не могла заснуть… А рано утром, пока муж, наконец, затих в своем кабинете, где он часто спал не раздеваясь, на диване, она позвонила дежурному чиновнику в управление и попросила его немедленно снять царский портрет со стены и вынести из кабинета исправника в одну из комнат архива.