X. ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР
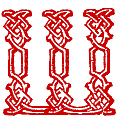 ирока и необъятна сибирская земля. Так широка и так необъятна, что не пришел еще певец, чтобы воспевать ее и изобразить ее величие, измерить еще широты и долготы, испытать ее морозы на севере и тепло на юге. Ослепительны снега ее на далеком севере, непроходима ее тайга в долинах великих рек, тучны ее центральные равнины плодородием и неисчислимо разнообразие природы с царством зверя, птиц и рыб, и насекомых. Неисчерпаемы ее богатства в недрах степей и гор.
ирока и необъятна сибирская земля. Так широка и так необъятна, что не пришел еще певец, чтобы воспевать ее и изобразить ее величие, измерить еще широты и долготы, испытать ее морозы на севере и тепло на юге. Ослепительны снега ее на далеком севере, непроходима ее тайга в долинах великих рек, тучны ее центральные равнины плодородием и неисчислимо разнообразие природы с царством зверя, птиц и рыб, и насекомых. Неисчерпаемы ее богатства в недрах степей и гор.
Только вольный и вечный бродяга-ветер может ее измерить, облететь и обвеять вздохами, но во вздохах этих вечная тайна и грусть. Вот распустит он свои бесперые крылья, взлетит на высоты, раздует тучи в паруса и полетит на них, куда его необузданная воля позовет. Вот бросится вниз и развернется на десятки скакунов, сначала диким табуном обрушится на степи, поднимет тучи пыли, взволнует реки и озера и разгонит своих вестников в разные концы. Почти круглый год покрыт Арктический круг белым саваном снегов, а на юге в это время солнце ласкает землю золотым теплом. Но далеки эти климатические атмосферы друг от друга; беспределен мост между севером и югом, и климаты всех стран умещаются в нем. Долог путь из края в край, как долог он из ада в рай.
Пролетит ветер зигзагами от Яблонного хребта в долину Лены — кто мерил глубину, ширину и долгий, долгий бег этой реки?
Проснется ветер над безымянными горами, речками и долинами, где не ступала еще нога человека, и полетит в одетые в голубую туманность просторы великих лесов… Кто знает, какого возраста, какой длины и из каких истоков текут великие сибирские реки Ангара, Тунгуска, Енисей, Обь или Иртыш? Через Саяны, через мохнатость зеленого бобра тайги, долиною Оби вниз до океана несется он в непотревоженный покой холодной тундры. Там тайна тишины и мир самых мирных народов и племен, которые вот уже тысячи лет не живут, а дремлют и, будучи до старости младенцами, в примитивной своей песне и в искусном вымысле сказки находят оправдание своего мирного полусна и плена жизни.
Открыты все пути ветру. От широкой и глубокой, величественно тихой сибирской колыбели, Оби, через благодатный природный чернозем Барабинских степей шагает ветер до Иртыша, этого сибирского Днепра, уже отпевшего время Олегово в песне о славном герое Ермаке, и вверх, по долине Иртыша, одним крылом прострется ветерок на восток, на изумрудные горы Алтая и уйдет в Монголию…
А что такое Алтай? Правда ли, что “дик и страшен верх Алтая”? Он дик, но не страшен. И вечен блеск его снегов. Бирюзовые реки, белопенные его “громотухи”, не считаны, сокровища недр его еще не изведаны. И там жили племена мирные, в полусне своем безгрешные, и, если бы не разбудил их этот беспокойный бродяга-ветер, не простой ветер, а ветер новый, ветер с дымом, ветер с запахами пороха и смерти, ветер всероссийской смуты, — протекала бы жизнь алтайских народов и племен еще долгие времена в полусонном пастушеском покое. Но подул ветер с запада, подул порывами, подул неведомый равнинный суховей, и не в лицо только подул он, подул он в сердце, прорвался в самую душу человека, привыкшего к порядкам, издревле установленным и утвержденным верою, что и завтрашний день будет так же мирен, может быть, не сыт, не очень счастлив, но полон надежды на то, что труднее он не может быть, а будет лучше. Прорвался этот ветер в сердце человека, и надул в него горькой полынной пыли, и выдул из него радость.
Навстречу такому-то ветру несется теперь в глухой темной ночи Настя Чураева и в невинном своем неведении не знает, что ожидает ее завтра, неделю, месяц спустя. А дни и ночи стали такими длинными, так много в них может случиться и произойти. Не знает она, что уже произошло, и потому вспятим для нее время, только на один месяц попятимся назад. Не полетим на крыльях ветра-вымысла вперед, не дано ей предвидеть ее новых встреч, новых ступеней ее отважного бега вперед. Не до того ей. Отягчена душа ее тревогой: добежит ли, доскачет ли вовремя, успеет ли помочь тем, кто стали для нее роднее родных?..
* * *
Был конец апреля семнадцатого года, значит, революция была двухмесячным младенцем, и те, кто ее когда-то зачинал и вынашивали во чреве скрытых и открытых мечтаний, пеленали ее в нежные словесные пеленки и носились с нею как с воплощенным счастьем.
Александр Федорович Керенский, главный ее восприемник, был кумиром отрекающихся от старого мира и празднующих толп и собраний и упивался своим красноречием до опьянения. Всюду его встречали как героя и вождя, который знал, куда и как вести счастливые народы, и каждое слово его звучало как закон.
Еще в Государственной Думе он проявил себя как выдающийся оратор и дерзновенный революционер, как образец борца за свободу, а теперь он представлял собою символ этой свободы и окрылял младенчество революции самыми возвышенными словами и многообещающими лозунгами, и шествие его с трибуны на трибуну было поистине триумфальным.
Ловкие коммерсанты использовали его популярность, отлили из дешевого металла значки с его портретиком, и миллионы его почитателей прицепили этот значок себе на грудь, особенно те, чья грудь была свободна от настоящих знаков отличия.
Голос у Керенского был звучен и отчетлив, а потому, что ему приходилось говорить иногда по двенадцать часов в сутки, он охрип и старался быть кратким, но чем короче были его фразы, тем ударнее призывы защищать великую революцию, тем торжественнее обещания ее благ. Это была короткая пора увлечения, восторга и надежд, когда слово действовало на людей магически, когда слову еще верили. Только некоторые чины командного состава армии пустили в обиход ехидное словечко: вместо “верховный главнокомандующий” произносили “верховный главноуговаривающий”. Словечко прилипло к языкам и пошло по всей России как робкий глас народа, как шепот контрреволюции.
Однако в этом верховном уговаривании не уронить престижа революционной, отныне свободной русской армии и довести войну до победного конца было нечто от черной магии, так как все получилось как раз наоборот: уставший ждать замирения солдат повалил с фронта домой, пока что только под видом краткосрочных отпусков, но все гуще и все чаще без возврата на передовые позиции.
А вода речей лилась реками, затапливая фронт и тыл, и разжижала мозги даже неглупых людей.
Все жаждали этой воды, все говорили и не могли наговориться, пока вскоре эта жажда словесной воды не превратилась в жажду крови. И пока в тылах напряжение революции не превратилось в малопонятную для простых слушателей словесность, надерганную из печатных агиток и словарей иностранных слов, на фронт успел проникнуть настоящий ад разложения и массового дезертирства. Это был ленинский листок, открытое, беспримерно преступное предательство. Предательство дозволенное, потому что свобода расправ вместо неприкосновенности личности была уже законом революции.
И кровь полилась. Кровь более верных, подлинно боевых, крещенных не в одном бою героев-офицеров. А в тылах все пишущие продолжали славословить революцию. Славословие это, усиленное иностранными словами и накаленное революционным пафосом, самой своей непонятностью обжигало прежде всего малограмотных ораторов и отравляло ядом злобы слушателей. На каждом собрании почти каждая речь заканчивалась не торжеством свободы, не празднованием революции, а призывом к поголовному ожесточению и отрицанию:
— Долой! Долой!
— Товарищи! Долой ету плутократычную дыпломатыю. Без аннексый и контрыбуций — долой ету идентычную коордынацыю! За что мы кровь проливалы? За этую унтерпретацию? А вот я не желаю больше коордыныровать в абсолютызме дымократии. Долой аристократыю!
Конечно, были и грамотные и умные ораторы, но их мало кто слушал и понимал.
Героями дня были матросы, нередко переодетые немецкие шпионы разных национальностей. Речи их звучали так зажигательно, так напористо и нагло, что никто не смел возражать. В особенности был сбит с толку, слушал и молчал, простой народ, этот позвоночный столб страны, крестьянство, даже одетое в шинель и помятую, испачканную в окопной глине защитного цвета стеганку. Он слушал, ничего не понимал, расходился с “митингов” понурый и озлобленный, потому что голодный, бездомный и всем чужой.
Но если он дерзнет задать вопрос, чаще всего невпопад, который смутит оратора, то тотчас же получит самый резкий отпор:
— Кто это там выражается? Видать, что на буржуйных дрожжах вырос!
И замызганные иностранные слова дополняли хриплую речь:
— Реакцыя! Контрреволюцыя!
Но самое популярное слово отрицания, “царист”, завершало смысл речи и покрывалось возгласами:
— Верно! Долой царистов! Довольно нашей кровушки выпили!
И царисты сами себя исключали из царистов, сами куда-то спрятались, как будто провалились, как будто их в монархической России, тысячу лет управлявшейся царями, вовсе и не существовало. Как будто они тоже все века и всюду только и мечтали о ниспровержении русского самодержавия.
Но они, конечно, были и остались, только перепуганные столь неожиданною переменой, потерявши царя, перестали узнавать друг друга и почуяли в самих себе жгучий стыд бессилия. Еще не смели спросить самих себя, вернее, еще не знали, не понимали, да и не верили, что они могли быть предателями своего царства, что открыто предавали и страну, и себя тем, что уже маскировались под толпу, под Керенского, под Милюкова, даже под беспартийность. Но все чего-то ждали. Ждали пробуждения здравого смысла в народе, а народ молчал или шел следом за возбужденными толпами, вливался в них и на ходу начинал разрушение основ и ничем не укротимую анархию.
Были и остались верные отечеству патриоты, были и верные царисты и разумные граждане, но прокатившаяся по стране скандальная “распутиниада” отравила их вкус к монархии. Верили или не верили слухам и сплетням, но вера в ореол монархии спряталась на дно их душ и трусливо примолкла.
Были и такие, которые искренно сознавали, что происходило по закону равновесия. Монархия была священным символом единения народа и, как заповедал Владимир Мономах, должна быть возглавляема монархом, ответственным перед Богом за судьбы его подданных, но и народ должен быть достойным своего игумена-монарха. Не многим народам мира удалось пройти столь суровую школу царства, как это выпало на долю русского народа. Суров был путь истории, но и славен, и если бы слава эта не омрачилась жестокостью, духовное восхождение по этому пути могло бы привести к еще большей славе, к высшему идеалу чисто христианского государства. Но, видимо, не все оказались на высоте своего долга, да и сам русский народ не оказался достойным своей монархии, создавшей его великую державу.
По-своему, по-чиновничьи, был верен своему царю и долгу уездный исправник Шестков, которого мы помним еще помощником исправника, боровшимся с зачатками русской смуты, когда мы его наблюдали во время суда над восьмью малолетними преступниками в Березовке несколько лет тому назад.
За эти годы войны он был продвинут в чинах и орденах и занимал уже пост уездного исправника в городе, который разросся до пределов и размеров губернского. В этом городе Шестков сделал свою карьеру, начавши ее с околоточного надзирателя. Здесь он женился на очень красивой и хорошо воспитанной девушке из купеческой семьи; здесь у него родилось трое детей: сын и две дочки, которые благополучно росли и успешно учились. Сына революция застала уже в погонах подпоручика на боевых позициях. Погодки-дочки, Лиза — семнадцати и Марина – шестнадцати лет, уже кончали гимназию, и пошли обе в мать, расцветая, как две нежные розы, на зависть всему городу. Такая семья давала Шесткову право и гордость чувствовать себя человеком.
За много лет своей верной службы царю и отечеству, уездный исправник Шестков приобрел много друзей и еще больше врагов. Он был службист, исполнителен, в меру честен, принимал подарки от горожан, только когда был околоточным, и смотрел сквозь пальцы на то, что и его подчиненные принимали подарки к праздникам Пасхи и Рождества. Взятками он это не считал, но непорядкам в санитарной части не потворствовал. Имел красивый дом в городе и летнюю дачу в тенистом бору. Любил по праздникам в полной парадной форме со всеми орденами на груди выезжать со всей семьей на паре вороных полукровок в соборную церковь, а зимою, в легких полусанках с медвежьей шкурой, покататься вместе с другими любителями санных прогулок, вернее гордо пронестись по снежным улицам города. На парадах, на благотворительных балах, устраиваемых его супругой, он и его семья были всегда на первом месте, и самое его присутствие обеспечивало порядок и внушало страх тем, кто любил подебоширить в приличном обществе. Одним словом, жизнь молодого статского советника, получившего этот чин к последнему Рождеству по особому ходатайству губернатора, была примером государственной службы и образцом гражданского долга.
Но особой популярностью пользовалась его жена, Валентина Владимировна. Она принимала участие в школьных, общественных и благотворительных комитетах, много помогала раненым, ездила с подарками на фронт, а до войны бывала не только в обеих столицах, но и за границей. Она-то и сдерживала мужа от старых дурных привычек “лаять” на подчиненных и “рявкать” в обществе. Лишь во время своих разъездов по обширному уезду с ревизией тюрем, больниц и становых приставов, он пользовался дальним расстоянием от жены и иногда, для вящего порядка, не мог удержаться от “рукоприкладства”. Зато угроз своих “закатать в острог” провинившихся никогда в исполнение не приводил, чем и стяжал себе еще больший “авторитет” в уезде.
Но вот грянул гром… Для тех, кто причислял себя к интеллигенции, значит, и для кругов, в которых вращалась Валентина Владимировна, гром этот был вестником с благодатным дождем и радугой, а для власть имущих и, в особенности, для полиции, этот гром грозил как раз теми беспорядками и восстаниями черни, с которыми Шестков всю жизнь боролся не на живот, а на смерть и которые теперь одолевали, угрожали и озлобляли.
Но буря революции пока что захватила лишь столицы и фронт военных действий. Приказ Временного правительства всем властям оставаться на местах в далеких провинциях долго еще оставался в силе, и даже погоны на полицейских плечах были не тронуты. Но с расцветом весны и разливом вод революции в Сибирь начался наплыв всяких новых представителей власти, депутатов и комиссаров с сомнительными порученьями из центров, а из Сибири двинулись в центры России политические ссыльные и каторжане. Многие из них были с именами и с тюремным стажем, что в начале революции считалось почетным. Тех и других торжественно встречали, собирались толпы на железнодорожных станциях. К политическим возвращенцам присасывались и уголовники, разбредались по городам, произносили речи, призывая к мести и к свободе ненавидеть тех, кто был опрятнее одет или жил более безбедно. Все это волновало, раздражало, вносило страх и отвлекало от работы, и обычных повседневных дум и забот. Смутился ум народа, и в сердце его прокралась тревога, которая все шире разливалась по стране, и свободу, которая не вносила долгожданного мира и порядка, а усиливала беспорядок и грозила с трибун, народ стал молча, глухо ненавидеть и бояться ее поборников.
Хотя революция разрасталась в больших центрах, в глубь степей и гор Сибири проникала медленно и не углублялась, однако же самовольное перемещение и отступление почти всех, даже малых чинов власти, со своих постов, начало сплетаться в спешный беспорядок, в сеть, в которой, как в сплошной паутине, все стало запутываться, наполняться страхом и холодной пустотой. Что-то большое и настоящее уходило из-под ног, и все, что наполнялось голосами, криками как будто радости и свободы, казалось маскарадом, а не подлинною жизнью. Все начало шататься и запутываться в паутину нестерпимой всенародной скуки.
Все явно извращалось, все перевиралось. Жизнью стали править страх, ложь и сплетня, разнузданная месть и клевета, и, под прикрытием якобы свободы и непрерывных революционных празднеств, народ перестал работать. Все говорили и не могли наговориться. И никто не смел сказать все то, что каждый хотел бы сказать с всею откровенностью и чистой прямотой.
Население сибирского края стало быстро расти, и появился опасный, вороватый, бродячий элемент. Возвращавшиеся с фронта солдаты и проникавшие через поредевшие боевые линии пленные казались подмененными людьми. Вместо того чтобы вернуться к рабочему станку или на пашню, они вовлекались в те же толпы и в бездельных днях собраний и споров ждали от свободы каких-то лучших перемен. Все ждали нового порядка, внося беспорядок беспрерывным нарушением старого. А новые грозные приказы сменяли один другой, и постепенно порядок и закон совсем исчезли. Никто никого не слушал, никто никого не уважал. Полиция ходила по краю последней черты и приказывать ничего никому не смела.
Вот тут-то и удивлял всех граждан своего города уездный исправник Шестков. Он просто новых распоряжений не выполнял и твердо держал порядок по-старому.
Но на словах стал мягче и даже обещал реформы:
— Вот идут и к нам прямые, равные и тайные… Все и у нас будет по-новому. Имейте терпенье. Москва не в один день строилась.
Но печать уже развязала язык. Редактор наиболее популярной местной газеты, сдержанный и обычно консервативный Акинфий Агафонов, обрушился на полицейский режим, который не давал ему покоя именно тем, что у Шесткова все было в таком образцовом порядке, как будто ровно ничего не случилось. И никакой революции не произошло.
Прочитав статью, Шестков позвонил редактору:
— Утешьтесь, — сказал он в непривычном для него спокойно-ироническом тоне.
Скоро все будет по-вашему. Уже не могу справиться. Вот получил телеграмму: “Сотня дезертиров осадила пассажирский пароход в двухстах верстах отсюда. Сняли двести частных пассажиров с билетами и требуют везти их вверх по реке прямо к нам”. Может быть, вы будете любезны принять дорогих гостей? У меня больше в тюрьмах места нет, — и повесил трубку.
Это был вызов, открытая контрреволюция. И случилось это как раз перед первым мая, когда редактор Агафонов, возглавляя уездный революционный комитет, готовил город к параду революции и еще на днях сам просил Шесткова помочь в поддержании порядка. Шестков обещал и со своей стороны осторожно, при влиятельном содействии жены, предпринял ряд мер на случай возможных “эксцессов”, как выражался Агафонов, любивший уснащать свои статьи иностранными словами. Валентина Владимировна два дня разъезжала по городу на извозчике — она избегала ездить в экипаже одна, без мужа, — организовала ряд комитетов из членов просветительных организаций, а главное настроила своих дочек на “революционный” лад и научила их, как организовать небольшие летучие отряды из гимназистов, гимназисток, учеников горного училища и прочей молодежи для улучшения порядка. Мужу она подробностей не рассказывала, но он был уверен, что она идет по его строгой, чисто полицейской линии. Сам он снесся с военными частями, расквартированными в городе, и держал наготове надежный кулак из полицейской стражи, которой он доверял. Тем не менее, ничего хорошего от первомайского парада не ждал, потому что знал: городская чернь настроена погромно.
Валентина Владимировна ждала взрыва. Она ждала, что толпа ворвется в самое полицейское управление, потому что портрет императора все еще из кабинета исправника не убран. Она спешно приехала в управление, чтобы предупредить об этом мужа, но он так зверски на нее метнул налившимся кровью взглядом, что она испуганно попятилась. В то же время, любя и уважая свою Валю, исправник понизил голос и спросил ее:
— Неужели ты допускаешь, что какой-то адвокатишка, арестовавший государя, усидит на русском троне больше трех-четырех месяцев?
При этом он взглянул в молодое, привлекательное лицо царя на красочном, во весь рост, портрете, подошел к нему поближе, медленно протянул руки к портрету и почти шепотом спросил:
— Ваше величество! Неужели это правда, что протянутая вами рука революционеру повисла в воздухе? Неужели вы для них, для этих болтунов, отреклись от престола и уступили им трон ваших предков? Как могли вы, как могли?
Он опустился на диван, достал носовой платок и стал сморкаться.
Валентина Владимировна была бледна. Муж не обратил внимания на выражение ее лица, не заметил, что в испуге перед его окриком на нее было нечто более глубокое, нежели испуг. В ее глазах, еще очень красивых, стояли слезы, но слезы были сухие, выжигающие зрение. В руках она мяла и не решилась развернуть желтую бумажку. Она получила ее при входе в уездное управление несколько минут тому назад. Вернее, перехватила у расписавшегося в получении ее дежурного чиновника, который не распечатывал телеграмм, адресованных исправнику.
В минуту, когда она увидела мужа в позе отчаянья перед царским портретом, потом прятавшего слезы в своем сморкании, она не решилась показать ему бумажку и сунула ее в свою дамскую сумочку. Она успела прочесть ее, но не успела еще поверить в ее содержание, так поразила ее жуткая новость. Телеграмма извещала о том, что их единственный сын, Дмитрий, три дня тому назад убит на поле брани.
Не теряя самообладания и стараясь не выдать своего отчаяния, она поспешно вышла из управления и на извозчике уехала домой.
Даже дома не вошла в свою комнату, чтобы не быть наедине с собой, не разрыдаться, а как всегда, руководила прислугой в приготовлении семейного обеда. Муж приедет вместе с дочками, которых он каждый день отвозил в гимназию и под вечер привозил обратно. Она никому не покажет телеграммы, не только потому, чтобы отстрочить удар отцу и нежным сестрам, которые только вчера читали письмо от брата и смеялись его новому анекдоту, им записанному, но потому, что над всей их семью нависало нечто более жестокое. Муж ее играл с огнем, и игра эта вела их всех к пропасти, в которую никто не отважился бы заглянуть. И потому она решила держать вести о смерти сына до тех пор, пока выдержит сердце. Проще говоря, грядущий день наваливался на нее как продолжение ужаса, который таился в желтенькой бумажке, спрятанной в дамской сумочке.
* * *
По широкой улице мимо уездного управления шел батальон запасных на пристань для погрузки на фронт. Марш, а это был марш “Под двуглавым орлом”, каждым своим звуком ранил сердце исправника Шесткова. В бравурных нотах была мощь державной славы и была ранящая грусть. Он подошел к окну. Шествие батальона открывал духовой оркестр. Батальон шел не очень стройно, не по-парадному. Солдаты ополчения, не из кадровых частей, а из запасных, частью бородатые, после ускоренной тренировки, шагали не в такт марша, нестройными рядами и даже не все в ногу, но отделение за отделением, рота за ротой представляли силу и возбуждали гордость перед величием русской императорской армии.
— “Русской! Но неужели уже не Императорской?” — ужалило его сомненье.
Капельмейстер, щупленький еврей в новой форме, старался идти стройно и даже по временам, дирижируя, ловко поворачивался лицом к оркестру и шагал задом наперед. Это получалось у него забавно, и вызвало у исправника улыбку одобренья:
— Ну, ну, и он ведет их “до победного конца”… — проворчал он, потому что в победный конец под красным флагом революции не верил. Но не верил и в неограниченность и силу революционной власти. И значит, он прав: не по Сеньке шапка Мономаха. Не усидеть “им” на тысячелетнем троне. Не удержать державы!
Вот почему он, исправник Шестков, встречает революцию достойным патриотом, верным царю и отечеству, верным долгу и присяге. Но в то же время как раз сегодня, накануне этого парада революции, в намеке жены, в ее бледном исхудалом лице и в глазах ее, которые уже не горели привлекательным серо-зеленым светом, почуял он, что эта “преступная комедия” может развернуться и в настоящую анархию.
К подъезду управления подкатили на паре вороных полукровок в блестящем черном экипаже на резиновых шинах обе дочки-гимназистки. С милыми, обворожительными улыбками они заглядывали в окна. Тоненькие очаровательные девушки были в коричневых форменных платьях, со стопками связанных ремешками учебников в руках.
Исправник ответил на их улыбки приветливым жестом руки, наскоро попрощался с помощником и подчиненными, быстро прошел по ряду комнат и спустился к экипажу. Гибкие рессоры экипажа заметно под ним осели, и он услышал беззаботный, особенно приятный в этот час лепет девушек, которые в голос, как нераздельная двойня, всегда перебивали одна другую:
— Папочка! — радостно пропели обе. – Нам не один, а три дня не учиться!
— А вы и рады не учиться? – с невольной усмешкою спросил он, стараясь быть суровым.
Вороные приятно, в точном ритме всех восьми копыт зацокали по мостовой. Но движение по главной улице было остановлено, потому что батальон все еще тянулся по ней, и кучер исправника повернул в объезд. Но, проехавши два-три квартала, он и здесь не мог двинуться дальше. Улица была запружена народом. Из здания народного дома как раз выходила пестрая толпа. Тут были солдаты, рабочие, мужчины и женщины, старые и молодые. Были и хорошо одетые – интеллигенция. Лица у многих были хмуры и даже озлобленны. Некоторые размахивали руками, что-то выкрикивали. Доносилось бабье:
— О че-ем говорили?
— А Бог их разберет… Говорять, говорять… В ладоши потреплют да опять говорять…
С противоположной стороны улицы шли два военных грузовика, полные солдат. Лошади исправника совсем остановились, толпа теперь была между ними и грузовиками. Шестков привстал в экипаже, быстро окинул взглядом вокруг себя: нигде постового полицейского не было и никто движением здесь не руководил. Это и понятно, улица всегда тихая, постовые стоят на перекрестках главных улиц. Но к беспорядку он не привык, и всякое препятствие на его пути казалось ему безобразием. Ему хотелось крикнуть на стоявших между ним и грузовиками людей, но он почуял, что этого сейчас делать не следует. Кучер оглянулся на него и не решался трогать лошадей. Обе девушки смотрели на отца, молча одна с другою переглянулись и крепко сжали в тонких руках свои книжки. Они тоже не привыкли, чтобы прохожие или проезжие не давали им дорогу. Всегда не только сторонились, но и шарахались в сторону от их отца. А тут окружили, придвигались ближе, неприветливо смотрели на красивых лошадей, на экипаж и как будто не видели, что в экипаже сидят те самые хорошенькие гимназистки, которым почти все всегда приветливо улыбаются. И вдруг, какой-то курносый замухрышка в рабочей кепке выкрикнул:
— Ишь ты, с двумя кралями на царских лошадях катается! С погонами!
Этого исправник стерпеть уже не мог. Он медленно сошел с экипажа и, придерживая левою рукою шашку, правою стал расталкивать толпу. Теперь многие сами давали ему дорогу. Он направился к рабочему. Все молча повернулись в его сторону и ждали, что будет. Исправник стал посреди улицы, в толпе, вынул из кармана записную книжку и карандаш и жестом руки поманил рабочего подойти ближе. Это подействовало, рабочий остановился и испуганно озирался, как бы ища защиты.
— Имя? Фамилия? Документ?
И вдруг толпа дрогнула и медленно стала расходиться. Здесь были и бунтовщики, но привычный страх перед законом в виде погон, кокарды и шашка вразумил их уйти поскорее и подальше от греха.
Заметивши, что такой прием более действен, исправник отпустил рабочего и, еле сдерживая волнение, медленно прорычал над его ухом:
— На этот раз я тебя прощаю!.. Но смотри… Имя и твой адрес, я записал.
И он рывком сунул ему в вытянутую вниз левую руку его испачканный паспорт, который оказался в порядке. Рабочий даже удивился, что свободен, глупо оскалился и, снявши кепку, пробормотал:
— Покорно благодарим!..
Все в дальнейшем приняло спокойный ход. Исправник был доволен своим поведением, и более разумные из толпы поняли, что порядок все же нужен, а стало быть, и полиция нужна. Пусть проедет. А некоторые из оставшихся даже послали вдогонку полукровок одобрительные возгласы:
— Хороши лошадки!
— Да и девочки — пальчики оближешь!..
На этот раз все ехали молча. Даже кучер, который всегда хоть на лошадей покрикивал или вдруг скажет для самого себя: “Ах, черемушка-то цвет уж набрала!” — на этот раз только и сказал:
— Вашесокородь, дозвольте на недельку расковать лошадок! Весной и копыту надо дать подрасти.
— Верно, раскуй! – ответил исправник и снова замолчал.
Обычно девочки всегда о чем-нибудь щебечут. Мирно меж собою никогда не живут, все спорят, и все о пустяках. Врозь прожить и двух часов не могут. Слушаешь их споры и отдыхаешь. И отцу приятно и кучеру.
На этот раз больше никто ни слова. Как-то даже и не хорошо.
И обед дома прошел в полусловах. Сам Шестков даже стыдился, что с ним так случилось: толпа дороги не давала. Это все равно, что городничему в церкви места бы не оказалось. Молчали все, и даже девушки ни разу не поспорили. Только когда подали сладкое, Лиза сморщилась на Марину:
— Не ешь так много, растолстеешь! — и отняла у нее остатки сладкого себе.
Одна из домашних новостей донеслась из кухни в форме буйного крика повара. Он рвался в столовую, но его не пускали два стражника, которых исправник держал при доме день и ночь. Раньше они менялись, как часовые, на случай срочных посылок, теперь жили сутками, пили, ели и спали на случай охраны.
Они, видимо, сильно помяли повара, пытаясь зажать ему рот, но он еще сильнее закричал от боли и обиды:
— Не сметь мне рот зажимать!.. Нет у вас таких правов, чтобы рот зажимать человеку… Зажимали рты всему народу, теперь я высказать хочу… Пусти-и!..
И вырвался из рук стражников, ворвался большой, упитанный, в белом колпаке и порванном поварском халате.
Вся семья впервые увидела его в таком виде. Девочки остались на местах, а супруги Шестковы подошли к столпившимся в дверях людям, позади которых были и две горничные, и уборщица, и кучер, и еще какие-то прихлебатели.
— Что такое, в чем дело, Игнатьич? – первой, стараясь быть спокойною, спросила Валентина Владимировна.
Сам Шестков стоял, сжимая кулаки, и готовый броситься на повара, как зверь. Но он опять, как и в осажденном экипаже, остался стоять окаменелым и бессловесным.
Повар взглянул в бледное лицо Валентины Владимировны, которую он обожал, увидел в глубине столовой испуганно прижавшихся друг к другу девушек и повалился в ноги исправнику.
— Ваше высокородие… Каюсь, виноват… Виноват, не могу быть больше вашим слугой! “Они” говорят мне: почему не отравишь царскую собаку? Всех, говорят, царистов надо отравит, передушить… Всех, говорят, — и задохнулся, не мог говорить.
И так же, как в толпе с рабочим, исправник не мог уже найти в себе сил для удара или пинка в лицо этого валявшегося у его ног вчерашнего раба. Он не понимал, откуда эта мягкость, когда он должен быть еще тверже, еще решительнее, беспощаднее?.. Но Валентина Владимировна поняла. Она уже давно почувствовала, как накренилась, перевешивается, вот-вот опрокинется чаша гнева Божьего. Но в душе ее сейчас было несколько смертельных ран. От которой она изойдет кровью, она не знала и не раздумывала. Но этот случай с поваром, которого она сама уговорила, увела его в кухню, наказала стражникам уложить его спать, как будто влил в рану ее сердца чуточку успокоения, вернее, горечь примирения с неизбежным.
— Да он же теперь меня “закатает”! — стонал и плакал повар. — Как я буду ему кушанье готовить?.. Он не примет из моих рук даже простой булочки…
— Примет, примет! — уверяла Валентина Владимировна. — Успокойся!
— Вот вы, барыня, ангел и девочки ваши ангелы чистые, а о-он!.. О, он никогда не простит…
В эту ночь все в доме молча разошлись по своим комнатам, но почти никто не спал. Даже девочки долго шептались, поспорили, и слышно было, что Марина расплакалась.
Да и во всем городе мало кто радовался завтрашнему первомайскому параду революции…
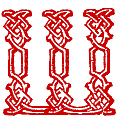 ирока и необъятна сибирская земля. Так широка и так необъятна, что не пришел еще певец, чтобы воспевать ее и изобразить ее величие, измерить еще широты и долготы, испытать ее морозы на севере и тепло на юге. Ослепительны снега ее на далеком севере, непроходима ее тайга в долинах великих рек, тучны ее центральные равнины плодородием и неисчислимо разнообразие природы с царством зверя, птиц и рыб, и насекомых. Неисчерпаемы ее богатства в недрах степей и гор.
ирока и необъятна сибирская земля. Так широка и так необъятна, что не пришел еще певец, чтобы воспевать ее и изобразить ее величие, измерить еще широты и долготы, испытать ее морозы на севере и тепло на юге. Ослепительны снега ее на далеком севере, непроходима ее тайга в долинах великих рек, тучны ее центральные равнины плодородием и неисчислимо разнообразие природы с царством зверя, птиц и рыб, и насекомых. Неисчерпаемы ее богатства в недрах степей и гор.