“И это пройдет…”
Из древних арабских надписей
I. ОТШЕЛЬНИКИ
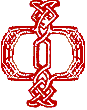 евраль еще раз огрызнулся снежной завирухой на морозе. Это уж всегда так: после “сретенских” морозов февраль не желает сдаваться марту без борьбы. Преддверие марта теплым крылом уже пахнуло с юга. После полудня началась капель с крыш, а за ночь вокруг всех избяных карнизов появилась блестящая на утреннем солнце хрустальная бахрома из ледяных сосулек… А к новой ночи вдруг нахмурилось и замело, закрутило вьюжными волнами откуда-то поднявшийся снег. Как будто серый стальной утюг надавил на землю и дня три поджаривал добела накаленным огнем-морозом. Все попряталось и притаилось. Но занесенные снегами деревни да захолустные городки в необъятных просторах сибирских упрямо покуривали дымками.
евраль еще раз огрызнулся снежной завирухой на морозе. Это уж всегда так: после “сретенских” морозов февраль не желает сдаваться марту без борьбы. Преддверие марта теплым крылом уже пахнуло с юга. После полудня началась капель с крыш, а за ночь вокруг всех избяных карнизов появилась блестящая на утреннем солнце хрустальная бахрома из ледяных сосулек… А к новой ночи вдруг нахмурилось и замело, закрутило вьюжными волнами откуда-то поднявшийся снег. Как будто серый стальной утюг надавил на землю и дня три поджаривал добела накаленным огнем-морозом. Все попряталось и притаилось. Но занесенные снегами деревни да захолустные городки в необъятных просторах сибирских упрямо покуривали дымками.
В метелице и трескучем холоде явилась в этом году широкая масленица. Любит русский народ, невзирая на любую погоду, попраздновать. В году, прости Господи, сто двадцать праздников, и из них дней сорок — буйных, пьяных, с драками, с костоломным и скоморошным грехом, а в зимнем мясоеде — со свадебным, песенным гамом по улицам. Но самой шумной, самой развеселой все-таки выходит масленая неделя. Перед наступлением Великого Поста всякому, от мала до велика, хочется отвести душу, чтобы было из-за чего семь недель попостничать и по-настоящему один раз в году покаяться. В прочие дни и недели занесенная снегом в горном ущелье Чураевка казалась вымершей. Так, кое-где, услышишь звуки топора и лай собачий, да голос изредка кого-то позовет протяжно. А на масляной неделе, несмотря на то, что большинство молодых мужиков давно страдает на войне, еще с понедельника, после обеда, все ожило и зашевелилось. А в среду и в четверг две извилистые улички покрылись сплошной коричневою полосой: конский помет, размешанный со снегом, был так уезжен полозьями саней и пошевней, что уже не обманешь: мартовская оттепель не за горами.
Откуда и народу столько набралось на улице? С соседних и дальних заимок понаехали попраздновать на народе, покататься на укатанной дороге-улице. И на раскрашенных полусанках, и на фигуристых пошевнях, и просто на розвальнях, на охапках сена и соломы, даже для пущей потехи — на быках и на собаках краснощекая молодежь. Все шумит и гудит песнями, звоном бубенцов и колокольцев, с яркими лентами в гривах лошадей, с золотыми и серебряными позументами на дугах, в ярких разноцветных нарядах, кто в лисьих, а кто и в бобровых воротниках; в крытых сукном шубах бабы, в гарусных опоясках и красных шарфах, крест-накрест через грудь, — старики; старухи в давних, еще бабкиных, киках с парчовою отделкой надо лбами. Все кружится в одном огромном хороводе, все по тем же двум улицам, все в одном направлении, мимо тех же домов, все с теми же мотивами песен. Гул идет на все ущелье, и не разберешь, кто какую песню начинает, кто ее же кончает. Но только весело всем до грусти, до великой тоски-предчувствия: не всегда ведь, не для всякого на долю выпадает душу свою распахнуть навстречу чистым февральским снегам. Кто-то скоро отойдет в иную жизнь, кто-то пострадает от обид и горестей неминучих, а кто, быть может, завтра весть печальную с войны получит. Да и пиво не напрасно с осени готовилось. Пиво медовое, сладкое, хмельное, развеселое:
Пиво сладкое, хмельное, медовое,
Пена в жбане льется через край.
С кем согрею сердце молодое,
Кто мне скажет: чарочку подай.
Чей это голос так отчетливо, так горестно покрывает другие голоса? Неужто голос Насти, Настасьи Савельевны Чураевой?
Да, это она выехала на масленицу со своей заимки в кошеве, покрытой маральими шкурами, на которых, на обочинах кошевы, как воробьи на жердочке, сидят с полдюжины ее родни, молодые бабы да девки, все в цветных шалях, закрученных на головах пышными венцами. Пара лошадок разномастных: Гнедчик в корню, а в пристяжках брат его, Савраска, оба обленились, разжирели за зиму без работы, просят кнута. Вожжи в руках самой Насти, но конец их, мягких, плетенных из цветного гаруса, в руках Фирси. Утопая в отцовской праздничной бобровой шапке, в той самой, в которой Кондря справлял свою свадьбу восемь лет тому назад, розовое от мороза личико Фирси выражало гордость, что он правит лошадьми и что слышит мать, поющую громче всех. И особенно звучна и горестна была ее песня, когда кошева поравнялась с хмурым, серым, с закрытыми ставнями домом полуопустевшей чураевской усадьбы.
Кто мне скажет, кто-то мне прикажет:
Выпьем вместе, новую налей.
Надрывалось сердце Насти и красным маком пылало помолодевшее, как у девицы, лицо. Выпила она у родни и у подружек, выпила медовой браги, от которой кружилась голова и тяжелели руки.
Кто мне путь-дороженьку укажет,
До родной заимочки моей...
Настя наполовину сочиняла песню тут же, как сочиняла она в девичестве вместе с подружками, подбирая мотив и повторяя каждый стих вместе со стройным и дружным подхватом всех голосов.
В общем гаме большого санного хоровода, в шуме полозьев и в звоне колокольцев вырастала душа Насти вместе с нарастанием ее тоски, и все милей, все красивей грезился в ее думах муж ее, Кондратий Ананьевич, от которого не было вестей уже полгода. А когда сравнивались ее сани со старою усадьбой, с хороминой чураевской, вспоминался почему-то дяденька Викул. А вместе с дяденькой Викулом вставало так много в памяти и в сердце, что нельзя было всего вместить и осмыслить. И вновь не по-женски, а по-мужски, по-молодечески встряхивалась ее голова, убранная в красную шаль с зелеными цветами, из которой была хитро сделана повязка, так что голова казалась увенчанной короною. Встряхивалась голова, и встряхивались вожжи, снег из-под копыт летел в ее горячее лицо и приносил с собою еще не ведомую остроту печали и вместе буйного задора. Она опережала ехавших тише нее и любовалась взмыленною сбруей под серебряным набором на кореннике. Праздничная сбруя, шлея, седелко, крашеная широкая дуга — все хранилось бережно на случай, что вернется к масленой Кондратий. Уж так давно все говорят о замирении. А вот и нет его, все нет, и весточки не шлет…
Эх, унесите кони ретивые,
Вы печаль размыкайте мою...
Растерзайте сердце молодое,
Я в крови все горе утоплю...
Румянец полыхал на лицах всех ее подружек. Незамужние подружки весело смеялись лихому бегу лошадей, а у замужних на ресницах превращались в белый иней крупные слезинки. И гул и гам всеобщего катанья был только дополнением, глухим, могучим припевом к Настиной печальной песне...
Измесили санями и копытами лошадей улицы Чураевки так, что в Чистый Понедельник утром дорога по улице казалась покрытой пышной пивной пеной. И все вдруг смолкло и опустело. Только солнце, поднимаясь из-за гор, блестело на подтаявшем снегу, лежавшем необъятными зеркалами на склонах.
У Насти запали глаза и охрип голос после песен и холодного пива. Обе лошади с вихрастою, перепотевшей шерстью осунулись и устало дремали на солнечной стороне пригона.
С крыши сильно падала капель и, не застывая, текла ручейком под горку. Теперь ясно: весна идет. Надо готовиться к пашне. Скоро и пчел выставлять. А главное, быть может, все-таки Кондратий, Бог даст, вернется. Дал-то бы Бог, а то дедушка Ерема стал все тяжелее на подъем. А перед весной он все норовит в скиты уйти. В прошлом году едва уговорила остаться, а нынче он опять за свое:
— Греха на мне много... Пора мне душу свою как-нито спасти...
— Да молися тут. Кто тебе мешает?...
— Намолишься тут с вами…
Ворчит и хмурится. Брови совсем белые, глаза закрыли, не видать: не то он смеется, не то плачет.
Старая часовня видна с заимки, но узенькая тропка к ней давно заросла бурьяном. Никто давно туда даже случайно не захаживал, и деревянный крест на почерневшем, обомшелом срубе сбоченился и частью обвалился. Когда был дома Кондратий, он все собирался часовню обновить, но все не доходили руки даже и креста поправить. Настасье же не приходило в голову пойти в часовню и помолиться без дьяка. Дед Ерема был неграмотный и тоже только под водительством дьяка или наставника сумел бы помолиться. Сам же он не помнил ни одной молитвы, и когда случалось помолиться, обходился краткой Иисусовой молитвой и бессловесными вздохами, и сокрушением о содеянных когда-то злодеяниях, которые все чаще и все больше начинали тяготить и мучить его темную совесть. Потому-то он и порывался уйти куда-либо в скиты, где можно было бы доверить настоящим старцам все свои грехи в чистосердечном, полном покаянии. Поблизости же таких старцев не было, а Даниле Анкудинычу он не доверял: этот может донести полиции. Да и какой он старец, прости Господи, мирской и суетный, как все. Только что разбогател, куражится над всеми...
Подальше забрести в леса, повыше в горы захотелось старому разбойнику Ереме. Что-то позвало его неслышным голосом, неясным зовом. Только бы уйти, уйти подальше, поскорее. Как волк перед издыханием — поглубже в нору.
Знал Ерема скит один, когда еще скрывался в самых недоступных местах, в верховьях самых быстрых рек. Давно это было и далеко. Теперь один туда дорогу не найдет. Еще тогда, злодеем бессердечным, готовым убить всякого, кто попадался на пути, чтобы избавиться от очевидца его потаенности, набрел Еремка на стук топора в недоступном, скрытом месте. Набрел и хищно крался для добычи и убийства. Но поразило его бесстрашие седого старенького человека, рубившего сруб для своей кельи. Впервые в ту пору испытал бесстрашный Ерема незнакомый ему страх перед бесстрашием старца. Как будто во сне, сковал этот страх руки и ноги разбойника, и стоял он бессловесным и недвижимым перед приветливой улыбкой хилого седого плотника.
— Христос с тобой, Христос с тобой! — дважды повторил старичок, увидевши испуг разбойника. — Не бойся ничего. Жалуй, гостем будешь…
И улыбался так светло, так просто, что ни у какого зверя не хватило бы сил уйти от этой ласки. Но ушел Ерема, немедленно ушел, объятый страхом не животным и не человеческим, а иным страхом, который был ему неведом...
Вот туда бы Бог привел добраться!.. Если только жив тот старичок. Вот такому бы открыть всю душу и перед кончиной покаяться во всем.
Вот почему хотел он поспешить с уходом. Там должны быть и иные старцы, там иные есть скиты, не тот, так другой там вечно молится, вымаливает милость Божью для всех злодеев. Иначе бы давно мир провалился в преисподнюю. Ох, тяжек, тяжек грех Еремин, нераскаянный, не прощенный никем, незамолимый грех, и не один, не один грех.
А время шло, неделя за неделей. Великий Пост стал подбирать снега со склонов гор. На поветях сена поубавилось. Рогатый скот и молодняк стал пробираться на проталины. Острыми копытами исправились полузамытые первыми весенними ручьями тропки в горах.
По этим-то первым весенним горным тропкам и ушел Ерема. Ушел он рано утром, когда токовали тетерева в ближайшем лесу, и когда Настасья еще крепко спала. Уходя же в светлые потаенные места, не решился взять с собою даже хлеба. Попросить Настасью не посмел. Знал, что она поймет, расплачется и не отпустит, а взять без спроса — грех. Нельзя грехом начинать такое странствие: Бог не допустит до скитов. Ушел как был, в старом зипунишке, в старой, но чистой посконной рубашке. Сапоги же были новые. Сам шил, сам отработал кожу. Взял старое свое, давно испытанное, огниво; взял два крючка для удочки и леску свил заранее из волоса, выдернутого из хвоста Буланухи. Этим, Бог даст, пропитается в пути. А там, в горах, теперь кандык пойдет, саранка, пучки и ревень. Идет весна. Бог пропитает.
Так и ушел. Не пожалел Настасьиного одиночества. Не попрощался с малышами. Даже собаке не решился показаться, чтоб не завизжала от предчувствия, не выдала его ухода. А то еще погонится.
Долго кликала его Настасья к завтраку. Обежала пасеку, попутно увидавши, как обрушилась везде поскотина, и как много лежало возле омшаника опустевших в прошлом году ульев. В омшанике всего, небось, и трех десятков не осталось. Надо скоро выставлять. И тут она спохватилась и поняла, что некому ухаживать за пчелами, некому их выставить. Ушел старик, оставил ее одну с малютками. И нет Кондратия, и нет от него весточки. Хотела побежать на маральник, там искать Ерему, но уж поняла: ушел он. Ушел бесповоротно, навсегда.
Весенний ветер трепыхал подол ее сарафана, и казался этот подол тяжелыми путами, из которых теперь она не знает, как вырваться. Солнце светило в ее лицо веселыми утренними, радостными лучами, но только еще ярче освещало всю печаль одинокой Настасьи, еще недавно, на масленице, так похожей на молодую девушку, а вот сейчас состарившейся в одну минуту. Потому что поняла она, как бы услышала чей-то суровый приговор: ушел Ерема, значит, не вернется и Кондратий. Ужели не вернется никогда? И потому не увидела она лучей солнца, угасли перед нею весенние сияния разлившихся вод горной реки, проваливались горы. Она бежала быстро к дому. Там малые дети одни.
Кроме Фирси у нее еще Савелька, в мае будет два годочка. Родился ровно через восемь месяцев после ухода на войну Кондратия. Не знает, не видал его отец, даже в письмах не упоминает, и сама она считает меньшака как бы лишним, нежданной обузой. С кем она теперь его оставит, ежели ушел Ерема?
— Ох, горе, горе мне лихое! — причитала Настя, подбегая к самой избе, к которой так плотно прижались дворы и амбар.
И все ее хозяйство показалось таким ненужным бременем, которого нельзя снять с ее слабых, неопытных женских плеч. Но из сеней услышала два детских голоса, беззаботных и смеющихся. Проснулись оба сразу, оба начинают каждодневную возню и кутерьму, то драку, то забаву, от которых Настя в вечном страхе: того и гляди, либо малый полетит с полатей, либо старший не по разуму о младшем позаботится. Но в этот час впервые голоса детей показались Насте крепкою защитой от нависшего над ней удара. И важнее всего было то, что Фирся не один и что маленький Савелька, названный так в честь ее отца, крепче старшего удержит ее на заимке. С одним Фирсей, может быть, она не усидела бы в этой заброшенной в горах избе; может быть, ушла бы в люди, как бездомная, и натворила бы еще каких-нито оказий. А тут вот они два сына, два малых братца, Кондратьевы сыны, Чураевы, последние в роду.
Осматривая детей еще тревожными, невидящими глазами, еще додумывая горькую думу о своей покинутости, она прижала обе руки к плотной груди своей и тяжело вздохнула, тяжело и облегченно: надо приниматься за работу. Надо вот для малых. Весна идет. Некогда тут горевать. Горем делу не поможешь.
— Господи! Помоги с умом собраться!..
Взглянула на старинные иконы в красном углу, истово перекрестилась и, засучивая рукава, сама не зная почему, повысила на Фирсю голос:
— Ну, будя баловать! Ты уж не маленькой. Беги-ка выпусти скотину на водопой.
И Фирся радостно стал надевать на себя шапку. Он знал, как открыть ворота. Это легко, лошади и коровы сами вытолкнут и выйдут.
А Ерема уходил все дальше и дальше, выше по тропинке в горы, вверх, навстречу течению реки. Часто останавливался, не для передышки, нет, а для того, чтобы решить-подумать: не вернуться ли? Добро ли поступил — пошел душу спасать, а одинокую племянницу оставил с двумя детьми без подмоги?
Три раза так присаживался на каменья. Три раза всматривался вдаль, за горы, по извилистой долине реки. Хорошо светило утреннее солнце, посвистывали птички и ласково шумели густыми хвойными ветвями черные ели, но в сердце не было покоя.
— Кончину чует сердце, — выговорил он негромко и услышал свой голос в шуме речного потока, который был непрерывен и знаком, как давний друг. — А что ежели кончина случится на глазах молодицы? Куда она? Напугается, хлопот наделаю. Ребяток переполошу... Нет уж, возврату не бывать.
И зашагал упорнее, и стало ему легче, стало вольготнее и проще в сердце и в душе. И думы пошли ровнее и спокойнее: четыре года жил он на заимке, близ дедовской часовни. Четыре года чуял себя нужным человеком, четыре года каждодневно ожидал полиции, ареста и приготовился пойти послушно, куда прикажут. Оттого и дурачком казался, оттого и глуповатая усмешка всегда кривила его грубое и волосатое лицо. Оттого так скоро поседел — ему ведь не так много лет. Но вот согнул его незамоленный, нераскаянный и непрощеный грех. Надо его поскорее рассказать кому-то, быть может, свалится с души тяжелая скала. Когда-то встретил тут вот, на горах, Васютку, франтика московского; пытался высказать ему, да не смиренно, а со злобой на отца и на Анания. Не так теперь на сердце складывается. Тоскует и томится грешная душа перед кончиной. Били его люди много и нещадно. Искалечили богатырское тело, в землю оно просится. А собакой подыхать неохота.
Вот как складывались думы разбойника Еремы, свободно уходившего навстречу своей смерти. И стало ему еще легче, и впервые никого и ничего уж не боялся Ерема. Душа и тело к самому страшному ответу приготовились.
Шел Ерема не спеша. По трущобным путям много не уйдешь даже и в прибавленный весенний день. Пути были знакомы. За эти годы новые заимки поприбавились. Просто зашел, попросился на ночевку. Непомнящим родства назвался. Просто и без страха приняли и накормили. Видно, что безвредный старый странник. Мирно спал всю ночь, а утром дали хлебца на дорогу. Удочку три дня не приходилось разматывать. Но чем дальше, тем глуше, тем дремучее были леса, тем меньше населения. Так и четвертый день прошел. А на пятый — уж ни души, ни хижины не встретил. Только выше и темнее стали ели и кедры. Только белее и шумливее речные водопады и пороги, и все меньше становились впадавшие в большую реку малые притоки. Тут пришлось сломить чащинку подлиннее и попрямее, сделать удилище. Наладил удочку и просто и легко поймал трех хайрюзов. Поджарил их на палочке, на костерке. Хорошие, питательные рыбки, показались слаще праздничного курника.
Спал под елью на мягкой сухой хвое. Было зябко в полночь, но огня не разводил до самого утра, а утром не спеша опять поймал пару хайрюзков. Когда их ел, еще горячие и слегка обугленные, поглядывал по сторонам на молчаливо слушавший что-то лес. По-новому красив и важен был в безветренной тишине этот могучий, нетронутый, великий хранитель непонятных шорохов и звуков, лес.
Что же и кого слушал лес? Как будто дятел где-то далеко стучит о ствол сухостойного кедра. И не слухом, а проясненным новым сердцем вдруг услышал одинокий странник давно знакомый и заставивший его затихнуть звук. Нет, это не дятел, это где-то далеко в ущелье топор стучит. Не по сырому, растущему дереву, не глухим ударом, а открытым звонким стуком по сухому, осоченному бревну. Это плотничий топор стучит.
Впервые в жизни старый лиходей познал незнаемую радость, и улыбка счастья умножила морщины на его лице, открыла крепкие белые зубы и заискрилась в поблекших, выцветших глазах.
Не доевши второго хайрюзка, встал и бодро, поспешно зашагал на этот вольный и приветливо звеневший стук. Но тропинки туда не было. Надо пробираться по трущобе. Точно бы не проходили долгие годы с того дня, когда он с иными думами, с иным, мохнатым сердцем, разбойником и вором крался на такой же стук. Точно бы уснул разбойник на ходу и видел сон несбыточный, не похожий на страшную явь его жизни, сон, в котором он увидал себя заново рожденным, добрым, настоящим человеком.
Когда Ерема наконец добрался до строителя, он увидел точно то же, что видел много лет назад. Только плотник был моложе, выше ростом и не так сед, как тот, бесстрашия которого когда-то испугался Ерема. И стоял он к страннику спиной, не замечая его прихода. Ерема стоял, не двигаясь и не смея заговорить. Все, что он увидел, было так пречудно. Поодаль был шалаш из хвойных веток, а над ним новенький, из белой березы, трехраменный крест. Значит, привел Господь Ерему прямо к старцу настоящему. Тут же звонко журчал ручеек, и в нем вертелось маленькое мельничное колесо, точь-в-точь, как у того давнего старца. Новый же сруб был наполовину сложен, и пахло от него свежею, смолистою, пихтовою щепой.
На голове строителя был лыковый обруч, чтобы длинные волосы не закрывали глаз и не мешали строить. На нем была белая длинная холщовая рубаха и домотканые, в полосочку штаны. Но был он бос, и ноги его были тонкие, сухие, полузасыпанные тонкой стружкой и щепой.
Обделка бревна была как раз закончена, протесан паз и зарублен угол. Плотник начал поднимать бревно в очередной венец сруба. Бревно было продольное, тяжелое, и было так уместно, так натурально, что Ерема подхватил другой конец бревна и, все еще невидимый, помог поднять его на стену. Не сразу, но удивленно, через свое плечо обернулся в его сторону строитель. Молча, долго вглядывался в глуповато ухмылявшееся лицо нежданного пришельца. И у Еремы онемел язык. Но оба медленно, вдоль сруба приближались один к другому и, не доходя еще, бросились друг другу в ноги. Поднялись, взглянули друг на друга влажными от набежавших слез глазами, да опять упали в земном поклоне друг перед другом. И все еще молчали. И лишь после третьего поклона старый Ерема проскрипел упавшим голосом одно лишь слово:
— Брателко!..
И повторил за ним, но твердо и зычно, выпуская слово из большой, могучей груди вместе с вздохом облегчения, младший:
— Брателко, родимый!
Никогда не доводилось им встречать друг друга, но каждый по-своему был так похож на древний род чураевский, что оба без ошибки поняли, что они единокровные, хоть и не единоутробные сыны Фирса Платоныча. А еще вернее поняли без всяких слов, что для обоих, беглых и бесправных, послал Господь явное чудо, встречу эту: одному на краю отчаяния, а другому на заре его новой, уготованной подвижнической жизни. И послал им Бог вот этот необъятный, нерушимый, вечный дом-пустыню в потаенном горном лесу Святого Беловодья.
В торжественном молчании прошли первые минуты встречи. Только всхлипывал старший, более несчастный брат, тихо вытирал свои глаза меньшой, и оба через слезы улыбались. Тихим и торжественным шепотом благословляли эту встречу высокие густые ели и раскидистые кедры, стоявшие неодолимыми стражами вокруг скитского починка. И уходили великаны кедры и черно-зеленые монахини ели бесконечной ратью во все стороны: в высоту, на вершины гор, и вниз, в голубое пустынное ущелье.
Так и не назвали братья друг друга по имени. Каждый знал, что имени у них теперь не будет. Оба именуются для прочих "не помнящими родства", а друг для друга просто: брателко.
Так сложилась и определилась судьба двух старших братьев Чураевых: незаконного Еремы и законнорожденного Викула. Сложилась в дни весны, когда на другом конце земли, у границ заморских бушевала новая пора на Русской Земле, новая настала жизнь. К худу аль к добру, еще никто не ведает, а до ушедших от мира братьев никаких вестей об этом даже и не докатилось. Не ведали они и о судьбе младшего брата Василия и племянника Кондратия. Знали только, что и они страдают — за отцовские ли, за свои ли грехи.
Длинные и ясные настали весенние дни в скиту. Еще длиннее были ночи, звездные, никогда до сих пор Еремою не виданные.
И вольготно было для его души под покровом тихо шепчущих кедров и елей изливать перед отшельником братом все свое незамолимое окаянство. Радостно было и младшему старцу высказывать свои грехи, потому что среди них не было ни одного смертного и непростимого. Легко было ему молиться не столько за себя, сколько за других, и, прежде всего, за несчастных братьев.
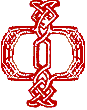 евраль еще раз огрызнулся снежной завирухой на морозе. Это уж всегда так: после “сретенских” морозов февраль не желает сдаваться марту без борьбы. Преддверие марта теплым крылом уже пахнуло с юга. После полудня началась капель с крыш, а за ночь вокруг всех избяных карнизов появилась блестящая на утреннем солнце хрустальная бахрома из ледяных сосулек… А к новой ночи вдруг нахмурилось и замело, закрутило вьюжными волнами откуда-то поднявшийся снег. Как будто серый стальной утюг надавил на землю и дня три поджаривал добела накаленным огнем-морозом. Все попряталось и притаилось. Но занесенные снегами деревни да захолустные городки в необъятных просторах сибирских упрямо покуривали дымками.
евраль еще раз огрызнулся снежной завирухой на морозе. Это уж всегда так: после “сретенских” морозов февраль не желает сдаваться марту без борьбы. Преддверие марта теплым крылом уже пахнуло с юга. После полудня началась капель с крыш, а за ночь вокруг всех избяных карнизов появилась блестящая на утреннем солнце хрустальная бахрома из ледяных сосулек… А к новой ночи вдруг нахмурилось и замело, закрутило вьюжными волнами откуда-то поднявшийся снег. Как будто серый стальной утюг надавил на землю и дня три поджаривал добела накаленным огнем-морозом. Все попряталось и притаилось. Но занесенные снегами деревни да захолустные городки в необъятных просторах сибирских упрямо покуривали дымками.