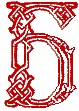 ыл канун нового, 1915 года.
ыл канун нового, 1915 года.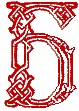 ыл канун нового, 1915 года.
ыл канун нового, 1915 года.
После долгих вьюг поля были в сплошных сверкающих жемчужных пеленах. Полуденное солнце улыбалось из бесчисленных снежинок, претворяясь в каждой из них в отдельное, крошечное, сине-лиловое, зеленое, пурпурное и всех иных цветов и красок алмазное зерно.
Просторно — белыми волнами убегали во все стороны поля.
С новым ручным чемоданом и опрятно упакованным портпледом, в легких извозчичьих полусаночках Гутя выехала за город, к вокзалу.
Позади четыре месяца борьбы, тревог и всевозможных испытаний. Столько нового и тяжкого узнала. Столько встретила препятствий от начальства, недоброжелательства от женщин, приставаний и преследований от мужчин.
Наконец — победа и удача. Выхлопотала отдельный вид на жительство, прошла ускоренные курсы на звание сестры милосердия и получила назначение на фронт, в один из только что отправленных сибирских передовых лазаретов.
Еще не привыкла к беленькой косынке и к серому, простому, скрывающему гибкость тела платью. И сапоги мужские были непривычно тяжелы. С голенищами и с легким скрипом, с крепким запахом от свежей кожи, они ей придавали твердую походку. Когда же надевала новую, из желтой кожи, тоже по-мужицки сшитую тужурку, то казалась и задорнее и по-мальчишески смешливее. В борьбе с длинными рукавами тужурки и с просторными складками платья движения приобретали некоторую игривость и вместе неуклюжесть. Когда же из-под белой косынки улыбались темно-серые глаза, а от глубокого дыхания красный крест слегка вздымался на груди, то в изгибе неуклюжих складок платья и тужурки чувствовалось нежное и гибкое, влекущее и теплое, законченное тело юной женщины. И, кажется, никогда еще глаза мужчин так не рассматривали ее, как именно теперь. Может быть, поэтому она стеснялась нового наряда, чаще вспыхивала в нем, стыдливо улыбалась и еще более цвела.
Дня за три до отъезда на улице ее остановил молодцеватый офицер с Георгием поверх шинели, с горящими счастливой хищностью глазами.
— Не узнаете? А я уже давно напал на след ваш... Но никак не думал, что вы милосердная...
Гутя не могла ответить сразу и улыбнулась глухой, жалкою улыбкой. Будто ястреб ухватил когтями ее сердце и остановил дыхание. И не давал опомниться. Торопливо, страстно лепетал о долгих поисках, об окончательном разрыве с Тасей, о новых кутежах и о готовности опять убить себя, и Гутю, и жену — кого угодно.
И требовал пойти с ним, уехать в горы, в степь, куда-нибудь, только немедленно, сейчас, сию минуту...
Если бы не красный крест, который ей напомнил, что она идет в свой лазарет; если бы не белая косынка, не тужурка и не сапоги с покалывающими в ступню гвоздями — может быть, опять случилось бы непоправимое. Но спас от нового падения не красный крест и не белая косынка, а все тот же страстный и самозабвенный лепет:
— Я ведь думал: ты влюбилась в этого проходимца Чураева. Я и не знал, что он уже на каторге. Конечно, ты слыхала, что он убежал... Как же-с!.. — испуганно-расширенные глаза Гути Стуков понял по-своему. — Как же-с, убежал и восемнадцать головорезов с собой увел... Австрийцами переоделись... Но, слава Богу, я только что прочел в газете, что его опять схватили и везут... Теперь уж обязательно повесят!
И не зная, что заполыхало в сердце и сознании Гути, он без запятой опять стал требовать немедленного свидания, ласки и любви во что бы то ни стало.
— Нет!.. — сказала Гутя, все еще не смея поднять голову и все еще с улыбкой. — Это все неправда!..
Стуков понял вновь по-своему и стал протестовать, доказывать, грозить.
— Ты хочешь погубить себя и меня?.. Ты слышишь — я не отступлюсь от тебя, пока жив!..
— Я закричу! Отстаньте! — вдруг крикнула вернувшимся к ней звонким степным голосом и, обдав его искрами ненависти, круто повернула в ворота лазарета, из которых выходили три солдата. Они испуганно отдали честь офицеру и робко покосились в сторону крикливой сестры.
Стуков, не видя ни солдат, ни лазарета, ни яркого зимнего солнца, повернул куда-то в переулок и, сжимая эфес сабли, пожирал глазами казавшуюся красной белизну сплошного снега.
Только в коридорах лазарета при виде встретившей ее сестры Гутя опомнилась, но решительная складочка между ее крутых и тонко-бархатистых бровей так и осталась.
— Что ты такая фурия сегодня? — спросила ее подруга.
Гутя не ответила. Она вспомнила, что через три дня уезжает и что пришла проститься с персоналом лазарета. Но персонал и сестры, столпившись в перевязочной, были в сутолочной хлопотне.
На перевязочном столе лежал без чувств, в багрово-синих кровоподтеках на всем теле и в крови, в лохмотьях арестантского азяма пленный, еще юный, с чуть пробившимися черными усиками.
Два доктора и сестры искусственным дыханием и впрыскиванием камфары приводили его в чувство, но, судя по бледно-желтому, безжизненно-неподвижному лицу его, пленный уже не дышал.
В коридоре возле перевязочной стояли три тюремных стражника и, с подавленно-печальным видом, — два пленных австрийца с пустыми носилками.
Гутя робко подошла к столу.
Лежащий на столе был снизу до пояса раздет, и мягкая часть его тела была в рваных, загрязненных и начинающих гноиться ранах.
Старший врач, увидев Гутю, сурово крикнул ей:
— Ну, что же вы, сестра, как именинница стоите? Держите ему это... Да поскорее вы, оставьте церемонии! Пора привыкнуть ко всему... Кружку там держите выше!..
Гутя, как в бреду, не видя, что берет, мужественно подхватила нежными, чуть покрасневшими на холоде руками что-то скользкое, в запекшейся крови и пахнувшее так нехорошо, что сразу закружилась голова.
Доктор наклонился и через очки внимательно взглянул к рукам Гути.
— Ну что-о же! — протянул он. — Все уже в гангрене... Додумались на перевязку привезти... Да подтяните выше! — снова крикнул Гуте доктор. — Экая, ей-Богу! Видите, там трубку надо вставить...
Но младший врач, следивший за дыханием, негромко произнес:
— Все кончено... не беспокойтесь...
У старика врача вдруг опустились руки, но Гутя продолжала держать порученную ей часть тела пленного, как бы желая этим вернуть к жизни тело, еще теплое, но быстро холодеющее.
С минуту все в молчании смотрели на лицо умирающего. Гутя наконец отшатнулась от ног пленного и покачнулась в сторону его груди, на которой на редких кучерявых волосах тонкой змейкой извивалась серебряная цепочка, и на цепочке, рядом с металлическим солдатским номером, лежала круглая крошечная иконка Богоматери. Младший врач перевернул иконку, и все молча наклонились к ее обратной стороне. Там из-под стекла в волне кудрей сияло радостной улыбкой юности хорошенькое девичье лицо.
Нежный подбородок Гути дрогнул, и в углу губ ее нарисовалась новая, до сих пор не появлявшаяся черточка. И черточка эта застыла с еще большим красноречием, когда глаза Гути увидали полураскрытый рот умершего, который показался улыбающимся. Так были невинно и доверчиво раскрыты еще не потерявшие розового цвета губы и так ярко блестели ровные, юношески белые зубы.
— Да, жестоко у нас порют! — покачивая головой, вздохнул старший врач.
— С каторжанами судьбой захотел поменяться, — вставил младший доктор.
— Нет, брат, прогадал, служивый!.. — кивнул умершему старший врач и, поворачиваясь уходить, знаком руки безмолвно распорядился выдать тело ожидавшим носильщикам и стражникам.
Гутя не помнит, как прощалась с сестрами, но когда уходила, было уже темно и, разыскивая извозчика, она шарахалась от каждого встречного: не тот ли, кого она теперь раз и навсегда возненавидела и кто с таким злорадством рассказал ей о судьбе Чураева?..
Вот почему, когда Гутя подъехала к вокзалу и когда узнала, что снежные заносы задержали поезд и что он придет тремя часами позже, она спряталась в укромный уголок и обрадовалась, что никто ее не провожает.
И лишь теперь то самое, о чем сказал и зачем сказал офицер Стуков, дошло до ее сердца, заставило потупить взор и замолчать. Он, этот офицер-герой, с которым не посмела спорить, стал чужим, и в одно мгновенье, именно за то, что грубо затоптал мечту ее, того Василия Чураева, о ком как о герое истинном она теперь уже не переставала думать... Гутя не знала, верить или нет? Не подумала, не знала об ошибке Стукова, но допускала нечто страшное, такое, что случилось с нею самой у генеральши и потом в градоначальстве, в Ялте. Возможно, все возможно там, где без бумаги самому безгрешному человеку нельзя и дня прожить спокойно.
— “А если правда, что он каторжанин? Что тогда? Тогда подскажет сердце”.
Но не успела выслушать ответ своего сердца.
Со скрежетом и скрипом, в снежной пыли и ледяных сосульках со стороны серебряно-сверкающих степей подошел и остановился у вокзала поезд.
Гутя заспешила, но носильщик, мягко улыбнувшись ей, успокоил:
— Еще не скоро пойдет. Сидите тут — там холодно. Я вам скажу, когда время...
Еще долго и надоедливо скрипели двери станции. Входили люди, уходили, стучали обледенелыми подошвами сапог по полу и по платформе, крякали возле буфета, уносили в поезд чайники. И было что-то нудное и вместе с тем ненужное в гулком ходе стенных вокзальных часов.
Наконец из города пришел полувзвод солдат, гулко прогремел ледяными сапогами по залу станции и прошел на платформу.
Гутя не видела, что внутри этого взвода провели кого-то скованным. Но прибежавший впопыхах носильщик улыбнулся ей и сообщил:
— Поймали, слышь, голубчика! В Бейск отправляют... — и, подхватив Гутины вещи, молча потащил их к вагонам.
— Кого?
— Да этого Чураева... Делов-то он понаделал сколь!.. Вон, видите, в арестантский вагон повели... С вами — хи-хи! За компанию до следующей станции поедет...
Гутя потеряла все слова и самообладание. Почему-то оттолкнула от себя носильщика и побежала вслед за взводом, задохнувшаяся и немая в своей безумной устремленности.
Подбежала, растолкала солдат, изумленно отступивших перед нею, но опять испуганно сомкнувшихся, и, оказавшись в середине их, увидела перед собой глаза — одни только большие, изумленные, печальные, те самые глаза — из-под серой арестантской шапки-бескозырки. И спереди висели его руки, и от рук свисали опрокинутою дугой цепи, и был он весь как изваяние, как окаменелый, в сером, грубом арестантском сукне и в старых, много кем-то уже ношенных обутках...
Глаза его внезапно излучили теплый, совсем не арестантский свет и засветились ласковым, нежным удивлением, а с бледных губ, сквозь заиндевевшую, чуть золотившуюся в лучах заката бороду, упало к ней одно лишь слово:
— Гу-у-тя!..
По какому-то толчку сверху или изнутри Гутя повалилась на платформу, горячими руками обхватила ноги скованного человека и стала биться нежным, розовым лицом своим о твердые, обледенелые обутки каторжанина.
Нашла мечту свою и потеряла память... Солдаты грубо оттащили ее от арестанта. Носильщик, понимая что-то, вел ее в вагон и успокаивал:
— Ну, будя, будя!.. Поезд пойдет сейчас...
Вскоре поезд заскрипел, заскрежетал с надрывной скорбью и пошел. И так, со скрежетом, в рыданиях и в безумии шел долго над рекою Обью, по неумолимому железному мосту, потом остановился за рекою и стоял там годы, страшные бессрочные века, пока надорванная грудь Гути стала вся дырявой от отчаянного крика и пока душа сквозь эту грудь вся не истощилась и не застыла где-то в ледяной пустыне ночи.
Поздно, в полночь, Гутя вновь очнулась. Поезд уже мчался белоснежными, залитыми лунным светом равнинами, безграничными, как скорбь.
Мчался поезд в белую пустыню — даль, в неведомую участь дней грядущих, и все его колеса пели... Нет, не пели, а трубили незабываемым, неукротимо-властным зовом какую-то одну, непонятно-нескончаемую и непередаваемо-глубокую, невыразимо-сладостную песнь...
Поезд мчался в новые минуты ночи, в новый год, который в этот час на необозримых весях всероссийских по-разному — пестро, сумбурно и разноязычно, беспечно или скорбно, молитвенно или пьяно встречала Русь.
После долгих ночных слез незаметно для себя под утро все-таки уснула Гутя. Укачал, убаюкал поезд. И припав головой на не развязанный портплед, проспала до позднего утра, до Новониколаевска. А там, в суете с пересадкой на иркутский скорый поезд, немножко развлеклась и в новом вагоне третьего класса очутилась среди непривычного гула голосов.
Конечно, говорили все о том же.
—У меня третьего узяли. Старшой-то от немецкого дыму задыхнулся... Энтот был фельдфебель... А энтот, меньшак, — в денщиках. Средний с австрияками дерется... Пока што Бог хранит, а все-таки — под пулей...
У старика отсвечивает плешина: яркое солнце от степных снегов бьет в нее через окна вагона рикошетом.
С полки над ним гудит другое:
— Прорва! Вроде как провал какой: и жрет, и жрет, и жрет!..
Под баюкающий бег беспересадочного поезда гуторят примиренно о земле и о войне, о неизбывных горестях — то да потому.
Молоденькая баба, вся в красном, краснощекая дикарка, вскормленная “толстыми” щами где-то в Кузнецком уезде на Алтае, голосом, не знавшим никаких запретов, звенит:
— Ой, родимый мой, да я кого?.. Я николды на ем не издила: до смертушки боюсь!..
И при каждом крике паровоза взвизгивает, при каждом толчке вагона хватается за мужиков:
— Родимые!..
А сама хохочет ядреным, сочным смехом.
Едет она к раненому мужу вон куда: в Петроград!
Поезд меряет десятки, сотни верст, и все степь и степь. Гутя никак в уме не прикинет: какая это страшная даль. Подняться бы на самолете к небу да приставить бы к глазам подзорную трубу, такую, чтобы все сразу было видно и позади и впереди... Боже, Господи!.. Задохнулась бы от беспредельности.
— Мой-от кучерявый был! — весело щебечет баба. — Пишет, что острыгли. Глаз выбили ему.
— Поче же едешь-то? На родину его казна доставит... — урезонивает ее сосед.
— На-а, дыть мне царя охота поглядеть... — шутит над собою баба.
— Богатая, стало быть? — шутит собеседник.
— Писал он мне. Зовет...
— Государь-от? — насмехается над нею сосед.
— Селифа-антий! Хозяин мой... — она со смехом бьет соседа по плечу в знак вразумления.
— Рада? — ощеряется другой мужик.
— Дыть, а то нет, што ли!.. — Может, кривого-то теперь не заберут. Увезу домой миленочка...
А в других углах вагона свое:
— Земля — она земля и есть. Ты ее пожалеешь, она тебя пожалеет...
— В Сибири и без навозу — с полосы хлеб лезет... Только нонешний год — сперва засуха, а опосля ненастье — ни та, ни ся.
И опять за то же:
— Другое дело — мужиков всех позабрали... С бабами какая пашня? Только и делов у ей: жалование получить да к купцу... Все в калоши обрядились. Кофточка не кофточка... А то патретики себе снимают — деньги губят... А другая — получит с почты “печальное”, приложит к сердцу да и ходит плачет. Беды-ы...
И так с утра до вечера, у всякого свой сказ о том же, об одном.
Но вот в вагоне появился новый пассажир, рыжебородый, тощий, шустрый, пожилой.
Он вошел на полустанке, где стоянка продолжалась с полминуты. Задыхался, был сердит и в снежном бусе.
Снял зипун, подостлал его на жесткую лежанку, рядом с мужиком в заплатанном поднитке, сунул на полку мешок с добром, погладил спутанную рыжую бороду и громко сказал неповоротливому соседу:
— Ну-ка, подвинься, што ли!
А потом все так же повелительно спросил:
— Отке-еда?
— Со Славгорода, — обиженно ответил тот.
— Город такой новый есть на Барабе, — подсказал плешивый дедушка.
— Слыха-ал, — неодобрительно ответил новый, и голос его вдруг запрыгал в смехе, зазвенел, как будто только и ждал, чтобы кого-нибудь обругать. — Чего же не сиделось на сладких пирогах? Шатаетесь — рямками-то трясете...
Как будто в уголь порох бросили. Вдруг загремел, заспорил, встал на дыбы весь вагон. Плешины, космы, бороды, волосатые руки — все мужицкое, пахучее, ржаное сгустилось возле нового. Настоящий “мирской” сход. Загалдели, замахали кулаками, с визгом в голосе одни смеялись, другие ругались — того гляди, начнется драка. Казалось, схватят пассажира и выбросят в окно.
Но новый, откинувшись назад, ехидно улыбался, слушал и пережидал, пока на него не высыплют все корявые и горькие, мимо него направленные слова злобы:
— Как же, дали!.. Дожидай!..
— Золы в глаз бросить пожалеют!
— Утробистые больно!
— А ты — рямками... Эх, мила-ай!..
Рыжебородый призакрыл глаза, проворно замахал на галдеж обеими руками и, изобразив на скуластом лице горестную усмешку, пронзительно нутром запел:
— Зна-амо, эдак!.. Зна-амо!.. Да перво-наперво мы сами бестолковы!.. Ей-Богу!.. Ты думаешь, — схватил он за руку стоящего против него деда, — мне ее жаль, сибирской-то земли?.. Да разговор-то тут не о том, овечья душа!.. О другом нутро болит... Я сам — россейский... Сам эдак же таскаюсь взад да вперед, и сам себя за это измываю...
Отхлынули от мужика потные, злые лица, руки опустились вдоль туловищ. Все примолкли.
Только с самой верхней полки, где багаж кладут, свесившийся молодой и закоптелый человек спросил у нового:
— А ты, борода, на угольных копях в Судженке не робил?
Новый поднял бороду и не ответил закоптелому. Он занят был своим, все тем же, старым, осевшим на сердце коростой. И перевел глаза на мужиков.
— Земли, ее у нас немало!.. Може, оттого у нас и недород, что справиться с землей не можем... Скудотность не в земле!.. Скудотность в смыслах... Смыслов толку не хватает, вот чего... За это нас и бьют... А немца взять... — мужик поперхнулся словом, хлопнул себя по коленкам и, обернувшись к окну вагона, ткнул на белый, безграничный и пустынный горизонт приишимской равнины. — Господи-и!.. Чего бы тут немецкая башка не сочинила...
И снова что-то вспухло и взорвалось в вагоне. Как будто он набрал в свою утробу целое облако досадливых ругательств, слов и криков и сразу уронил их возле говорливого мужика.
— Немцам помогает дьявол! — злобно после всех сказал старик.
— И от нас Господь-от отвернулси-и!.. — наставительно ответил новый. — Не дьявол ли смекалке нашей застит, язык наш путает?.. Вот здеся нас дюжина, а столковаться не могем.
— А слыхал ты — Богородица войскам явилась? — продвинулся вперед старик и ждал с открытым ртом, что скажет новый.
— Как же не слыхать — слыхал! — мужик сердито дернул свою бороду, заерзал вместе с зипуном на лавке и еще пронзительней запел: — Эх, овечья душа!.. Об этом толковать нам, грешным, с тобой не дадено... Пусть так — явилась... А потом-то што?.. А ну-ка, ну?..
Старик заморгал глазами, потоптался и сказал:
— Стало, Богу так угодно...
— Чево это?
— Штобы страданьем нас найти... Спытать веру православную...
— Овечья душа-а!.. Рассея тыщу лет страдает... Пытал ее Господь!.. Не обошел своими карами — наказывал. Да, видишь, мы и Бога не послухались, не впрок нам наказанье его. Только и науки, што страдать, — хвались иди теперь, — пожалеет тебя немец?.. То-то вот... А я тебе мил человек, вот што скажу: будя нам страдать!..
У мужика блеснули синие огоньки в глазах, борода запрыгала, и перед стариком сильно рубила воздух жилистая волосатая рука:
— Ежели жив будешь, — попомни мое слово: мужицкая Рассея последний раз страдает!.. Будя!..
Все потянулись к мужику, ели его глазами, вострили слух, дышать перестали.
С верхней полки просыпался смешок. Черные глаза копченого человека насмешливо сверлили мужика, а резкий, металлический голос отчеканил:
— Ой ли, дядя!.. Покряхтишь еще... Попотеешь!..
Мужичья голова подпрыгнула вверх, и голос так же звонко, в тон рабочему отрубил:
— Другие пусть кряхтят, мил человек!.. Другие... А тебе я вот что скажу, овечья душа, — опять он зазвенел над ухом старика: — Не дитенок твой, так внучок вспомнит мое слово: будя нам, как свиньям, землю носами рыть... Рыло надобно поднять, да вымыть, да на свет Божий поглядеть... А землю пусть железо роет... Понял ты, старик, ай не-е?.. — с визгом засмеялся пассажир и, будто выгружая из себя давно накопленные мысли, заторопился, зачастил: — В жисть свою, овечья душа, я не веровал в хрестьянскую силу, как теперича... И вот вам истинный Господь! — перекрестился он на всех, — нет у немца этакой надежды... А у нас она была в земле закопана, кладом пролежала тыщу лет и вот теперича, братцы мои, встает, хе-хе, ей-Богу!..
Мужик уже стоял на ногах и тряс за плечо старого.
— Больно вдарил немец Рассею, а все-таки не душевередно. Врет — не до смерти!.. А што мы рыло от земли поднимем, так это нам на пользу. Истинный Господь!.. Будя ржаветь в земле... Будя!..
Мужик длительно и дробно засмеялся и сел на свой зипун. Он оберучь схватился за лежанку, как будто попрочнее утверждая себя, чтобы тверже и спокойнее, без горячности, растолковать свои слова соседям.
— Слыхал я когда-ето сказку одноё: про богатыря уснувшего, окаменелого не то оледенелого... И должон будто родиться на земле такой чародей... Слово он найти должон и на ухо богатырю уснувшему шепнуть... И тогда, братцы мои, ён должон встать... Проснуться!..
Мужик опять сорвался с места и заметался, как бы отыскивая сказочного чародея среди притихших, запотевших мужиков. Но увидев крупные, пытливо-печальные глаза сестры милосердия, вдруг замолчал и, достав из мешка черствую краюшку хлеба, начал медленно, со смаком есть её...
Поезд быстро мерил четвертую тысячу от Иркутска, а Сибирь еще не кончилась. Затерянный на белой необъятной равнине, огороженной светло-голубыми стенами неба, длинный поезд казался певучею стрелою, лениво пущенной из лука дикого богатыря откуда-то с далекого Востока...
Там, далеко в горах, в бело-голубых просторах где-то замурован скованный родимо-близкий человек...
— О, если б богатырь явился и чародейным словом цепи с него снял бы!..
И снова опустились и закрылись полные кристальных слез глаза. Красный крест на груди робко и нежно украдкою вздрагивал.