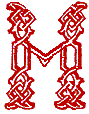 ела метель, одна из тех сибирских вьюг, после которых иногда на месте деревень остаются белоснежные равнины. Если бы не дым из труб, то и в солнечное утро не найти такой деревни.
ела метель, одна из тех сибирских вьюг, после которых иногда на месте деревень остаются белоснежные равнины. Если бы не дым из труб, то и в солнечное утро не найти такой деревни. 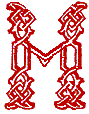 ела метель, одна из тех сибирских вьюг, после которых иногда на месте деревень остаются белоснежные равнины. Если бы не дым из труб, то и в солнечное утро не найти такой деревни.
ела метель, одна из тех сибирских вьюг, после которых иногда на месте деревень остаются белоснежные равнины. Если бы не дым из труб, то и в солнечное утро не найти такой деревни.
Мела метель, был поздний вечер, и изредка, между тяжелыми вздохами бури, доносились с разных концов полей как бы призрачные зовы колоколен... Это в ближайших селах звонили в большой колокол — для спасения путников и заблудившихся.
Деревенский дом Василия Чураева — на углу двух улиц, по которым вьюга проносилась с обоих концов, крест-накрест, с гор и с поля. А те сугробы снега, которые гнал ветер с поля, могучими порывами подхватывал и уносил в другую сторону ветер с гор. Эта шалость вьюги почти всегда перед домом вылизывала лысину. Но зато в ограду, на поветь и за дворы наметало снегу столько, что Василий должен был со всей семьей откапывать усадьбу.
Всякую работу Чураев старался обратить в забаву, и в особенности отгребание снега, белого, пушистого, румянящего щеки детям, было удовольствием даже для Надежды Сергеевны и Лизаветы. Но после того как работа заканчивалась, и лошади, коровы и овцы были в хлеву и ели заданное на ночь сено, Василий не любил оставаться один в темном дворе со своими думами. Завывание вьюги, шелест снега и отрезанность от всех путей куда-либо в просторы жизни, слишком принижали его волю. В это время хорошо бы не иметь ни дум, ни знаний, ни возвышенных желаний, а быть бы просто мужиком, довольствоваться тихими заботами хозяйства и ждать весны, а вместе с нею — дружной, но и радостной поры мужицкой — сеять и собирать под солнцем на земле.
Так и в этот вьюжный вечер Василий поспешил в теплую, опрятно прибранную комнату и, подсаживаясь к самодельной полке с избранными книгами, углубился в чтение. Часто забывая есть и спать и редко слыша обращенные к нему вопросы жены или детей, он так просиживал за полночь.
Удивительнее всего было то, что он читал все те же, ранее уже прочитанные книги, и даже не читал их, — вместе с ними думал, думал, думал... И думал он по-новому, как никогда раньше, и в этих думах был теперь для него весь смысл его деревенского существования.
Нашла свое призвание и Надежда Сергеевна. Еще с осени, озабоченная обучением своих детей, она исхлопотала разрешение открыть в деревне школу и стала в ней учительницей. Хлопот и радостей со школой у нее было так много, что она по целым дням не появлялась дома. Появившись поздно вечером, сидела за тетрадями или писала разные бумаги, а то и снова уходила в школу: заседать со своим мужицким попечительским советом. Благо, все хозяйство в доме взяла на себя выносливая Лизавета.
Василий видел в этом увлечении Наденьки прекрасный, хоть и скорбный путь подвижницы и был по-новому с ней бережен и нежен. Во всю их жизнь влилась освежающая и бодрящая струя. Горение Надежды Сергеевны ее учительством светилось искреннею радостью, которую могут понять лишь те, кто носит в себе светлое желание давать другим свет разума.
Когда Чураевы вечеровали, огонек из их окна даже процеживался сквозь метель, был виден далеко в деревне и привлекал к себе внимание жителей.
К Чураевым и раньше заходили посоветоваться мужики и бабы, а с тех пор, как разожглась война, они стали еще чаще заходить: за новостями из газет, прочесть письмо из действующей армии, а то и написать письмо солдату на войну. Охотно с ними беседовал Василий. Любил им вслух почитать, и они любили его послушать.
И в этот вьюжный вечер на огонек пришло несколько баб, два старика и с ними — куча ребятишек.
Василий читал про разное. Многого не понимали, а слушали с таким вниманием, будто были в церкви. Старики сидели прямо на полу, на кукорках, бабы жались под порогом, ребятишки теснились в уголок, где были собраны все книжки и игрушки Коли и Наташи. Сколько тут было чудес для деревенских ребятишек! Как жарко шептались над картинками из книжек сверстники Коли! Как сладко улыбались говорящим куклам Наташины подружки! Никто из них не слушал чтения и разговоров старших. Для них не существовало ни войны, ни писем с фронта, ни газет с траурным списком убитых, ни пугающих цифр потерь или бодрящих жирных строчек о победах. У них был свой особенный мир, своя война, всегда веселая, крикливая, смешливая в румянящих сугробах. И хорошо, что тесною кучкою они всегда толпились и полусидели над игрушками и книжками и до хрипоты шептались, ссорились, доказывали свои знания и волновались от неожиданных и удивительно простых открытий.
— Горбунок! Гли-и-ка!.. С кошку!..
— Ушастый!.. Как же он на ем?..
— Дыть сила в ем волшебная...
— А самокат!.. Гли-и!..
— А рыба железная... У-ух, ты-и!..
— Это вовсе лодка подводная...
— Поди, тоже сказка?..
— Правда!.. — Коля выступал уже авторитетно, как знаток, и объяснял: — Теперь воюют на таких...
— С китами?
— С человеками!.. Видишь, мины!.. Пароход какой взорвался, тонет.
— Интере-есно!.. — повторял один, выучивший это слово от Наташи.
А Василий в это время стал читать только что полученные письма от Колобова и от Онисима.
От Колобова было два письма в одном конверте, адресованном на имя Василия.
В избе настала почтительная тишина, потому что к письмам как-то всегда было больше уважения и доверия, в письмах что-то каждому звучало близкое и более понятное. Особенно же от солдат, которых знали как людей обыкновенных, но которые теперь далеко, там, воюют, недоступные герои.
— “Золотце мое, моя забава и печаль Лизуня!..” — начал было Василий и запнулся. Лизавета в два прыжка была возле него и, порозовевшая, стыдливо и сердито закричала:
— Ну, это вы уж прекратите!.. Я хоть по складам, да сама сумею прочитать.
И, вырвав письмо, прижала его к сердцу и ждала, пока начнут читать другое.
— “Драгоценный друг и достоуважаемый товарищ Василий Фирсыч!.. От бела лица и до сырой земли посылаю я тебе поклон из лазарета...”
И опять Василий запнулся.
— Ну, чего же вы?.. Продолжайте! — торопила Лизавета, и губы ее задрожали... — Ранен, значит?..
— Если пишет сам, значит не опасно, — успокаивал ее Василий и продолжал читать, явно пропуская строчки. — “И еще кланяюсь я от бела лица и до сырой земли супруге вашей благоверной Надежде Сергеевне и с детками малыми... И еще кланяюсь всем нашим мужикам крещеным до сырой земли и желаю от Господа доброго здравия и в делах рук ваших скорого и счастливого успеха... И еще прошу я вас, други мои верные, не сумлеваться. Рана моя не очень душевередная, и скоро я надеюсь залечиться и опять в ряды передовые за отечество стать, как честному сибирскому солдату полагается...”
Завыла Лизавета... Зашептались бабы, опустили свои бороды старики. Затих шепот ребятишек. И Надежда Сергеевна, отодвинув от себя работу, подставила кисть руки под подбородок и посмотрела крупными глазами куда-то очень далеко, через стену, через воющую где-то в крыше дома вьюгу.
Чтение прекратилось. На одну секунду откуда-то ворвался в избу далекий колокольный звон и близкий долгий волчий вой.
Письмо Онисима Василий прочитал при общей тишине. Это было понятное, простое солдатское письмо, в котором три странички были отведены поклонам и лишь одна, последняя, — для новостей с войны. Но эти скупо излагаемые новости солдатского письма все же рассказали больше, нежели все, только что прочитанное из газет:
— “У боях еще не доводилось побывать, ну, ожидаем с часу на минуту. Сидим в землянках, рыли сами. Ничего, тепло, только соломки маловато для подстилу. Пища подходя... Товарищи из дому белых сухарей и гостинцы получили... И теплые рубахи. Ну, нам неоткуль ждать этово. Марья у меня сама, небось, терпит гегемонию”.
Над гегемонией Василий усмехнулся и, не дочитав письма, остановился. На худом, коричневом от ветров и морозов лице его выступили розовые пятна. Забыв об окружающих, он еще раз прочитал конец письма и никак не мог вместить в себя трех коротеньких, небрежно, после подписи прибавленных строчек мужицкого рукописания:
— “А еще убивалась об тебе девица та сердечная, из Терек-Нора. В Барнауле тебя разыскивала. Я ее перед походом повстречал...”
Пушечным выстрелом прогремели эти строки в голове и в сердце у Василия. Он с виноватой нежностью взглянул на Наденьку. В нем плеснулась к ней теперь особая волна. Тихая, давно покорная во всем, теперь отдавшаяся своему новому делу, Надежда Сергеевна показалась ему столь далекой и вместе столь преображенной, будто это была новая, почти чужая женщина.
Во время чтения газет Надежда Сергеевна исправляла ученические тетрадки и ничего не слышала. Лишь внезапный плач Лизаветы отвлек ее от дела, и вот она увидела теперь этот странный, виновато-жалостливый взгляд Василия.
— Ты что так смотришь? — спросила она просто и улыбнулась новой, тихой улыбкой, в которой теплилось свое.
Василий не мог ответить и, виновато улыбаясь, начал складывать письма и наводить вокруг себя порядок.
Старики и бабы поняли, что надо уходить.
— Ну, эй, вы, пострелята!.. Будя!.. Спать идите!.. Завтра в школе наголгочетесь... Айда!.. Хозяевам надо дать спокой...
И вот настала тишина в избе. Дети скоро улеглись, а Лизавета возле них, в другой избе, при свете керосиновой лампы с тихим и задумчивым волнением читала нежное послание Андрея Саватеича. Умел любить, умел ласкать, умел и выразить свою любовь в словах этот степной богатырь. Будет плакать Лизавета всю ночь и не уснет от счастья и от горести разлуки до утра.
Тихо говорили меж собой Василий и Надежда.
— Нехорошее (?) со мной творится, — вздохнул Василий и рассказал все так, как было с встречами с той девушкою из Монголии, которую он никогда не мог забыть и вытравить из сердца. — Признаться, я боюсь с ней встречаться. Надо мне уйти подальше от всего...
Надежда Сергеевна глубоко вздохнула.
— Я ничему не удивляюсь теперь. И чувствую, что ты опять нас скоро бросишь.
Василий вместо ответа прислушался. Вьюга завывала и вплетала в свои стоны далекие удары колокола и ближние взрывы волчьего воя. По временам казалось, что какая-то стихия плачет или трубит в исполинскую трубу. Трубит и зовет куда-то, трубит и торопит.
Надежда была права. Он не может и не должен здесь оставаться, а должен уходить туда, где Колобов и где Онисим, где Кондратий и где все силы земли.
Он близко заглянул в ее глаза и, увидев в них тревогу, спрятавшуюся под улыбкой новой и еще непрочной радости, сказал:
— Во всяком случае, мне надо уходить на фронт и скорее забыть о недостойных искушениях...
Надежда погасила лампу. В темноте голос ее прозвучал с покорной безнадежностью:
— Я знаю, что твоя любовь ко мне давно сгорела.
Василий не успел ответить, так как перед не прикрытым ставнею окном на белизне снега вырисовалась одинокая фигура полусогнутого в холоде и одетого в жалкую, треплемую бурей шинелёшку австрийского солдата.
— Пленный! — сказал Василий.
У Надежды почему-то вдруг остановилось сердце. Она не стала раздеваться и ждала.
В это время по стеклу окна раздался робкий стук закоченевшею, негнущейся рукой.
— Надо впустить! — сказал Василий и пошел открывать.
Надежда Сергеевна, не зажигая света, притворила двери в сени, куда Василий, еле вспоминая некоторые немецкие слова, вводил из крытого двора пленного солдата. Пленный вместо ответа только стонал и, стуча зубами, гнулся от мороза и стучал по полу обледенелыми окованными сплошным гвоздем подошвами солдатских ботинок.
Надежда поспешно засветила лампу. Голова пленного была закутана слипшимся ото льда и снега башлыком, и только крупные глаза блестели бегло и с мольбой к Василию и вновь потухли в тени глубокого козырька австрийской шапки.
Чураевы стояли и смотрели на огромного, сгорбленного и молчаливо жавшегося в угол у двери пленного солдата и в первую минуту не знали, что с ним делать, что ему сказать.
Надежда Сергеевне знала немецкий язык немного лучше и заговорила с пленным:
— Wer sind Sie? Wie sind Sie hierher gekommen? (Кто вы? Как вы сюда пришли?)
Глаза его опять блеснули. Он показал на уши и язык и помаячил, что не слышит и не может говорить.
— Очевидно, контужен и отравлен газами, — сказал Василий и хотел помочь солдату снять башлык и шинель, но солдат испуганно попятился и скрюченной закоченевшею рукою отмахнулся.
И как был, с льдинками в бровях и в плохо выбритых усах, так и сел в углу, у самого порога, опустив голову и полузакрыв усталые глаза.
— Sind Sie hungrig? (Вы голодны?)
Солдат не отвечал, только опять блеснул мольбой в глазах.
— Надо покормить его... — сказала Наденька.
— Конечно... И дать ему подушку, что ли, и какой-нибудь зипун. Пусть здесь ночует. Завтра выясним, что с ним дальше делать...
Австриец сидел неподвижно и, казалось, сидя сразу заснул в тепле избы. Только руки его дрожали и постукивали стылыми, как деревяшки, пальцами.
Ел и пил солдат как будто нехотя, в угоду лишь хозяевам и не снимал ни башлыка, ни шапки. Чураевы всю ночь не спали. Только на рассвете задремали и проспали оба до восхода солнца.
Их разбудила Лизавета и испуганно и вместе с тем улыбаясь сообщила:
— Вы, што ли, австрияка ночью запустили? Чуть свет в ограде снег огребает... В заводе печку затопил... Работник хоть куда. Покормить его?
— Ну, конечно, покормите!
Василий быстро оделся и вышел в заснеженный двор.
Австриец разметал дорожки и, увидав хозяина, опять уткнул лицо в башлык, и из глаз его блеснула та же скорбная мольба и вновь потухла в низком поклоне головы к метле.
Василий приветливо сказал:
— Guten morgen! (Доброе утро!)
Он был доволен пленным. Пришел работник в дом как раз в то время, когда он сам решил его покинуть. Все происходит не случайно.
Прошло еще две ночи и три дня. Пленный поселился в бане и не хотел входить в избу. Работал за троих и удивлял своим трудолюбием даже детей. На четвертый вечер, вскоре после сумерек, Василий объявил жене и Лизавете о своем решении немедленно отправиться на фронт. Почти в эту же минуту у ворот послышались колокольцы. Колокольцы в Сибири всегда приносят только два противоположных чувства: либо радость — свадьба, дорогие гости, масленичное катанье. Либо тревогу и печаль: приехало начальство, обыск, арест, кандалы...
Нежданно и негаданно из теплого возка выпрыгнул помощник исправника Шестков, в новой, солдатского сукна, шинели и черной, текинского барашка, папахе. Он был очень вежлив, но поспешен в движениях и вопросы его показались очень странными.
— Когда вы приютили пленного австрийца?
— Дня три назад.
— Заявили властям?
— Не успели, но не скрывали...
— Где он сейчас у вас находится?
— Сию минуту позову...
Василий вышел во двор, заглянул в баню, зашел в маслодельный завод. Пленного нигде не оказалось.
Лизавета выбежала из дома и тревожно зашептала:
— Ботинки-то австрийские в сенях... А старых валенок наших, в чем я коров дою, нету!..
Во двор поспешно вышел и помощник исправника.
— Будьте добры, поскорее. Как? Ушел?!
Он свистнул в полицейский свисток. Из повозки прибежали двое стражников. По знаку начальника один быстро пошел вокруг усадьбы, другой, вместе с Шестковым, стал искать на сеновале, в бане, всюду, где было темно и глухо. Нигде австрийца не было... И не было следов на снегу.
— У вас есть лошадь?
— Даже две, — сказал Василий.
— Где же она?
Василий увидал в хлеву только одну. Гнедчика не было.
Стали искать по следам Гнедчика, но следы его дошли до водопоя и пропали.
Сумерки сгустились и помешали розыскам.
Было очень странно все, и трепетно, и молчаливо.
Шестков вошел в дом, присел к столу и что-то долго писал, изредка спрашивая о внешности австрийца и о подробностях его одежды, а главное о том, что говорил он и на каком языке.
Когда Василий объяснил, что пленный был глухонемым, Шестков даже привстал и снова сел, записывая все подробно. Потом взглянул на Надежду Сергеевну, сочувственно вздохнул и скромным тенорком пропел, обращаясь к Василию:
— Ну, делать нечего... Оденьтесь потеплее, пожалуйста... Я должен вас арестовать.
— Меня? — тихо удивился Василий.
— Да, да, именно вас... Вам придется пока проехаться до Барнаула... А между тем, быть может, мы найдем этого австрийца... Тогда, быть может, вас освободят. Если, конечно, вы докажете, что действительно не знали, кого вы скрыли.
Надежда Сергеевна затрепетала и ни слова не могла произнести. Что-то понял и Василий. Он одевался медленно и как-то неумело. И не прощаясь ни с женою, ни с детьми, принужденно улыбнулся Лизавете и сказал:
— Теперь уж вы тут помогите... Наверное, все это быстро выяснится...
Помощник исправника учтиво поклонился Надежде Сергеевне и дал Василию дорогу впереди себя.
Наденька, ошеломленная, точно глухая и незрячая, стояла у окна и видела черное на белом: силуэт темного, заиндевелого волка. Потом услышала, как звякнули колокольцы и заскрипел снег под полозьями тяжелого возка, и снова все в глазах смешалось в красно-желтое пятно. Далекой, призрачно-печальной песней утонули в снежном поле колокольчики. И подбежав к матери, дети наперебой спрашивали с робкою тревогой:
— Куда это папочка уехал? На войну?
Надежда Сергеевна вспомнила о детях и очнулась, обняла их и, удерживая крик рыданий, прошептала:
— Не знаю, милые... Ничего не знаю!..
Шестков в возке был очень любезен. Предложил Василию папиросу и потом сконфузился:
— Ах, я забыл, что вы не из курящих.
Он просто сообщил ему о бунте каторжан, о бегстве в их числе и Викула Чураева и о том, как каторжане ловко соблазнили группу пленных переодеться в их одежду и бежать из плена.
— Конечно, их поймали и выпороли на первом же этапе. А из каторжан поймали только четырех... В Сибири двести тысяч пленных, и половина у крестьян в работниках — не угодно ли всех разыскать и опросить и среди них найти пятнадцать каторжан!..
Теперь Василий понял все. Понял и прислушивался к сердцу и душе своей. Хотел уйти на фронт, хотел уйти от искушений, от семьи, от Наденьки и от земли, а вот, выходит, прежде всего, надо брата заменить на каторге...
Точно угадывая его мысли, Шестков терзал его своей любезной болтовней:
— А помните, как на суде в Березовке, когда вы защищали этих хулиганов... Помните, как вы тогда сказали, что не брату вашему, а вам бы быть на каторге... Вы видите: желание ваше исполняется... В Индии об этом, кажется, имеется особая наука. Ведь вы, наверное, с нею знакомились? Как она, теософией называется, что ли?
Так как Василий не ответил, и так как скрип полозьев и колокольчики мешали слушать, то Шестков повысил голос и склонился к самому лицу Василия.
— На днях, проездом из Монголии, у нас Баранов останавливался... Знаете, известный путешественник?.. Моя жена ему племянницей приходится... Так вот он нам рассказывал, вы знаете, замечательные вещи о тибетских мудрецах... Между прочим, и о вас разговорились. Он, оказывается, отлично знает вас...
Василий слушал и не слушал. Откинувшись в угол возка и закрыв глаза, он не мог справиться с клубком, который подступил к его горлу и душил, как чья-то страшная, неумолимая, костлявая рука.
Казалось, что от тела его отделилось то, что называется душой, сознанием и сердцем вместе. Он видел, как распластана, повергнута в прах и истекала не земною, не физическою кровью вся душа его в преддверии неведомого завтрашнего дня. И все-таки за всеми скорбями, за всей нелепицей свершившегося перед ним встал, сверкая, все озаряющий свет, в существовании которого Василий только и искал спасения и смысла человеческих жертв...
Моля судьбу о том, чтобы брат Викул был воистину спасен и награжден за все свои страдания, Василий Чураев мужественно шел навстречу новой своей казни.