ТРУБНЫЙ ГЛАС
ГЛАВА ПЯТАЯ
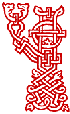 ерез полутемное и узкое окошко тюремной камеры можно было видеть небольшой кусочек реки, но для этого надо стать на нары и на коленях проползти мимо больного и сквернословного Игнахи Бондаря. У него от многолетнего ношения кандалов и от застарелой дурной болезни были в гнойных струпьях ноги.
ерез полутемное и узкое окошко тюремной камеры можно было видеть небольшой кусочек реки, но для этого надо стать на нары и на коленях проползти мимо больного и сквернословного Игнахи Бондаря. У него от многолетнего ношения кандалов и от застарелой дурной болезни были в гнойных струпьях ноги.
День и ночь его кандалы позванивали. Это значило, что он постоянно возился с ногами. Бинтовал и разбинтовывал их грязными, засаленными ртутной мазью тряпками. И часами ковырял желто-багровые язвы крупными отросшими ногтями. При этом все время ругался и ворчал хриплым бороздящим басом. Бороду он брил в субботу, перед баней, когда во двор тюрьмы приходили с воли фельдшер и цирюльник. Арестантам бритвы в камере не полагалось, а цирюльник брил наскоро и плохо — так что к пятнице борода была опять как слой присохшей, черно-синей грязи. Поэтому и на лицо Бондарь был безобразен.
Рядом с Бондарем сидел Гавря Шлеин, старый солдат, лысый, малоносый, с белыми бровями. Он постоянно сапожничал и потихоньку напевал. А рядом с ним лежал Беспятов, молодой детина, увалень и прирожденный конокрад. Он беспечно подпевал или подсвистывал Шлеину, изредка вставлял какую-нибудь шутку, звучный вздох или, прервавши песню, напевным голосом рассказывал что-либо собственного сочинения. Подле Беспятова еще был обитатель камеры, но он на днях скончался от удушья. Кашлял день и ночь, более года беспокоил всех и выводил из себя Игнаху Бондаря. Теперь все оставшиеся облегченно вздохнули: спать стало непривычно тихо и подчас даже тоскливо.
И песни Шлеина никто больше, кроме Беспятова, не прерывал. Любил он больше всех про “жаворонка” петь. Нежным задушевным тенорком он выводил:
Ты воспой, воспой, эх, жавороночек,
На проталинке да на завалинке.
Беспятов тоже любил эту песню и подхватывал поспешно басом:
Ты подай голос через темный лес.
А потом засвищет тоньше и нежнее Шлеина грустно-ласковым, как женский голос, посвистом, и песня слезной болью проникает в сердце тех, кто сам ее не пел, а только слушал.
Вот в эти-то минуты, когда даже Бондарь безмолвствовал и забывал о своей вечной злобе, Викул Чураев тихо проползал мимо него на четвереньках к узкому окошечку, и его худой лохматый профиль отпечатывался на далеком кусочке синей реки.
Никогда еще не была так глубока печаль и так отчетливы думы Викула, как в эти месяцы после тягостного и в то же время светлого свидания с братом и с Надеждой. Не осталось в нем никакой обиды на Андрея Колобова, выдавшего его начальству. Напротив, он не мог забыть, как в волости Андрей Саватеич покривил душой на пользу Викула:
— “Сдаю вам беглеца несчастного, сам пожелал на каторгу опять отдаться... Не поглянулась ему наша воля”.
Так и пометили в бумаге, что вернулся сам. Поэтому и бить нигде не били и держали в Бийском остроге до суда... Пошлют ли снова в Нерчинск, в шахты или в Акатуй, Викул не знал, но оттого, что находился вблизи от Алтая и краем глаза мог изредка видеть плоские предгорья, сердце его наполнилось трепетной надеждой — может быть, оставят здесь до окончания срока. Пусть за побег прибавят, пускай даже заставят жить с этими прошедшими огонь и воду каторжанами, но только бы не отрывали от этого окошечка с кусочком вольной голубой реки...
Там сидел, сидел добрый молодец,
Он не год сидел и не два года, -
Он сидел — сидел ровно десять лет...
Прерывая песню, Беспятов с затаенной завистью сказал:
— Эх, ребята, а на воле-то — война!..
Все помолчали. Игнаха выругался и спросил угрюмо:
— А што ж она тебе война – сударка, што ли?
Игнахе Бондарю вместо Беспятова ответил Шлеин:
— Сударка не сударка, а все ж таки даже смерть на воле сполитишнее.
У Викула Чураева вздрогнула бровь. На бледно-матовом лице, кротком и прозрачном, густые брови его были особенно черны. Желтоватою рукою цвета слоновой кости он часто сучил и вытягивал отдельные пряди волос, отчего его прежде красивая борода теперь стала редкой, длинной и неровной. Он хотел что-то сказать, но голос от долгого молчания не повиновался. Викул прокашлялся и повернул лицо к Беспятову, который как раз высказывал его думу:
— А што, ежели, братцы, прошением к государю дойти: так и так, ваше царское величество, желаем, дескать, искупить вину свою на честном поле битвы, честными костями полечь.
Было это сказано так складно, задушевно и волнительно, что все примолкли, и каждый слушал свою душу: как она на это отзовется? И даже злобная душа Игнахи Бондаря взыграла радостью:
— А я б, не только што... Ежели бы не моя болесь, — я б зубами стены этыи прогрыз, а только бы не стал тут гнить, раз там, на воле, весь народ на ополчение встал!..
Шлеин даже стукнул старым сапогом об нары — выбросил из рук работу, с которой никогда не расставался:
— А што, ребятушки! Беспятый дело говорит...
Беспятов уже сел, потом поднялся на колени, и могучая его фигура выбросила кверху два огромных кулака:
— Обязаны нас на такое дело отпустить! А не отпустют — я зачну мутить “головку...” По всем острогам “блох” пошлю!
Долгое молчание утвердило заговор, и с этой именно минуты конокрад Беспятов стал серьезным, уважаемым, всесильным повелителем для арестантов.
Викул даже позабыл о манящем светлом пятне реки, перешагнул через больные ноги Бондаря и, притронувшись к плечу Беспятова, неверным пересохшим голосом промолвил:
— Просьбу государю мы составим сами... Я составлю!
— Вот! — азартно подтвердил Беспятов.
— Не пропустют фараоны разные... — протянул из своего угла Игнаха.
— Не пропустют — дак слыхом дойдет... Блохой-то мы и пустим эту просьбу, — выкатив глаза, придушенным голосом прибавил Шлеин.
— Всю каторгу подымем! — подпрыгнул на ноги Беспятов.
* * *
Викул третий день сидел на своем месте и впервые в жизни изыскивал и подбирал самые значительные, сильные и слезные слова для просьбы государю. Впервые в жизни для него были неоценимым достоянием добытые Беспятовым клочок бумаги и огрызок старого карандаша. Не спал три ночи напролет. Беспокойно поворачивался с боку на бок и много раз припадал всем животом и грудью к доскам нар, и пряди бороды его бродили и шуршали по измятому листу бумаги. Позванивали цепи и будили остальных, и те ворочались и, отвечая тем же звоном кандалов, вздыхали и молча терпеливо ожидали.
Наконец в глубокую полночь Викул разбудил товарищей и при тусклом ночнике, когда вся тюрьма была объята мертвой тишиной, тихо и торжественно сказал:
— Ну, братики, читать зачнем!
Все четверо, чтобы не греметь цепями, ползком придвинулись на нарах друг к другу и, лежа на животах, окружили место, куда из окна падал слабый лунный свет. Лица всех были обращены книзу, а широко открытые глаза смотрели исподлобья вперед, на мелко исписанный лист. Светотени падали на лица арестантов так, что никого нельзя было узнать. Глаза стали горящими, большими, ждущими, а на щеках, где были впадины от худобы, застыли темные черты, как у иконописных подвижников.
Викул долго не мог начать чтение. Прокашливался, сучил и расправлял пряди бороды, а при первом слове захлебнулся и голос его, вздрогнув, сразу оборвался.
И когда он произнес и, поперхнувшись, повторил три начальных слова, — слезы затуманили его глаза, а самый злой, самый несчастный бессрочный каторжанин Игнаха Бондарь накуксился и начал всхлипывать.
Судорожно дернул локтем Шлеин, и громыхнула жалобою цепь его — украдкой и торопливо вытирал он рукавом рубахи, часто моргавшие глаза. Лишь Беспятов, вдруг утративший обычную беспечность, угрюмо ждал и, придавив собою собственные цепи, проворчал нетерпеливо:
— Ну, будя!.. Бабы! Не мешать!
Викул Чураев тоже замер, сидя, чтобы ни одно кольцо его цепей не звякнуло. Выпрямив шею, подавил непослушную хрипоту голоса и начал снова, срываясь с шепота на придушенные взвизги:
— “Государь наш батюшка! Не прикажи казнить, прикажи выслушать виновников бесталанных, заблудших во грехе детей твоих, от лица арестантов, заключенных во всея Руси...”
— Вот! — не утерпел и стукнул об пол кулаком Беспятов. — Это правильно: “От лица арестантов, заключенных во всея Руси...”
— Понятно, надо от всего лица несчастной каторги, — одобрил Шлеин. — Тогда лучше до сердца дойдет.
— Да не мешайте! — рыкнул Игнаха, сразу крепко и навсегда уверовавший в лад и правильность прошения.
Викул снова повторил прочитанное, на этот раз по-новому: напевно и медлительно читая каждое слово.
— “А припадаем мы к твоим царским стопам и слезно молим мы тебя, наш великий государь-отец: помилуй и прости ты наши все великие вины перед тобой и перед каждым человеком, коему мы учинили смертную обиду... И желаем мы, великий государь, честными костями полечь на поле брани за веру, царя и отечество... И желаем искупить тем наши грехи и преступления перед всем православным миром”.
— Вот! — опять утвердил стуком кулака Беспятов и, звякнув кандалами, горячо схватил за руку Чураева. — Погоди! Надо, чтобы, окромя того, в просьбе стояло, што мы предаемся в руки и на помощь всему народу — ополчению!..
Цепи Викула ответно зазвенели робкой рассыпчатой трелью. Отстраняя руку Беспятова, он улыбнулся улыбкой ранее узнавшего общую думу и, успокаивая слушателей поднятою бледно-желтою рукою, продолжал читать:
— “Погибаем мы и прозябаем в темных тюрьмах и в острогах каторжных, без всякой пользы истекает наше сердце в злой тоске-кручине, без всякого последствия исходит наша сила... И желаем мы всю нашу кровь и душу принести на пользу трудящему и ополченному христианскому народу”.
— Вот! – опять, как печатью, стукнул кулаком об пол Беспятов, но звон цепей заставил его снова укротить себя.
— “Пошли же нас, великий государь-отец на верную и неминучую смерть, и хоть заставишь нас в цепях служить тебе, мы голодом и холодом готовы жисть отдать и умереть с народом верою и правдою”.
Заканчивалась просьба великим земным поклоном от лица всей каторги и до сырой земли, и тяжким стоном прозвучали заключительные слезные слова:
— “Государь наш батюшка! Внемли гласу мольбы нашей, прости, помилуй и пожалей нас смертью непостыдной!”
Глубокое и долгое молчание было ответом на последние слова. Каждый принял их всем сердцем, с радостной готовностью принять любую смерть. Но каждый был придавлен каменной стеной сомненья: возможно ли такое счастье — смерть непостыдная для каторжанина, смерть доброхотная, на воле, на зеленом поле и под вольным солнцем, смерть храбрая, примерная, за веру, за царя и за отечество?
В минуты этого молчания решительней и беспощадней всех поняли и осудили всю постыдность смерти здесь, в тюрьме, Чураев Викул и Беспятов. Со всею силой бесповоротного упрямства, как непреложное решение судьбы, каждый из них жаждал смерти: один во имя подвига и духа свята, другой — по зову буйной богатырской крови. Значит, всякие слова были уже излишни. И лишь глаза у всех горели новыми огнями, и, обжигая ими друг друга, узники не знали, как унять сердца, вспыхнувшие неуемным пламенем.
* * *
Невидимо и быстро, в несколько ночей, невидимые огненные блохи обскакали многие остроги, искрами обсыпали и подожгли сердца и думы тысяч узников. Стены тюрем изнутри перекалились докрасна.
В утренние и дневные и вечерние часы, когда раздавали пищу или труд — не пищу ждали и не труд, который для невольника желанней пищи, а какой-то новой вести, всех волнующей и всеми жадно ожидаемой. Наперебой, с непривычной лестью допрашивали скупых на слово тюремщиков, и все же вместе с подзатыльниками получали краткие и часто непонятные ответы, из которых сами по-своему отбирали зерна истины.
И как только с желанным визгом захлопывались тяжелые засовы камер, невольники, как тигры в клетках, начинали биться и рычать:
— Фар-раоны, пр-родают Р-рассею!..
И непрерывно льющейся железной жуткой песнею в звон кандалов вплеталось это низовое, хриплое, октавистое арестантское рычание:
— Катор-ргу бы выпустили — мы зубами бы всю немчур-ру загр-рызли...
— А чер-рта ли тер-рять нам?..
— Ежели бы пр-росьба наша дошла до р-рук цар-ря!.. Да фар-раоны пр-роклятые! Пр-равду пр-ридушили...
Временами этот рык переходил в стальную лихорадку. Казалось, что остроги начинали стучать каменно-железными зубами и дрожать (?)_ жуткой дрожью все нараставшего негодования и нетерпения.
Жгучая обида, желчь и злоба накоплялись, вспыхивали и раскаленным свинцом вливались в жилы, перекидывались тяжелой судорогой в кулаки, а кулаки сами собой искали ребер — все равно: врага или товарища.
После минутного спора, после невольного толчка вспыхивали драки среди арестантов, которые мирились меж собою лишь после клятв: взаимно отомстить какому-то иному, настоящему виновнику обид... Вспыхивали целые побоища возле обеденных котлов, у бань, в тюремных храмах и больницах... взаимные побоища переходили в бунты против тюремной стражи и администрации. А бунты подавлялись страшными неумолимыми расправами.
Но вновь бессонными ночами приглушенный кандальным звоном шипел живучий шепот, обсуждалась убыль из рядов головки, предлагались новые бесстрашные, находчивые планы и находились их вершители, готовые на все... Еще крепче стискивались зубы, и глаза горели новыми, зелено-ядовитыми огнями и далее уже безмолвно накоплялся жуткий и неумолимый замысел о мщении.
Даже тихий и беззлобный Викул кровью сердца начертал в себе глухую клятву:
— “За правое, за божье дело — за народ умру! А гнить в остроге не останусь!..”
И даже цепи на нем перестали звенеть, а лишь робко похрустывали, точно кольца их ломались или наполнялись тайною немого заговора каторжан.
... Как пороховые погреба, оберегались тюрьмы. Запрещены были свидания с близкими, сократился выпуск на работы. Вовсе прекратились длительные пересылки партий. Усилилась тюремная стража. И стража пополнялась не новыми, неопытными или ненадежными солдатами из ополчения, а лучшими из кадровых частей. Начальниками назначались опытные офицеры, показавшие себя в подавлении недавних пьяных бунтов и считающие охрану тыла более опасной службой, нежели участие в боях.
Страх перед острожною опасностью не давал покоя многим сибирским комендантам и градоначальникам, ибо только они да начальники тюрем понимали, сколько за безгласными стенами тюремных оград накоплено веками злобы и отчаянья.
К тому же у начальства повсеместно открывался новый, еще более опасный, нежели остроги, бабий фронт... Лишенные хозяев и мужей, сыновей и братьев, бабы быстро захватили в свои руки всю команду жизнью и, подкрепленные пособием, почуявшие свою волю, начинали только требовать, но ничего и никому не уступать.
— А с нас чего взять?.. Мы слезами умываемся, горькими слезами сирот своих горе горьких поим...
И бабы требовали, плакали, кричали, лезли в драку, ничего и никого не признавали. И тронуть их было нельзя — от их благополучия зависел успех на фронте...
А между тем время летело, и события сплетались в путаную, узловатую мережу. Серые ненасытные дни осени сменились днями белыми, во вьюгах пушистого снега, в блистательном свете зимнего солнца... Дни бежали быстро, ровные, прямые, серые, точные, как телеграфные столбы по сибирским трактовым дорогам.
Уже успели многие ушедшие полечь костями в болотах Пинских, в Восточной Пруссии и под Варшавой.
Первыми осколками кровавых столкновений уже разбрызнулись по всем просторам русских земель десятки тысяч раненых... Вместе с ранеными, удивляя население чистотой обмундировки и приветливо-миролюбивым видом, появились на полях Сибири первые пленные австрийцы. Стройными рядами ротами, батальонами и целыми полками они шли по немощеным пыльным улицам губернских и уездных городов. Синие шинели и клинообразные фуражки часто непрерывной лентою часы и дни тянулись, как будто на смену серым, плотным и пахучим русским войскам, вооруженным для далекого похода.
Население еще боялось человеческого чувства к чужим, но невредные враги уже внедрялись в жизнь. Где-то военнопленные уже понравились своей работой в крестьянских семьях. Где-то на концертах в пользу раненных пленные словаки очаровывали хорошими песнями. И кое-где тонко воспитанные доктора, художники и композиторы из Австрии входили запросто в хорошие дома, и было странно видеть трогательные и робкие пожатия рук русских и австрийских офицеров при прощании: одни должны были надолго оставаться в засугробленной Сибири, другие уходили покорять их родину и там найти взаимное гостеприимство плена или братскую могилу где-нибудь в суглинистой земле Галиции.
Быстро отличился в первые же месяцы Виктор Стуков. Легко контуженный, он эвакуировался на два месяца для поправления здоровья. В Иркутске его встретили с почетным шумом как одного из первых победителей. Просто помирилась с ним покинутая Тася. Восторженно, недели две, она висела у него на шее, пока ее чрезмерная любовь и нежные упреки опять не навели их на воспоминание о брачном путешествии в Монголию. И еще острее вспоминал Виктор о “монгольской дуре”, которую не удалось заставить стать его покорной рабыней. Еще острее захотелось снова разыскать ее и победить. Был в ней какой-то яд пленительный и незабвенный.
Еще до истечения срока отпуска, воспользовавшись связями Торцова, Виктор получил командировку на Алтай для закупки лошадей для армии. Но Тася захотела быть до смерти неразлучной с мужем и решила всюду за ним следовать. Чутьем ревнивицы почуяла и не отстала, а в утомительном путешествии на лошадях совсем измучила его своей заботой и любовью. Когда они попали в Бийск, Виктор не стерпел, напился и, грубо оскорбив жену, уехал из гостиницы. И в этот же вечер вместе с незнакомым офицером попал на именины к коменданту города.
Светский петербуржец и кавалерист, с новеньким Георгием в петлице, он сразу стал героем вечеринки. Под улыбками хорошеньких батальонных дам он разошелся, стал острить, рассказывая смешные эпизоды из походной жизни, и обратил на себя внимание коменданта.
И вот здесь-то, в облаках табачного дыма, в звоне посуды, Стуков краем уха уловил: “Чураев”. Он не обратил внимания, по какому поводу и кто упомянул это имя, но оно ударило в его кровь, как сильный яд. И странно, что попутно с этим именем вспыхнуло обидное недавнее воспоминание. Случайно разыскал он в Петербурге Гутю и с брезгливой подозрительностью оглядел ее маленькую комнатку. Она стояла перед ним, растерянная и чужая и не хотела открыть дверь. Тих был, но решителен ее ответ:
— “Пожалел меня только один тот человек тогда, а вы не пожалели... раздавили и уехали!..”
— “Да, да, конечно же, она принадлежала тому человеку первому, как могла принадлежать всякому проезжему!.. — подумал теперь Стуков. — Но почему же все-таки она не захотела вновь принадлежать мне?.. Чем особенным пленил ее этот бородатый проходимец?”
И только тут раскрыл глаза от изумления, слушая рассказы о только что раскрытом заговоре каторжан.
— Как же-с?.. — с прищуренной улыбкой протянул сам комендант. — Чураев был одним из главных... Слезное прошение на высочайшее имя рассылал по тюрьмам... Лиса бывалая, подлец! — он оживился, поощренный общим вниманием к его рассказу. — Нет, вы подумайте, как только был продуман план!.. Ведь каторжане никогда не убегают зимой... Каторжане бегут весной и летом, зная, что тайга их укроет и накормит... А тут решили даже не бежать, а оставаться в городе...
— Каким образом?.. — спросил Стуков, выражая любопытство всей компании.
— А вот каким: перебить всю стражу и администрацию, переодеть головку в солдатскую одежду, а остальных — пленными австрийцами и таким манером разыграть, что можно... Конечно, это им не удалось, но уверяю вас, могли оскандалить нас, а может быть, и перебить... Скрыть следы побега, во всяком случае, могли.
В это время в кабинете коменданта раздался телефонный звонок. С широкою улыбкой выпившего и довольного гостями человека он ушел в свой кабинет... И тотчас же оттуда все услышали его внезапный громкий, с провизгами, крик:
— Что?.. Да вы с ума сошли!.. Какое у меня войско!? И разве можно ополченцев посылать на это дело?.. Что?.. Оцепите пока тех, которые остались!..
Среди дам прошелестел испуганный шепот.
В квартире наступила тишина. Комендант вышел побледневший, тяжело дышащий, лоб покрыт испариной. Все смотрели на него и ждали. Дрожащею рукою он достал папиросу, не сразу закурил и, пыхнув дымом, схватился за голову.
— Позор!.. Позор!..
— А что такое?.. Что случилось?..
Дамы, офицеры, гости окружили коменданта, как больного.
— Ах, позвольте, господа!.. Это ужасно!.. Вся головка — девятнадцать главных каторжников — убежали! — и, раздвинув круг гостей, он вновь поспешным шагом пошел к телефону.
— Поднять всю стражу! Конными оцепить казначейство и другие учреждения... Что?.. Кто взбунтовались? Оставшиеся? Подожгли?.. Тогда никакой пощады! Перестаньте, капитан, миндальничать! Не сметь тушить пожара! Пусть эта сволочь вся дотла сгорает... Что? Именем его величества! Приказываю, да!..
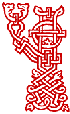 ерез полутемное и узкое окошко тюремной камеры можно было видеть небольшой кусочек реки, но для этого надо стать на нары и на коленях проползти мимо больного и сквернословного Игнахи Бондаря. У него от многолетнего ношения кандалов и от застарелой дурной болезни были в гнойных струпьях ноги.
ерез полутемное и узкое окошко тюремной камеры можно было видеть небольшой кусочек реки, но для этого надо стать на нары и на коленях проползти мимо больного и сквернословного Игнахи Бондаря. У него от многолетнего ношения кандалов и от застарелой дурной болезни были в гнойных струпьях ноги.