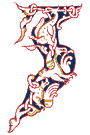 азвенели колокольчики по большим дорогам.
азвенели колокольчики по большим дорогам.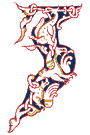 азвенели колокольчики по большим дорогам.
азвенели колокольчики по большим дорогам.
Каждый день и каждый час по всем просторам сибирских степей, лесов и горных долин неслись куда-то маленькие, хмурые, серьезные сибирские лошадки.
Тарахтели легкие дрожки — парами и в одиночку. Дребезжали старые изъезженные тарантасы — тройками и четверками по грязным луговым дорогам. В стороны от трактов всякий час скакали всюду нарочные на оседланных и неоседланных конях. Старый зипун, истертый половик, истрепанное пестренькое одеяло – все, что попадется, заменяло подседельники и седла. Лишь бы поскорее пасть на лошадь и разнести все дальше, разнести все шире все одну и ту же весть, сеющую молчаливое недоуменье:
— Война, братцы!.. Война объявлена.
А по степным проселкам, по заимочным тропам и по глухим таежным промысловым бездорожьям ускоряли шаги все пешие, безлошадные люди, успевшие в труде за хлеб насущный позабыть военный шаг и строгости солдатского устава. Каждый из них где-то был на промысле. Искал ли в тайге самородное золото, ловил ли рыбу или промышлял зверя, был ли на полевой или лесорубной работе, плавал ли по рекам на плотах, был ли грузчиком на пристанях,на веселой погулянке у друзей или даже в тайной партии разбойников с больших дорог — всё едино, каждый прежде всего поспешал к родному дому или к близким людям, к временному очагу или к той опорной точке жизни, где можно было лучше и вернее разузнать: правда ли все то, что строго и не совсем понятно было сказано в приказах волостных старшин, в оглашениях сельских старост или не всегда толковых нарочных. И если правда, то как бы, прежде всего, досконально услыхать, касается ли она всех задетых за живое, стронутых с работы, выбитых внезапно из оглобель мирного труда.
Еще не поняли, но сердцем угадали бабы долгую разлуку.
— Обождите, бабы, плакать... Может, это не касаемо...
— Понятно, што не всех касаемо.
— А может, это только испытание, как о прошлом годе... Свозят в город, промаршируем там недели две, да и отпустят по домам...
— Там касаемо али не касаемо, а все-таки для прочищения солдатского сдогаду — где тут, братцы, винополия?
— На этот бы случай по чарочке за счет казны...
— А што ж, мы ведь теперь казенные, и она, мать, казенная...
— А ну-ка, разузнать ба у кого, кто потолковей... Эй, Нефедыч, водки хошь?
— А кто, где подают?
— Тебе-то даже с честью поднести должны: ты старший унтер...
— Нефедыч не прольет!
— Пойдем у целовальника попросим...
— Ну, целовальник здесь што твой исправник... Из учителей, должно, ажно в очках сидит, как богдыхан.
— А што, рази очки ему нельзя сшибить?.. Мы кровь идем проливать, а он нам по стакану водки не подаст. Айдате!..
Вначале как будто шутя и мирно, весело смеются, балагурят, — а как увидели, что монополия закрыта и у дверей ее толпа стоит, так тут же один крикнул, а другие подхватили:
— Эй, слышь, ребятушки! Они не токмо от казны подать, они за деньги не дают.
— А вот пойти как с заднего крыльца да взять его за самое щекотливое место...
— Какое!.. К нему стучали уж — со всей семьей куда-то скрылся.
— Вот оно, какое дело!.. Это значит, он стакнулся с волостным... Вот ведь кровопийцы, сукины дети...
Толпа росла и накалялась и ждала какого-либо смелого словечка. И словечко вспыхнуло не очень ярко и не громко: как спичка, запалило сперва маленькое, чуть колеблемое пламя:
— А што, ежели, братцы, своего целовальника избрать?
Двое-трое уже мерили глазами дверь и окна, присматривая по сторонам что-либо тяжелое. Как будто для этого случая лет семь лежало длинное бревно напротив, у мужицкого амбара...
Кто-то подбодрил шуткой:
— А ну-ка, братцы, берись за дело!..
Из толпы сурово выступили смельчаки и крикнули другим:
— Берись, берись дружней, чего робеть-то!..
Бревно, как легкое копье, взлетело над толпой, разрезало ее, потом соединило.
— Ха-ха! Вот это ловко... Штурмом. Азь-два!
Бревно ударилось в крыльцо, несмело боднуло дверь.
—
А ну-ка заводи, ребята, песню!И кто-то, все еще шутя, несмелым тенорком запел:
Да на-аш хозяин не прикащик,
По-олведра вина притащит...
И вдруг десятки голосов взревели бурей:
Да э-э-гей, дубинушка, ухнем!
Да ге-ей, зеленая, сама пойдет.
Поднятое на десятках рук бревно качнулось раз и два, а в третий раз — со всей силой тупым концом грохнулось в дверь. Но оттого, что крепко запертая дверь не подалась, мужики как бы обиделись и напрягли все силы. С нарастающим азартом все дружнее, в такт ударов, поднимали песню, вовлекая в развеселую забаву всю толпу.
Сама пойдет! Сама пойдет!..
Идет — нейдет — подсобим!
Да у-у-ухнем!..
Но как только дверь подалась и треснули запоры, все внезапно оробели, стали препираться.
— Ну, идите! Што хлюздите?.. — кричали из толпы, а сами прятались за спины других.
Трезвый разум все еще цеплялся за порядок:
— Ну, кто тут старший? Изберите старшого, штобы все чин по чину.
Но старшие, и среди них Нефедыч, давно уже куда-то отошли... А это только раздразнило:
— Эка, трусы окаянные!.. Подстрекать дак тут и были, а как дело — дак в кусты...
И нашлись опять советчики.
— А што нам старшие! Мы и сами порядок установим... Эй, Ивойло, ты кашеваром был на промыслах: иди становись за целовальника... Надо, штоб очередь была, а то народ шальной: сразу бестолочь такую разведут — не прочихаешься...
— А ты смелый на язык, дак и иди вперед!..
— А што ты думаешь!.. — шатаясь, выступил нетерпеливый коновод.
За ним — другой и третий.
— Какая там очередь? Тут до ночи простоишь из-за стакана.
— Понятное дело — выдавай всем по бутылке, всяк пойдет к себе, и мирно, благородно...
Но страх ли, трезвые ли головы — опять остановили.
Все сторонники порядка и степенности, один по одному, украдкой отошли и спрятались в ближайший переулок, от греха подальше... И это накалило и взорвало сразу весь заряд толпы.
— Подожгли — да на утечку!..
— А што ты: они же начальству донесут!..
И всей толпой решили постоять за правду... Ринулись стеною в сломанные двери. А там после первых же глотков для храбрости, прямо из горлышка, началось такое, чего уже остановить было нельзя не только мирными словами, но и смертным боем. И вскоре водку понесли и стар и мал во все стороны охапками бутылок. А потом и бабы с ведрами на коромыслах прибежали. Черпали вино, лили на пол и дичали от
одного лишь свежего, пьяняще-веселого аромата.Смех, визг, шутки, перебранка — и потом азарт и жадность и поспешные, невольные и полные глотки из горлышка и прямо из ведра... И даже те степенные, которые вначале уклонялись от греха, увидев, как казенное добро толпою расхищается, подкатили к монополии на телегах с кадками и водовозными бочатами.
— Беда! — кричали они, перешагивая через валявшиеся тела опившихся. — Беда, ежели народу все вино оставить... Все друг друга перережут, все село спалят... Лучше по домам все развезти — потом можно начальству объяснить и возвратить на место...
Но где там возвращать и объяснять начальству?.. Даже никогда не пившие перепились. Старухи, женщины, девицы, дети — все познали буйство хмеля и его неодолимый сон.
И продолжалось это не один день и не два, а целую неделю, пока все запасы водки не были распиты и уничтожены.
Немного было волостей в Сибири, где бы не громили монополию и не упивались до безумия и буйства крови.
Огненной волной пронесся этот ураган по всей державе Русской, и был ли вреден или был полезен этот пьяный шторм для ополчения?
Сколько ни грозили, ни буянили, сколько ни куражились в последний час перед сельским или волостным начальством, а земская ямщина все-таки звенела колокольчиками, подавала десятки, сотни, тысячи подвод, и плачущие жены, сестры и родители усаживали слабых, во хмелю, подчас мертвецки спящих сильных мужиков, и мужиками же, еще в сермягах, в красных ситцевых рубахах, в перистых или мшистых бородах, — накапливались тысячи отборных воинов в уездных городах.
Тут протрезвлялись, протирали заспанные или заплаканные красные глаза, прощались с последними родными или близкими, и с легким багажом — с мешком, и узелком, и еще не зачерствелым последним сладким калачом из дома — проходили они через затоптанные коридоры тесных, сырых управлений воинских начальников и получали свои новые, случайные и заранее начертанные номера от первых, еще вчера чужих и неведомых, а сегодня суждённых и строгих, неумолимых взводных командиров.
Еще в черках или залатанных обутках, в которых три-пять дней назад шли по лесной тропе, выслеживали зверя, еще в широких плисовых штанах, где в карманах вместе с крошками махорки сохранился золотой песок — правдивый проводник к удаче у красивых баб; еще в дешевых, домашнего покроя пиджаках, на которых разглядывались складки от сидения на родной скамье, еще в забавных войлочных шляпах, на которых сохранилась шерсть от не успевшей вылинять замученной кобылы — во всем, во всем, как были дома, на полях или покосах, со всеми еще сохранившимися запахами избяного быта, но уже солдаты, годные, здоровые, выправляющие спины при походке и напрягающие память, чтобы вспомнить все обязанности бравого солдата.
С высокого крыльца отчетливо несется голос писаря:
— Рядовой запаса Федор Аргунов!
— Есть! Так точно, — неумелый росчерк по земле обутками-черками.
— В четвертый взвод третьей роты... Рядовой запаса Семен Митин!
— Точно так. Здесь! — неловко запнулся за ногу соседа.
— В четвертый взвод. Рядовой запаса Кирилла Прутьев.
— Издеся! — плаксиво мямлит и сердито озирается на смеющихся над ним соседей.
— Четвертый взвод. Младший унтер-офицер Онисим Агафонов!
— Я! — отвечает коротко и громко, глазами пожирая писаря, и старый почтмейстерский картуз заломлен лихо на заросшей запыленной голове.
Писарь делает пометку в списке, морщит брови.
— Строевой?
— Так точно!
— Взводом командовал?
— Никак нет!
— Принимай четвертый взвод!
— Слушаю!
И молодцеватым поворотом головы в сторону только что выкликнутых солдат Онисим Агафонов утвердил над ними власть. После минуты пристального взгляда он уже командует:
— Пересчитайсь!
— Первый... Второй... Первый... Второй...
— Третий! — замешался Кирилл Прутьев.
— Нету, первый ты выходишь, дурак! — весело одергивает его взводный и руками выправляет грудь и плечи неуклюжего Кириллы. — Ты мне взвод не пакости... Пересчитайтесь!
- Ряды вздвой!.. Азь-два!..
— Правое плечо вперед... Шагом — марш!..
И Онисим Агафонов, еще в пиджаке, с высунувшейся внизу синей праздничной рубахой, выпятивши грудь, вместе с поворотом взвода пятился под громкий счет:
— Азь-два!.. Три-четыре!..
И пожирал глазами смешно и путано шагавшего левофлангового Кириллу Прутьева. Хоть все были еще мужики, но в твердом шаге и в хорошо развернутых крепких плечах чудились надежные строевики.
Навстречу шел с иголочки одетый офицер.
— Р-равнение на-ле-во!.. — скомандовал Онисим Агафонов и, пожирая офицера взглядом, не видел, что Кирилла Прутьев постарался. Сделав ковшик из руки, он приложил ее к поношенному картузу.
Офицер ткнул пальцем в сторону Кирилла и сквозь зубы процедил:
— Этакая обезьяна! — и презрительно сощурившись на одежду взводного, прибавил: — С этакими навоюешь!..
А дни шли медленно и напряженно. Как бы нехотя потекла по своему руслу река времени. И все просторы быстро покрыла паутина бабьего горя и прощальных слез.
Нити этой паутины цепкими узлами охватили самые глухие уголки малодоступного Алтая. Даже в обомшелой и седой Чураевке набралось до тридцати запасных... Было бы их меньше, если бы народ держался старой веры крепче и если бы все согласно назывались инородцами, ясашными и двоеданцами. Таких в солдаты вовсе бы не брали, на то был указ Екатерины. А вот Данило Анкудинов продал свой народ: как стал дьяком, с тех пор и начали в солдаты забривать.
Ежели бы не было призыва запасных, — у Данилы много бы было на соборе званых и незваных, а тут случилось так, что приезд Василия Чураева как раз подфартил в эту горькую неделю.
Да и Василия не радовала легкая победа над Данилой. Собор не состоялся потому, что даже старики, давнишние приятели Данилы, поняли, что в объявлении войны пришел Антихрист к самым воротам греховной, впавшей в еретичество и оскорбленной новшествами жизни. А тут у каждого либо брат, либо сын, либо внук должен идти и искупить вину отцов своих и дедов.
Может быть, нигде на весях русских не почуяли войну как наказание за грех, как именно в Чураевке и именно в связи со сбором Анкудиныча и с появлением Василия Чураева.
Все было так нежданно и негаданно, все так свалилось на головы невзначай, как бы в ответ на возмущенный клич противников Данилы, что только упование на промысел Божий и на суровое слово Василия могло сдержать отчаянье перед наступившим концом света. И потому в Чураевке не только никто не пил в эти дни, но даже мало было слез. Все были так подавлены глубокою тревогой, что солнышко, казалось, перестало греть и светить. Но в то же время, к своему стыду и ужасу, Василий увидел, что если бы не привез в Чураевку зловещей вести о войне, он задохнулся бы в тумане предрассудков, которые на этот раз с такой подавляющею силой смотрели здесь из каждого угла, сквозили в каждом слове, в каждом ослепленном суеверьями взгляде.
При всем своем благоговении к памяти родителей, он все же не нашел нигде: ни в старой моленной в деревне, ни в покривившейся часовенке на пасеке — ничего, что сколько-нибудь утешило бы его душу. Напротив, всюду и во всем он видел мерзость запустения и ничего похожего на память об оставленном отцом наследии. Дух Фирса Чураева, большого мудреца и делателя прочной жизни, как будто никогда здесь не жил и ни на ком не отразился. Сестра Аграфена из красивой самобытной девушки превратилась в полнотелую купчиху и покинула родной очаг. Анна Фирсовна от бедной жизни похудела и сразу состарилась, и только ее муж хранил следы все той же трогательной застенчивости, так что участь трудового мужика его как будто украшала.
И здесь, в Чураевке, перед зацвелыми от времени стенами бывшей молельни, обращенной в хлев, Василий вспомнил и о будущем в лице той самой молодежи, гнусные деяния которой он защищал перед судом в Березовке.
— “Если умерло и попрано все прошлое и если столь уродливо грядущее, то что народу этому поможет стать великим делателем жизни?”
И безмолвною, придушенною в себе совестью ответил:
— “Значит, только Ты, кроваво-огненное божество возмездия и очищения!”
Когда из Чураевки он переехал на заимку, в пасеку, он и там не нашел следов того, что так влекло его в Чураевку.
Молчаливо и сурово слушал причитания Насти, Кондриной жены. Просто уговаривал Кондратия доверить все хозяйство и семью бывшему разбойнику Ереме. И спокойно наблюдал в Ереме перемену, которая поразила бы его несколько недель назад, но которая совсем не удивляла в эти дни.
Старик был даже внешне совершенно новый. Он стал совсем седым, хромым и исхудалым, так что через поседевшие волосья на его груди можно было видеть крепкую, надолго скованную кость.
Самая же главная в Ереме перемена была в том, что он все время беззаботно и придурковато улыбался, и в улыбке этой было сходство с Викулом. И это сходство для Василия было единственным отрадным пятнышком во всем чураевском углу.
В день проводов Кондратия все встали до рассвета. Молча, как во сне, все что-то делали, спешили. Молча, раньше, чем обыкновенно, отобедали. Оседлали лошадей. Вошли все в горницу и медленно, обрядно помолились тем самым образам, которые более сотни лет стояли в
чураевских молельнях и часовенках, которым много раз молились деды и отцы Василия. После моления все пятеро, и Фирся в том числе, посидели с полминуты на скамьях. Кондратий первый встал, сурово подошел к Василию, и глаз его не видно было из-за свесившихся длинных крестьянских волос. Дрогнувшим голосом он глухо сказал:— Прости и благослови, дяденька родимый! — и поклонился в ноги Василию.
В голос зарыдала Настя. Закричал с испуга Фирся, впервые что-то понявший тяжкое. Криво усмехнулся в сторону Ерема.
Через окно хоромины был виден лес и синее пятно реки на солнце.
Медлительно и истово перекрестил Василий своего племянника и твердо произнес:
— Господь тебя благословит на подвиг ратный.
С напущенными на глаза волосами Кондратий поклонился дедушке Ереме. Дедушка Ерема виновато усмехнулся и молча, непривычно обнял молодого мужика. Потом Кондратий подошел к жене и, коснувшись волосами пола, произнес:
— Прости, Настасеюшка...
И когда она в рыданиях порывисто припала к его груди, он медленно отнял от себя ее вцепившиеся руки и сказал сурово:
— Не плачь. Бог даст, увидимся...
И в ноги поклонился сыну...
Фирся что-то понял, еще более тревожное и, приглушив крик, обнял отца, а отец поднял его на руках к груди и долго прятал бородатое лицо в маленьких ручонках сына. Так и вышел с ним на крыльцо хоромины... Кондратий позабыл в горнице свою шляпу, но никто не захотел за ней возвращаться.
У ворот уже стояли в седлах все его три лошади и отдохнувший за два дня Гнедко Василия. Около одной из них, буланой кобылицы, стоял и, помахивая хвостиком, сосал вымя, высокий крупный жеребенок. Забота о том, чтобы жеребенок при переброде через реку не изувечился, сразу же смягчила остроту разлуки. Кондратий глубоко вздохнул, и большой глоток смолистого пихтового воздуха освежил и сделал голос его свободнее:
— Правду говорится: дальние проводы — лишние слезы. Жеребенка-то надо бы от кобылы отсадить!..
Он быстро ввел кобылу в крытый хлев, обманом заманил и запер жеребенка.
Собака у амбара, звякнув цепью, жалостливо завизжала, упрекающе залаяла. Кондратий, прежде чем сесть на лошадь, подошел к собаке, поправил перекрутившуюся на ней цепь, хотел было отпустить, чтобы и собака побежала провожать, но вспомнил о семье и доме и сказал:
— Ну, сторожи хозяйство...
Беглым взглядом обласкал стоявшие тут же под навесом плуг и бороны, и пасечные ульи, и недавно сделанные, хорошо и любовно выструганные, но еще не опробованные, стоговые вилы.
Погладив еще раз собаку, мысленно пропел когда-то слышанные слова из песни:
“Собака верная моя на цепи
Залает у моих ворот...”
И только тут не удержал давно просившихся, давно душивших его слез. Потому и задержался у амбара, будто бы отыскивая плетку для ленивой Буланихи. Жеребенок в хлеву заржал пронзительно, и в этом ржании было столько жалобы и нежности, и острой сладострастной тоски.
Тем временем Ерема, в первый раз за много лет, садился на коня. Из-за хромой ноги он с дровосечной чурки силился вскарабкаться на Буланиху, но не мог. Кобыла осторожно отставляла зад и, взволнованная пленением жеребенка, поворачивалась к Ереме головой. Василий подошел и подсадил его. Старик счастливо заулыбался, как ребенок, точно поехал на веселый съезжий праздник.
Затихла Настя, поджидая мужа от амбара, и медлила садиться на Саврасого. Насматривалась на хозяина, еще стоявшего возле домашности, еще заботливо осматривавшего, заперты ли ворота на пасеку, чтобы вечером коровы не зашли и не опрокинули ульи... И еще милей, как никогда, стал ее Кондратий свет-Ананьевич...
Наконец он подошел к ней, взял за повод коня. Но отошел, хотел помочь Василию, пока тот сел в седло. Взял Фирсю, посадил на свою лошадь, и стало почему-то весело впервые с ним в одном седле перебродить через родную реку... Там будь, что будет, а пока в этих минутах, залитых родимым солнцем, зелено-голубых от леса и небес, — было
что-то поднимающее, и потому хотелось их, как никогда, продлить. Как бы раздумывая, поглядел на улыбавшегося старика, оглянулся на коровий двор: впервые все из дома уезжают – как-никак, ведь, шесть дойных коров на весь день без догляда остаются. Добрый хозяин собаку не оставит. После выкатившихся возле собаки слез стало так легко, что пусть уж эти проводы для всех будут как праздник... Пусть дедушка Ерема усмехается от радости.Снова подошел к Настасье и, подсаживая ее на коня, улыбнулся, плотно и тепло прижал ей грудь рукою, и Настя тоже улыбнулась. В эту минуту ни ей и ни ему не приходило в голову, что более, быть может, никогда не приласкают друг друга, не прикоснутся к тайне сладостных супружеских минут.
Сам Кондратий сел последним на коня позади Фирси, улыбавшегося сквозь невысохшие слезы.
Тронулись по крутой извилистой тропинке к берегу реки, поющей песню вечной радости и вечной, замурованной на каменистом дне тоски, которая еще раз прозвучала вслед пронзительным ржанием оставшегося жеребенка.
На широкий двор Прохора Карпыча, тонкого, прямого и высокого старика, в венчике все еще курчавых белоснежных волос, съехалось народу столько, что все всадники в ограду не вместились.
Как-то так издавна повелось, что на соборы, праздничные съезды и прочие народные события сам народ сходился и съезжался к Прохору. Миролюбивый и простой, со всеми ласковый, старик умел смягчить сердца самых непримиримых врагов одним лишь видом простоватого, беззлобного хлопотуна. Умел он утереть слезу вдове, умел побаловать ребят и пожалеть сирот... Любил приветить у себя приезжих. Особенно с тех пор, как умерла его старуха, а сын-большак ушел в отдел. Прохор жил с одним бездетным меньшаком.
Странно и печально было для Василия опять увидеть и услышать этого совсем забытого им старика все таким же детски улыбавшимся и швыркающим маленьким ребячьим носом. И окна в его доме те же, с той же не подновленною покраской, и даже показалось, что в ограде, в уголке, лежат полозьями кверху все те же старые поломанные дровни, которые служили для народа скамьями во время последнего, позорного собора восемь лет назад.
— Здорово, милачок!.. Здорово!.. — улыбаясь, нараспев приветствовал Василия Прохор. — Как тебя зовут-то? Позабыл я... То-то быдто што Василий... Да! Василий Фирсыч, вот какое горе, Господи, прости нас... От работы сколько оторвали мужиков. Все остановилось... В каждой, прости нас Господи, семье тоска-кручина.
А из переулков, с берега реки и с гор все продолжали прибывать новые и новые всадники. С каждой пасеки, с заимок, из скитов кого-нибудь провожали, и возле одного солдата ехало пять-шесть, а то и более родных и близких. И хотя глаза у всех блестели от недавних слез, но здесь, на народе, многие уже смеялись, балагурили, будто забыли о приближающемся остром часе расставания или уже выплакали самую чувствительную струну своего большого горя.
Пиная в бока своих коней, через гущу всадников проталкивались Фрол Лукич и Марковей Егорыч. За ними шла толпа старых мужиков и заплаканных женщин.
Марковей и Фрол были без шапок. Лысины их ярко светили на солнце. Лица же — суровы и встревоженны.
Марковей Егорыч поманил к себе рукой Прохора Карпыча.
— Эдакое дело!.. — начал он, подняв руку выше головы. — Теперича почти што более полусотни мужиков на смерть сряжаем, а сами вроде как басурманы...
— Хуже басурманов! — подхватил Федор Лукич. — Басурманы и те молятся в такой неравный час.
— Прямо гибель, гибель душ наших греховных! — всхлипнул кто-то из толпы.
Прохор Карпыч, слушая, застыл на месте. Только ветерок играл его серебряными кудрецами вокруг плешины. Он не сразу понял.
— Да как же! — поднял голос Фрол Лукич. — Кто-то же обязан помолиться, чтобы их оборонил Господь от супостата?..
— А кто?.. — Прохор Карпыч развел руками. — Данилу и Самойлу все забраковали. А окромя — все неграмотны... Либо не нашей веры.
И вдруг он оглянулся на Василия и с радостью догадливого простака вытянул в его сторону длинную костлявую руку.
— А вот!.. Просите мужика-то. Более некому...
— А што же! Дело подходя! — раздумчиво поддакнул Марковей Егорыч.
— Я тоже, слышь, смекал! — вскричал и Фрол Лукич.
— Понятно дело: чураевского роду-племени... — одобрили в толпе.
— Услужи уж, будь другом! — обратился Прохор Карпыч и положил свою шерстистую руку на плечо Василия.
— Не погнушайся. Сделай милость! Помолися! — раздались призывы из толпы.
Василий от неожиданности оторопел.
Держа повод лошади, он рассматривал его, не зная, что ответить. Огненным вихрем пронеслись десятки мыслей в один миг, и ни одна из них не помогла, но и ни одна не вооружила его силой отрицания. Напротив, все в нем закричало с неопровержимой мощью:
— “Отрицание — смерть! И сомнение, и колебание — смерть! И промедление — тоже смерть!.. Вот перед тобой толпа ожидающих духовной помощи, быть может, перед смертным часом близких им людей — можешь ли ты им сказать, что ты не веришь ихней верою?.. Смеешь ли ты отнять у них последнюю надежду на тебя?”
И казалось, что с того времени, как задали ему эту задачу, прошла целая вечность и ничего уже нельзя поправить. А с того момента, когда он, восемь лет назад, здесь же, против этого подслеповатого окна, набирал в грудь страшного огня, чтобы им свалить всю старую чураевскую веру — прошла одна секунда. Мозг же его в эту секунду стал как динамит, который вот сейчас должен взорваться и убить его и всех, нетерпеливо ожидающих от него ответа.
Но вот он ухватил себя за кончик бороды и внутренним толчком сердца поднял лицо к трем бородатым старцам. И сказал чуть слышно:
— Ну, что же... Давайте помолимся! — и, обратив лицо к сидевшему на лошади Кондратию, немножко громче прибавил: — Петь ты мне подсобишь.
Прохор Карпыч суетливо замахал руками:
— Ну, вот и добре, добре, Господи прости — помилуй! Добре, старички честные.
Марковей и Фрол, отъезжая в противоположные углы ограды, возглашали с лошадей народу:
— Сейчас начнем моленье. Слезайте-ка с коней-то, подходите к горнице.
— Посторонитесь-ка, ребятки. Лошадей-то из ограды выводите, тут народ молиться будет.
Прохор прочищал дорогу к горнице, в которой были старые иконы. Послал Кондратия к кому-то за Кормчей книгой и кадильницей. Принес Василию свой новый нанбуковый кафтан. Василий строго облачился в дедовский, простой, пропахший чистотою, воском и кедровою смолой наряд. Старательно причесывался и преображался в горнице перед иконами.
И вот свершилось для него нежданное. Он стал дьяком и старцем, впервые в жизни и внезапно взявшим на себя тяжелое отцовское духовное наследие. И не было в нем никаких сомнений, что это именно так нужно. Но почуял и поклялся духом, что будет его первое служение ново и отменно, и будет его первое слово ново и отменно, и все в нем обновлялось, как бы принимало схиму нового и радостного подвига.
Никогда в Чураевке не совершалось общего моления под открытым небом, но Василий приказал из тесной горницы вынести иконы и поставить у стены избы, снаружи, чтобы весь народ мог видеть и молиться, без различия вер и толков.
Установили все в порядке и по чину, собрались умеющие петь и стали рядом с Кондратием. Отделился от толпы, стал вперед в молчании перед иконами и раскрыл Кормчую Василий.
По толпе волною прошло изумление...
— Гляди-ка: Чураев!..
— Фирса сын, ученый!.. Поглядите-ка, што деется.
— А у Данилы говорили, будто он безбожник. Будто еретик!..
Нашлись ехидные и злоязычные. Выкрикнули громко, так что у Василия вздрогнули брови:
— Антихристов старатель!
— Еретик, родителями проклятый!
Как бы в ответ на это, коротко и строго Василий приказал Кондратию:
— Слава и ныне!
Как никогда еще, отчетливо и плавно отвечал Кондратий славословием, и весь народ, стоявший в ограде, как разноцветная трава под ветром, поклонился в землю, положил Начало. И только двое-трое оскорбителей, друзей Данилы, стояли на ногах и изумлялись:
— Диковина! Каких тут нету вер, а все в одну смешались.
Василий взял из рук Прохора Карпыча дымившуюся свежею кедровою смолой кадильницу, и блеснули ярким светом крупные глаза его на побледневшем лице, и устремился взгляд на высоту далеких гор:
— Господи помилуй! Господи благослови!
Неистово и надтреснуто запели старики с Кондратием. Как никогда еще, объединенно и молитвенно стояли, слушали и поклонялись общими поклонами люди многих вер.
— “Аще да никто не избежит воздаяния по делам его...” — вдохновенно возглашал простец-служитель. И видел и слышал он в этих древних, закапанных старинным воском рукописных словах великое и новое для себя откровение... Кто, когда писал и переписывал эти древние и вечно новые глаголы?..
И услышал он рыдания в толпе... Все более сливаясь с нею, небывало слившейся в единую мольбу, он возглашал все вдохновеннее и громче:
— “А еще бо несть пророка праведна, несть бдения непреходяща, несть глагола, истину глаголюща”.
Он знал, что все эти слова понятны лишь немногим, но почему неизмеримая их скорбь явно и глубоко потрясает всех этих простых людей?
Между тем рыдания раздавались громче, разразились причитания женщин, и общее моление вылилось в не бывший никогда в Чураевке всеобщий стон. И только новый возглас простеца, как молнией, озарил тьму беспредельной скорби:
— “Но выну дух мой Господу и почию на камне, ако прах стопы Его!..”
Для многих непонятные, слова эти все же упали каплями росы на раскаленные в толпе сердца.
И знал Василий, знал, что не могло быть более глубокого напутствия и более радостного примирения с отчаяньем, как это его первое и самое чудесное моленье с его родным, милым народом.
Еще не подошло моление к концу, но, ожидая близкую минуту расставания и поддаваясь непонятно-радостным словам Писания, все сильнее, все крикливее рыдали женщины. За ними стали громко плакать дети, а потом послышались и приглушенные стоны мужиков.
Василий повернулся к толпе, чтобы закончить моление напутственным словом. Но толпа уже дрогнула, ибо спокойствие ее было нарушено. Лишь немногие теснились впереди и нетерпеливо ждали от дьяка-служителя какого-то нового, неслыханного слова.
— Отцы, братья и сестры! — громко воззвал он.
По толпе опять прошла шелестящая волна, утешающая плачущих.
Василий понял, что слово его лишь замедлит и продлит страдания, наполнившие до краев все души и сердца. Лучше, если бы их горе поскорее изошло облегчающей слезою, ибо всякие слова — уже бессильны и убоги, как соломинки в пожаре. Но он не мог остановить себя и, возвышая голос, продолжал:
— Слышали ли вы притчу о трех отроках, которых безжалостный царь вверг в огненную пещь? Не плакали они и не рыдали, но мужественно и с улыбкою вошли во пламень и запели в нем священную песнь, радостно благословляя Бога, их спасающего, делающего невредимыми.
Многие совсем не слушали его, даже роптали, но своим ропотом только еще больше теснили к нему тех немногих, которые вслушивались жадно и сурово в необычные слова.
— Где же ваша вера в Божий промысел и в справедливость Божию, если перед скорбным испытанием вы столь малодушно плачете? — глаза Василия метнули молнию в ревущую толпу, которая внезапно, как по мановению волшебного жезла, приглушила плач. И в наступившей тишине голос Василия звучал еще суровее.
— Разве вы не знаете, что всяческая слабость суть от дьявола и только крепость духа, радость испытаньям — есть благословение Божие?
Василий сам впервые исторгал эти дремавшие в нем мысли, и самому ему было легко и радостно бичующим глаголом жечь сердца и взоры не только тех, которые в недоумении глядели на него, но и себя и весь свой род.
— Не молитесь ли сами вы о дожде в губительные дни засухи? Почему же вы рыдаете и трусите при приближении грозы и тучи? Не сами ли вы еще на днях искали правды Божией и собирали все ваши умы и силы для того, чтобы постоять за истину? Почему же вы наполнились безумным страхом, когда сам Господь вооружает вас мечом своего гнева и посылает на великий подвиг, чтобы каждый из вас сам, не здесь, в Чураевке, а там, на поле брани, раз и навсегда победил неверие и поверил в добрые радости вечной правды и, может быть, в радость всеобщего братства и мира и истинного царствия Божия на земле?
Василий позабыл о вчерашней собственной боязни за судьбы человеческой культуры, а сегодня сам в своих словах нащупал ключ ко всем загадкам до сих пор свершающихся зол земли. Именно в это солнечное утро всеобщего моления с народом мысль его неугасимой молниею озарила близкое грядущее, которое идет где-то рядом, за гранью надвигающихся гроз.
И потому, спеша в себе самом и загораясь новыми огнями новой мысли, он так закончил свое слово:
— Братья родные, идущие на ратный подвиг! Будьте, как пловцы через опасные потоки. Помните, что слабость и неверие — погибель ваша, а мужество и вера в то, что вы вернетесь с поля брани победителями невредимыми, принесет вам небывалую доселе радость. Нет на земле и на небе ничего, противного закону Божию и высшей справедливости, и потому примите это испытание радостно и смело поспешайте сделать то, что вам начертано заранее. И если даже суждено вам умереть — верьте до последнего вздоха, что умираете для высшей радости и для бессмертия. Аминь!
Нельзя было угадать, что происходило в сердце каждого, но незабываемою осталась минута длительной всеобщей тишины после того, как замолчал Василий. Лишь когда все поняли, что он не будет больше говорить, толпа бурным потоком полилась на берег.
Василий и Кондратий сели на коней последними. Настя бросилась вдогонку, обняла склонившегося к ней Кондратия и, волоча за руку плачущего Фирсю, не могла разомкнуть последнего объятия и повисла возле стремени. Саврасый под Кондратием рванулся в сторону, потом круто выгнул шею, понюхал Фирсю и, глубоко вздохнув, стал как вкопанный на месте.
Как во сне, перед Василием предстала вся земля и тысячи и миллионы сцен прощания этих дней, и среди них единственной была вот эта сцена расставания. И эта лошадь, все понявшая, и этот маленький мальчик, ничего еще не понимавший, и этот красно-пестрый от ситцевых нарядов берег древней и родной реки — все навсегда запало в его сердце, и было в этом нечто потрясающе-глубокое и вместе с тем единственное по значению.
Не странно ли, что именно благодаря присутствию Василия в Чураевке в венок из терния народной скорби впервые был вплетен и стебель веры в будущую, в несомненную, в великую радость народов. Именно этою бессмертной скорбью, этим предчувствием грядущих, стихийно надвигающихся бедствий нельзя, нельзя не искупить всей адовой греховности земли.
По щекам стоявшего на берегу Прохора Карпыча на седую его бороду скользнули слезы, когда в одно мгновение от многих лошадей и всадников в криках и рыданиях стали отрываться, падать на землю или бежать опять вослед старенькие матери, молодые жены, нежно-хрупкие сестрицы и белоголовые ребята.
Оторвалась от стремени и упала на землю Настя. Обхватила Фирсю и держалась за него, как за единственную опору. Потом вскочила, кинулась вослед за топотом копытным... Но всадники уже вытягивались длинной узловатой вереницей и, стараясь не оглядываться, пришпорили коней. И вот повисли на обрывистом яру реки, и уводящая их в понизовье горная тропа вздымалась(?) пылью и скрыла все.
Как дым, как облачко все за первыми лесинами, за первою скалой. И Василий, дядя Вася, уехал провожать Кондратия до пристани, до Иртыша. А может быть, и он только почудился и не был никогда.
Стояла Настя над обрывом и ревела. Ревела голосом глухим, придушенным, прикусывая уголочек праздничной венчальной шали, и почему-то, как ребенок, вспоминала и сосчитывала: шестьдесят или семьдесят во всем чураевском углу набрали молодых работников?
Не слышала, не видела, когда подвел ей лошадь дедушка Ерема и, улыбаясь детскою улыбкой, сказал:
— Ну, будя, будя плакать! Солнышко уж на закате. Дома-то коров доить пора.
И Настя как-то сразу перестала выть. Как бы решила, что теперь уж бесполезно: укатил милый дружок – куда, неведомо.
Вытерла глаза, села в седло и спросила у Еремы:
— Лошадей-то, стало быть, Василий, что ли, обратит?
— Сулился! — коротко ответил тот и, чтобы крепче успокоить, прибавил: — А не Василий, дак другие мужики вернутся. Не пропьют, поди.
Солнце золотило дальние снеговые вершины гор, и предвечерним холодом повеяло на Настю от реки. В Чураевке мычали возвратившиеся с лугов коровы. Но голоса людей потухли. Сегодня молча, с влажными глазами по хозяйству будут управляться бабы.
Кое-где с прозорливой печалью выли покинутые хозяевами охотничьи собаки.
Настя с Фирсей и Ерема молча ехали темнеющим ущельем на свою заречную заимку. Ленивая Буланиха под Еремою спешила без особых понуканий: рвалась к голодному и запертому в хлеву дитенку. Настя женским, материнским сердцем это угадала и частицу горя своего рассеяла в заботах о домашности.