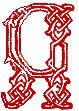 вь и сон, жизнь и смерть — в мелькании дней и лет — только узоры бытия.
вь и сон, жизнь и смерть — в мелькании дней и лет — только узоры бытия.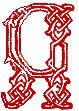 вь и сон, жизнь и смерть — в мелькании дней и лет — только узоры бытия.
вь и сон, жизнь и смерть — в мелькании дней и лет — только узоры бытия.
Затейливо и тонко ткутся сети смерти и узоры жизни на земле. Невидим ткач-узорщик и неведом его замысел. Но ткутся непрестанно дивные узоры, никем и никогда ни на одно мгновение не прерванные с тех пор, как завязывается первый узелок осмысленного бытия во тьме тысячелетий.
... Вот паутину дум своих нанизал на пространства Севера и Запада, Юга и Востока младший брат Чураев.
Скорбной, неудачной песней прозвучал поход за личным счастьем — Викула.
И бесславно закатились на Востоке хищные охотничьи порывы — большака Анания.
А на фоне их скорбей и радостей сплетались тонкие узоры неоправданных надежд влюбленной в радости земные — женщины.
Но близким и далеким рокотом, гулким громом и едва мерцающей в пустынном поле песней льются реки жития народного.
И ни на одну минуту жизнь не остановила плетения своих узоров. Все так же ткет она свои причудливые светотени: чем ярче радости — тем ближе черные видения. Чем ближе Бог — тем искусительнее Дьявол. И близится, и близится их жуткий поединок. И близится жестокий приговор неумолимого Ткача.
И уже не красками, не нитками цветными, а веселым пламенем он будет рисовать свои узоры. А светотени подчеркнет бездонной тьмой отчаяния.
Но кто умеет слушать тишину земных велений?
Кто умеет видеть красоту узоров непреложной вечности?
И кто сможет быть необходимой, тонкой, многокрасочной и несгораемой ниткою в невидимых руках Ткача?
Солнце согревало землю, как всегда в погожий летний день. Одинаково и одновременно сверкало на струях Иртыша, Катуни, Бухтармы и смотрелось во все зеркала задумчивых озер на высоте.
И как восемь, и шестнадцать, и сто тридцать восемь лет назад — все одни и те же скалы у старинных троп в горах вокруг замшелой, хмурой и седой Чураевки.
Как всегда, редки здесь всадники на горных тропах. Осторожен шаг некованых коней. Полны сумы с поклажей позади сгорбленных и бородатых путников.
В Прокопьев день по горной тропке от Чураевки к скиту Данилы Анкудиныча поспешным шагом пробрались десятка полтора суровых всадников, седых и моложавых мужиков — друзей Самойловых.
И говор их был скуп, и взгляды подозрительны, и чуялась во всем не то боязнь, не то угроза.
Застроился, разросся и забогател за эти годы скит Данилы Анкудиныча.
Степеннее в движениях и словах, медленнее в поступи, сильней во взгляде стал Данила. Облысела голова и поседела узенькая бородка. Расширился на теле черный нанковый кафтан.
Отпели тропари Прокопию, сели на скамейки. Воцарилась тишина, все ждали, что собирался обсказать Данила, то важное, зачем позвал к себе всех крепких своих одноверцев. Но тот не мог спокойно говорить, а как бичом стегнул:
— Поберечься надобно, ребятушки! Еретик, слыхать, Чураев Васька накликается опять на нашу голову.
И точно плотину прорвало. Забурлили, замахали волосатыми руками, заблестели молниями взглядов.
— Это што за напасть такая!..
— Только от одного Господь избавит — от другого нет житья... Острожный род!..
Но вновь настала тишина, и на средину выступил Самойло.
Костист и черен стал он в эти годы, борода узлистая, жгутами, глаза — бездонные колодца с неугасимыми угольями в глубине, а голос, как струна, много раз оборванная — узел на узле.
— Слушайся, што я скажу. А вчерася к старшине бумагу привезли: Чураев Викул с каторги сбежал!..
Жутким холодом повеяло от мертвого молчания, которым была встречена эта весть. И в глазах слушавших потухла человеческая жалость и вспыхнула неуемная и молчаливая жестокость ко всему чураевскому роду...
Слухи поползли, как змеи: невидимые и бесшумные, но ядовитые, плодовитые, шипучие. И всякое слово, как бы кто его ни сказывал, приемлется не так, как сказано, а так, как могут и хотят принять его.
До Данилы Анкудиныча дошли они как слухи, слово любопытное, а от Данилы понеслись во все концы отравленными стрелами:
— Василий едет? Стало, на отцовское наследие метит. Стало, вместе с еретичеством новый мстительный раскол несет с собою!..
— Викул с каторги бежал? Стало, нету больше сна спокойного доказчикам, которые его топили на суде.
А топили на суде все те же одноверцы и единомышленники Анкудиныча.
А до Кондратия Чураева слухи долетели радостною, вещей птицею. На второй день после Прокопия он прискакал со своей заимки все к тому же Анкудинычу с докукой:
— Дедушка Данила! Сказывают, быдто тятеньку с Монголии калмыки привезли по Чуе... Поблагослови молебен отслужить о здравии.
Но удивил Данило молодого мужика ехидным, даже злым допросом:
— Какие же сороки на хвосте такие вести принесли?
— А Корнеева баба с Уймону на побывку приезжала, сказывала, быдто што еще о прошлом лете...
Но не дал Анкудиныч досказать. Поднялся и закаркал:
— А может, и старик Чураев из могилы встал?.. Да што же это деется, коли все три отступника сюда заявятся?.. Довольно то, што ты разбойника Ерему подобрал!..
Не узнал Данилу Анкудиныча Кондратий. Привык он почитать дьяка. У него брачился, у него крестил сынишку Фирсю, названного в память деда, у него и панихиду по родителю справлял... И вот уехал от него с ледяшкой в сердце.
Всю ночь прошептался с запечалившейся Настей, не пускавшей мужа на Уймон, а под утро все-таки решил отправиться на поиски следов родителя.
— Можно ли терпеть? Пристойно ли сидеть дома, когда родитель где-то у калмыков в плену томится?
Собрался, оседлал хорошего коня седлом, какое поскромнее, накрыл его, как был приучен с детства, зипуном и, преодолевая жалость к заплясавшему с горя четырехлетнему Фирсе, сел в седло и крикнул Насте:
— Отведи его на пасеку к дедушке Ереме... Меду ему дай там... Меду!..
И скоро крик Фирси был заглушен шумом порога. Саврасый застучал копытами о гальки берега и неохотно вспенил бурную, холодную струю реки.
Погрузив в воду сапоги вместе со стременами, Кондратий смело ринулся на зыбкую зеленую волну, которая, казалось, закачала берега и горы и заскрежетала каменистым, разноцветным дном. Саврасый вытянул шею и, расширив ноздри, шумно фыркнул и поплыл. Кондратий высвободил ноги из стремян и вытянулся вдоль коня, смотря на его уши, которые, казалось, видели, и слышали, и думали, и вместе с мужиком испуганно твердили:
— “Господи, спаси, помилуй!..”
Когда же лошадь одолела стрежень и камни и, встряхиваясь и качаясь, вышла на другой берег, Кондратий поправил сумы и зипун и оглянулся на свою усадьбу, расположенную на косогоре ниже пасеки, где раньше был чураевский покосный стан, — и тяжело вздохнул.
Бедною и старой показалась ему дедова хоромина. Отец перевозил ее и ставил, а новой крышею закрыть — так с этими несчастьями до сих пор не удосужился Кондратий. Окна, двери крашены, крыльцо фигурчатое, а крыша наполовину с берестой.
Выехав на взлобок, косо и недружелюбно посмотрел Кондратий в сторону Чураевки. Антон, муж тетки Аграфены, в дедовой усадьбе поселил приказчика, такую вредную блоху. Все там перепоганил. В моленной хлев для поросят устроил.
Кондратий опустил на гриву лошади суровый взгляд, и широкая спина его ссутулилась. Эту мужичью коренастую сутулость даже три года солдатчины не выпрямили, а теперь и вовсе что-то навалилось на одинокие плечи. Один остался во всем роде на весь край. Мать — и та к замужней дочери переселилась. На заимке не от радости Ерему приютил. Слыхал, разбойничал во младости, на каторге страдал, от веры отшатнулся. Добро, што хоть теперь ведет жизнь ровно малое дитя. А то бы бабу с Фирсей не на кого было оставить на заимке... Вот как разорился род чураевский.
Ехал по тропе Кондратий, думал и вздыхал. Верил и не верил слухам, столь волнительным:
— “Неужто тятенька в живых страдает?”
Саврасый на распутье двух тропинок заартачился и повернул по более наезженной. Жилье почуял и решил избавиться от дальнего пути.
Кондратий призадумался. Куда эта дорожка повела? Огляделся и увидел: по дорожке этой с косогора ехали два старика, давно знакомые, родимые такие: Фрол Лукич и Марковей Егорыч.
— Здорово ночевали, деданьки!
— Здорово, Кондря! Куда путь держишь?..
— А вас куда это Господь несет?..
— А вот сперва по Камню православных созывать. Собору годов восемь не бывало. От Данилки, слышь, житья не стало. Ты как ноне веруешь? С ним ай с нами?
Кондратий замешался. Знал, что оба старика еще недавно были заодно с Данилой. И начал про свое, про слух с Уймона, про родителя.
— Сказывают, жив он... Верить ли, не верить — сам не знаю... Вот решил поехать, все дознаться порядком.
Старики даже коней остановили: так им было удивительно все это слышать.
— Постой, постой-ка, не трусь ты, парень! Кто сказал-то?
— Погоди-ка, погоди! — Марковей Егорыч тронул плеткой Фрола Лукича. — Не меньшака ли спутали с Ананьем-то Фирсычем?
Старик повернул желто-седую бороду, в колечках, в сторону Кондратия:
— А ты слыхал ай нет, что на степи твой дядька, слышь, заступником доспелся знатным? Ась?
Кондратий, как во сне, смотрел на стариков и не отвечал. Слишком все стало запутанно и непонятно.
Фрол Лукич лучисто, вразумительно засмеялся:
— Вот мы его-то и желаем доступить, чтобы супротив Данилки выставить опять род чураевской!.. Смекаешь?
И старики, взглянув поочередно на полуденное солнце, молодо прикрикнули на лошадей. Им надо было навестить еще две-три заимки, а потом держать далекий и нелегкий путь на степи. И надо было поспешать: дни летели солнечными птицами, а до Ильина дня оставалось около недели.
Кондратий выровнял Саврасого гуськом за ними и не мог отстать от старых и бывалых всадников.
Путь его лежал на Север, на Уймон, а он поехал на Чарыш, на Запад. Стало быть — судьба.
А там, куда спешили всадники, сплетались новые узлы жизни и смерти, воли и неволи, сна и яви.
Лишь через сутки пришел в себя Василий. Он вздрогнул от короткого грома и медленно открыл глаза. Первое, что увидал, — были большие, скорбные, глубокие глаза жены, а над головой ее — все та же сказочно-желанная голубизна небес и чистое дыхание озера. С Востока отгороженного скалами из красно-серого гранита, а с Запада сливающегося с широкой ровною степью.
— Где мы? — как во сне спросил он.
— Не поднимайся сразу... — низкою, знакомой нотой попросила она, и в глазах ее, вместе с радостной улыбкою, мелькнула искра темной скорби.
— “Может быть, я умер и переселился вместе с нею в этот дивный мир?” — подумал он и потрогал голову.
Голова была в повязке: значит — явь.
Он еще раз осмотрелся, увидел поблизости стог сена и медленно, осторожно вздохнул, как будто и дышать боялся, чтобы не проснуться, не вспугнуть этой чудесной яви. Так и не мог поверить: был ли странник, от которого он принял крест и рану? Или все это было только сном и знамением чудесным?
Вблизи опять послышался короткий гром, а вскоре над Василием тревожно просвистела улетающая стайка уток. Василий улыбнулся и, закрыв глаза, лег снова на примятое им сено. Он понял, наконец, что Колобов не захотел-таки лишать себя намеченного перелета и привез Василия с женой на другое озеро, за тридцать верст... Это он стрелял из камышей по уткам.
— А где же он?.. — не открывая глаз и не называя имени бродяги, еле слышно спросил Василий.
Надежда Сергеевна поправила на голове его повязку и, взглянув на стог, сказала:
— Тебе не нужно волноваться...
И потом, касаясь лба Василия губами, прошептала:
— Он тоже спит... В стогу...
Василий не мог больше спрашивать. Ибо не могло быть ничего более значительного, как этот тайный шепот.
Колобов стрелял на этот раз без промаха. Как никогда везло, и дичи наронял и в озеро, и в камыши. Наконец с последним выстрелом загадал самый острый и волнующий вопрос: ежели промажу — значит, нет!.. И — промазал. Посмотрел вслед улетающему селезню и даже повеселел от неудачи.
И, нагруженный дичью, быстро зашагал в стан. Василий, приподнявшись, улыбнулся ему, а Колобов недружелюбно крикнул:
— Ну, отоспался? Пора и за похмелье! Испортила мне эта погулянка всю охоту.
В движениях его была особая поспешность, во взгляде жесткость и решительность.
— Думал, думал — ничего не выдумал! — сказал он, наконец, взглянув в глаза Надежды Сергеевны. — Как ни жаль, а своя шкура ближе. Доведется мужика представить по начальству...
С этими словами он быстро подошел к стогу и возвысил голос:
— Ну-ка, дядя, поднимайся! Али опьянел от сена? Вставай! Довольно нагостился у родни!
В словах Андрея Саватеича послышалась даже издевка над заспавшимся в стогу, испуганно поднявшимся и растерянно оглядывающимся человеком.
Он был одет в голубую рубаху Василия и в дорожный зипун Колобова, но голова его в сенной мякине сразу обличала в нем бродягу, готового бежать и прятаться.
Он даже почесал затылок, припоминая, где и кто он, но, увидав затихших в телеге брата и Надежду, вспомнил все и сразу сгорбился. И начал судорожно задрожавшими руками снимать с себя чужой зипун.
— Да не снимай, оставь себе... — сказал Колобов.
Но странник стал снимать и рубаху, и в глазах его была та тихая и кроткая покорность, которая бывает только на иконописных ликах.
— Нет, не надо. А то на этапах бить станут... Скажут, что украл...
И, отыскивая свой залатанный подрясник, странник повернулся к Колобову обнаженной ниже пояса спиною, и Надежда Сергеевна увидала костлявое и испитое тело бывшего богатыря, когда-то уносившего ее в ночную степь. Но не это подняло ее и бросило к ногам бродяги, а именно его поспешная покорность снова все терпеть и добровольно, кротко уходить опять на каторгу.
— Викул!.. Я не могу... Не смею... даже о прощении молить... не смею! — еле выкрикнула она и упала лицом на землю, в то время как он стыдливо кутался в подрясник и жалостливо бормотал:
— Господь с тобою!.. Ничего, потерпи... Живите со Христом... для деток малых... Не стою я слезы твоей пречистой, матушка!
А сам склонился над нею, и лицо его скривилось, и излучали боль невыносимую глаза его...
Даже Колобов не выдержал и отвернулся.
Василий же, открыв глаза, оперся локтем о землю и смотрел не на жену и брата, а мимо них, на озеро. И широко раздвинулся от нового видения взгляд его.
Исполинский обоюдоострый меч, разделив собою небо и землю, погрузился в тихое, зеркально-гладкое озеро, наполненное не водой, а кровью. А на конце меча висело чье-то надвое рассеченное, истекающее кровью сердце.
Василий зажмурил и опять открыл глаза, но видение не исчезало.
За гладью озера лежала степь, а на степи был конусообразный холмик, а за степью догорала красная заря с единственным над самым горизонтом облачком. И вот отраженная в воде полоска степи с холмиком образовала одно лезвие и рукоятку, отразив в воде другое лезвие. А облако, висевшее над острием меча и отраженное в пурпурной глади озера, казалось темным, надвое рассеченным и наполнившим озеро кровью сердцем.
Это было так зловеще, и величественно, и прекрасно, что Василий вновь не стал верить в явь происходящего.
Но вот у стога раздались грубые слова Андрея Саватеича:
— Москва слезам не верит!.. А нам садиться за него в острог — тоже не дело!
Василий вновь закрыл глаза, но и закрытыми глазами видел исполинский меч и кровь, затопившую небо и землю... Он не видел лишь Державшего тот меч, но знал, что Он был тут же над землей и если Он не мог быть видимым, то только по великой слепоте человеческой. Василий снова погрузился в обморок, как в сон. И будто из другого мира услыхал слова отчаяния склонившейся над ним Надежды:
— За что же, Господи? За что?!
Но сон, сплетаясь с явью, продолжался.
Ибо лишь во сне могло случиться то, что принесли все следующие дни и ночи.
Уже звучали в доме голоса детей, приехавших от Лизаветы, у которой они прожили три дня, но все еще витал над всеми призрак заживо схороненного странника, и не осталось больше слез в сухих и воспаленных глазах Надежды Сергеевны. Дней пять преследовал Василия докрасна накаленный меч над озером из крови, пока, наконец, он встал и, сняв повязку с головы, снова вышел на работу. В ней было спасение от уродливых видений, в ней начало новых подвигов.
Василий только что открыл ворота, чтобы ехать на покос, как к воротам подъехали всадники.
Двоих он сразу же узнал. За восемь лет они как будто вовсе не переменились. Даже их холщовые рубахи, зипуны и войлочные шляпы, седла на конях и узды были те же. Может быть, даже и лошади под ними те же: карий и буланый, долгогривые, в репье, два мерина. И бороды не сделались седее, и даже лица — так же загрубело коричневые, и улыбки те же, мягкие, с хитринкой. Только голоса немножко потускнели.
— Здорово был! — сказали они в голос, тронув войлочные шляпы и не слезая с лошадей. Потом притронулись к святительским кольцеобразным бородам и, показав на третьего, тоже оба в один голос спросили:
— Не узнаешь, поди, спутника-то нашего?
И молодой мужик с рыжеватым пушком на подбородке неторопливо первым слез с коня, высморкался в землю, вытер руку полою зипуна и степенно протянул Василию:
— Здорово, дяденька Василий! Кондратий я, Ананьев сын. Племянник тебе довожуся...
Эта давняя, неспешная родная речь, чем-то столь прекрасная, заволновала еще не окрепшего, не оправившегося от недавних потрясений, и Василий не мог вымолвить ни слова. Смотрел на зипуны, на седла, выложенные высветленным серебром, на лошадей, и даже запах пота их, и все давнее, чудесное своею простотой и такой песенной, бессмертной, задушевной правдою остановило в нем слова.
Когда же, справившись со слабостью, он ввел гостей в свой дом и когда заговорил с гостями ихним, бухтарминским языком, Надежда Сергеевна увидела в нем новую, большую, строгую красу во всем, красу неумирающей, простой и вечной правды человеческой.
И как восемь лет назад в хоромине Фирса Чураева, так и теперь в доме Василия, после сытного простого ужина, разутые, раздетые, плешивые и низкорослые бессмертные богатыри весело рассказывали в сумерках всю быль и небылицу минувших лет в Чураевке. И закончился рассказ той же неожиданной и в тоже время старой просьбой:
— И пошло опять у нас перекосердие с Данилой... Царь и Бог доспелся. И решили мы собор созвать. И вот дошли до нас об тебе слухи. Приехали до милости твоей. Штоб помирил ты нас для ради Господа.
Нужно ли было расспрашивать? Можно ли было колебаться и ссылаться на здоровье?
— С радостью! С великой радостью поеду, — тихо и размеренно сказал Василий, и прибавил для скрепления. — Ежели в писаниях буду не горазд, то сердцем помогу для примирения братского в единой вере.
Наутро нарядился просто и пристойно. Подковал и оседлал гнедого друга и просто распрощался со своей семьей Василий.
Оставил на плечах жены весь дом и труд и тишину страданий в одиночестве.
Надежда Сергеевна благословила его скорбною улыбкой, когда сел он на Гнедого. В ряду троих гостей он показался всех сильнее, легче и полетистей.
Надвинул шляпу, чтобы ветром не снесло, и от шестнадцати копыт заплясали в воздухе лохмотья земли, влажной после утренней росы.
И снова продолжался для Василия и сон, и явь — все вместе.
Все новыми и новыми тропами вился путь в горах. Каменистые броды, крутые приторы, прохладные перевалы, попутные дожди, ночлеги в пасечных омшаниках, и зори утренние росные, и ели шепотливые, и камни молчаливые — во всем этом страница за страницей раскрывалась летопись все той же тайны, сна и яви, непрерывных в вечном обновлении.
До Ильина дня оставалось только два дня. Путники спешили. Они поднялись уже к истокам рек, на перевал Холодный, в кочевья калмыков. Редкие седые клинья юрт были пусты. Калмыки кочевали еще выше, где-то на вершинах. Но здесь, в долинах речек, уже скошено и сметано все сено, и стога его чернели на зеленых лоскутьях полян.
На закате дня путники остановились на ночлег у стога — последняя ночевка до Чураевки. Выбрали начало, самое рождение горного ручья.
Вечер угасал в пронзительной какой-то тишине. Почти никто не говорил, не пел, ничем не нарушал молитвенной торжественности этой тишины.
На ближайший стог уселась пестрая ворона, и крик ее прозвучал даже красиво, полный смысла и значения.
Лишь около костра, когда стемнело, похрустывая хворостом, заговорил один из стариков:
— Фирс Платонович, покойная головушка, на беседах часто нам сказывали: все, дескать, речки с гор бегут. А как они на гору поднимаются — никто не ведает.
— Вот мы и умствуем теперича, — поддакнул другой старик, — мы, старики, все перемрем, а кто о благочестии будет пещись? Вот Кондрю взять: три года во солдатах побыл и староверие позабыл.
— Забыть хоть не забыл, — нехотя сказал Кондратий, — а только все с пути сбивают. Сколь разных вер в одной деревне нагорожено.
Он снова начал было про злобу Данилы, да остановился. Думы об отце и еще какая-то неведомая горечь замкнули сердце.
Василий слушал тишину и эти сказы и во всем улавливал тот стройный лад, когда и злоба и печаль становятся лишь тенью от любви и красоты неописуемой. Как высота Алтайских гор рождает реки, никогда не высыхающие на равнинах, так эти речи-жалобы родных людей — звучали для него теперь как откровение любви всечеловеческой. Ибо даже злоба — перегар все тех же сил и соков алчущего духа. Воистину — любовь Василия так безгранична и неисчерпаема, что он одной ее улыбкою погасит все пожары зла, творимого в Чураевке Данилой.
С такими думами стремился на собор Чураев. Он долго не ложился спать, и все бродил по склонам гор, по посеребренной инеем отаве, и молитвенно раздумывал о том, как бы чище, проще и сильнее начать служение родной земле, а вместе с ней и всему миру, а стало быть, и наивысшему началу — Богу на земле.
На горы взошла луна. Взглянув в ее холодный светлый лик, Василий улыбнулся той простейшей тайне равновесия и мудрости во всей вселенной, к которым люди так привыкли, что даже перестали видеть их.
Луна разбрызнулась во всех кристаллах инея, и бесконечно-малыми мирами светил каждый атом земной влаги.
А дума человеческая вновь летела в запредельность, и была гора устойчива своей твердыней под ногами думающего Василия.
Когда Василий возвратился к стогу, то, зарывшиеся в сене, старики и Кондря крепко спали.
Василий разостлал свой подседельник и еще послушал лунную, серебряную тишину. Даже лошади стояли без движения. Даже ручей замолк, убавив свои струи, и колдовала среди гор та горная святая тишина, в которой совершаются все таинства и снов неведомых, и явственных чудес.
Чураев лег. И вместе с ароматом сена в него влилась дремота, ласковая, как любовь, и бестревожная, как синь надлунная.
Медленно взошла луна на середину неба, и тени от стогов стали короче и круглее. Лошадь Фрола Лукича приблизилась к коню Кондратия и, ткнув ей в шею мордой, попросила почесать зубами спину. А старый конь Марковея Егорыча, проснувшись, шумно вздохнул и внезапно поднял голову. Уши его заострились в сторону Запада и что-то услыхали. Потом и остальные лошади подняли головы и заострили уши. И лишь тогда Гнедко Чураева пугливо храпнул и разбудил Фрола Лукича. Старик поднял из-под сена лысую голову и прислушался. В мертвой тишине раздался четкий приближающийся топот.
И вдруг все четверо, как по команде, вскочили из-под стога и, не зная, что это такое, встали в ряд и замерли...
По тропинке мимо них в эту минуту во весь опор с высоконапряженным и протяжным криком проскакал какой-то всадник. Конь под ним был белый, тонкий, вытянувший шею, приложивший к гриве уши и выбрасывающий из ноздрей клочья серебристого пара.
Когда всадник унесся вдаль, к Востоку, все переглянулись, но никто не мог произнести ни слова. Никто не мог поверить, чтобы в таких горах, по столь опасной, узенькой тропе мог кто-либо промчаться с такою жуткой быстротой.
И уже никто не мог заснуть до самого рассвета. А на рассвете оседлали лошадей и поехали.
И снова их настиг галопом мчавшийся всадник, на этот раз на вороном коне.
Это был казак, в руках которого взвивались поочередно шашка, пика и нагайка, и всеми ими он так ловко и отчаянно размахивал, что все четверо свернули в сторону и с восторгом посмотрели вслед неведомо откуда взявшемуся джигитовщику.
Проехали еще верст пять и увидали наскоро сколоченный шалаш, покрытый свежими ветвями. Возле стояла белая оседланная лошадь, и высокий молодой казак сурово всматривался в глубь страны, на Запад.
А с Запада в эту минуту мчался новый всадник на темно-рыжей лошади.
Ожидавший возле шалаша быстро вскочил на белого коня, на бегу выхватил у подбегавшего белый пакет, и, повернув коня, пригнулся к его гриве, и поскакал, размахивая плетью, пикою и саблей.
Четыре путника остановились возле шалаша, и Василий спросил у всадника:
— Что это такое?
— Истафеты! — строго отрубил казак.
— Какие эстафеты?.. Почему?
— Билизация!.. Война!.. — еще суровее сказал казак, проваживая запаленного коня по косогору.
— Война? — переспросил Василий. — С кем война?..
— Наше дело — исполнять приказ. Сбор солдатов объявляем.
Кондратий нахлобучил на глаза шляпу и подстегнул коня. За ним молча, наклонивши лица, тронулись старики.
Василий посмотрел на разгоравшееся утро. Красота его была неописуема. Из-за гор всходило солнце, такое ясное и радостное, брызжущее золотом и смехом.
Можно ли было не смеяться вместе с солнцем над причудами столь затянувшегося сновидения?
И не безумие ли эти вести о войне?..
Ибо этот молчаливый и непобедимый, вечный мир приближавшихся, давно знакомых гор все равно переживет все войны, все эпохи.
И Василий увидал в лиловой дали синюю полоску утреннего дыма над ущельем, где текла родная бирюзовая река и где ждала его седая и замшелая, по- новому волнующая и невыразимо-близкая Чураевка.
... Да и кто из смертных мог помыслить, что над судьбами земли уже поднят пламенный меч, рассекающий грани эпох? И совсем не думали об этом те мирно украшавшие своим трудом лицо земли, чьи сердца и жизни были уже взяты властною рукою Держащего, чтобы бросить полной горстью в жертвенное пламя.
То же солнце, тою же дорогой, но тремя зорями раньше дня Ильи Пророка — медленно спускалось за холмистыми полями Чарышской долины.
В Березовку к родне только что приехал по своим делам Онисим, на этот раз без Марьи, только с пятилетним Степкой.
С весны он начал строить новую избу, да “обремизился”. Затеял пятистенную, а на покрышку денег не хватило. Уже и пол, и потолок настлал, даже навел стропила, а тесу напилить не стало денег. По мелочам у многих задолжался, продал годовалую телку. Марья исхлесталась в суете-заботе. Сколько раз поденщицей ходила в люди — все копеек сорок в день домой притащит. Лошадей за лето с тела сшиб — узнать нельзя. У коренника к тому же от опоя вся спина все лето пухнет и гноится. Замотался, похудел и даже чуть заметно поседел Онисим. И вот отважился у купца-свояка Колобова одолжиться. Даже одобрительный приговор от общества деревни Узкой Ляги привез, вроде как поруку.
Лошаденки за дорогу вовсе стали. Ели доплелись. От заботы сна лишился. Если Колобов не выручит — прямо петля. Вот до чего этот год довел Онисима.
Приехал он в Березовку перед закатом. Приободрился, настегал, наярил лошадей, чтобы хоть по улице села прошли не клячами. Заехал в ограду тестя, а в ограде — Колобов на своих лихих саврасых.
— Ух, какие у те кони-стрелы! — крикнул Колобов с насмешкой.
Как ножом по сердцу — даже руки опустились у Онисима. А лошади как стали, так и заснули. Едва на поводу отвел их под навес. Того гляди — падут и вовсе не встанут. Довезут ли до дому теперь, Бог знает.
И Онисим всю досаду пролил на Степку:
— Вытри нос-от!.. У-у, сопляк!
Схватил твердыми мозолистыми пальцами за пуговичный носик, сжал до красноты и заставлял:
— Ну, сморкайся!.. Еще раз!.. Тетка Лизавета и за стол экого тебя не посадит...
Но была в этой сердитости большая теплота, самая сугревистая и последняя мужицкая утеха. Даже показалось, что для Степки-то уж обязательно раскроются все черствые сердца.
А Колобов вдруг с просьбой:
— Завтра помочь я сбиваю. Может, пожелаешь подсобить немного?
Онисим даже встрепенулся от чести.
— А со всей приятностью! — поспешно ответил он и старательно высморкался. В глазах его блеснули огоньки довольства.
Не потому, что помаячила какая-то корысть или надежда, а потому, что мог Онисим все последнее отдать, так, просто, честь по чести, если человек по-человечески его попросит.
А быть на помочи у Колобова всяк считал большой честью. Онисим знал об этом понаслышке, потому что об этих колобовских помочах из года в год росла большая слава на весь край.
Многие дивились — что за выгода купцу бросать на эти помочи такие средства и затраты?
Потому что в этот день бывали сотни человек не только до отвала сыты и до повала пьяны, но и всяк имел какой-либо подарок. Молодежь задаривалась конфетами, орехами, девки получали бисера и ленты, яркие платки, сережки, пояски и всякие особые подарки по особому наказу Лизаветы и Андрея Саватеича.
Это был огромный, шумный день — событие, в котором мог принять участие всякий желающий, от старика до малого ребенка. Для этого Колобов откладывал много разных не доделанных в году работ по дому и заимке, по заводу и по мельнице, по пашне и покосу — всюду, где его хозяйское величество хотело подвинуть свое дело.
В этот день он сбивал веселую артель даже для сбора долгов. Как и для других артелей, запрягалась подвода, ставился бочонок с пивом. Артельщики с колокольцами, с песнями объезжали самых нерадивых должников Андрея и, угощая пивом, сладкой водкой или горсточкой орехов, уговаривали “хоть немного поплатиться”.
Мужики смущались, отклоняли угощение, совещались с бабами, потом, махнув рукой, крестились, выпивали и смягчались... Если не было при доме денег — перехватывали у соседа, а еще охотней отдавали долг скотом и животом, домашней птицей, яйцами, даже накопленной сметаной. Потому что много требовалось в этот день различной снеди. Некоторые бедняки, месяцами не едавшие говядины, в этот день на колобовской помочи хватались за живот от объедения.
Но за то же и работали все в этот день — один за четверых, и того более. Появлялась небывалая подвижность и находчивость. Сам собою в каждом деле выбирался старший. Каждый находил свое любимое занятие. И часто вытворялись чудеса, о которых после шла молва далеко за чарышские пределы.
До сих пор многие помнят, как на помочи во время постройки своей усадьбы Колобов отрезал по двенадцать аршин на платья десяти старухам за то, что те, — обиженные чьими-то выкриками, что-де старухи ни на что не годятся, — сделали такое дело, которое не всяким мужикам под силу. В один день успели навозить камней и выложить все полы в завозне, в погребах и все дорожки во дворе и возле дома. А на прошлогодне помочи две дюжины девиц, отряженные для работ на мельничную плотину, прогнали всех парней и мужиков и сами в один день запрудили такую плотину, через которую можно на тройке ездить. Так ее и прозвал Колобов: “Девье диво”. Для старшей из этих девиц нынче зимою Колобов сам жениха нашел, сам был в сватах, а на свадьбе — в дружках, и к брачному столу привез бочонок масла...
Мудрено ли, что и нынче к его помочи многие готовились спозаранку. Несколько артелей крепко сговорились, как и чем они нынче покажут свою ловкость, силу и смекалку.
Похоже было, что народ накоплял в себе избыток сил и доблестей, и некуда и негде было их ему выказать красиво. И вот купец догадливо и ловко открывал источник этого богато искрящегося хмеля и направлял его на свою пользу.
Чуть заря поутру — никогда никто не вышел бы так рано на свою работу, — у Колобова на ограде уже все кипело. Толпа людей сама собой разделялась, гремела голосами, инструментами, посудой, колесами телег, копытами коней. И прежде всего стар и млад начали стаканом пива и горячей, хорошо прожаренною в масле шаньгой. И не только началось соревнование в поспешности и ловкости, но начался взаимный смотр великого труда и удивительного мускульного напряжения.
Это был показной праздник наикрасивейших сил и воль простых людей всех возрастов, когда со смехом, с песнями и с безобидной руганью — во всем первой помощницей у русского народа — началось однодневное созидание памятников многих лет. На ограде стало вырастать целое новое здание. На кирпичном заводе вылеплялись сотни новых кирпичей. В соседних горных ущельях вырубались и сплавлялись по реке сотни бревен, а на полях стали сгорать под серпом, косой и под машинами десятки десятин пшеницы и овса.
Созидая, сами же дивились, ругали Колобова и себя за глупое усердие и не могли понять той двигавшей их силы, которая сдвигала горы при одном лишь появлении Колобова на работе. А Колобов знал, когда, и как, и где он должен на минуту показаться. И знали все, что где явился Колобов — там взлетала целая волна подъема и веселья, потому что, помимо ободряющего или метко-острого слова, Колобов привозил те самые обжигавшие, горячо-веселящие глотки, которые в эти минуты казались самою живительною, сказочной живой водой.
Но также знал и он, — этот рыскавший то на тележке, то верхом в седле хозяин-ястреб, — какими мерами все надо мерить там, где так воспламенены желания, где так напряжена вся сила воль и мускулов и похвальбы народной.
И не поил он в это время, а лишь слегка подпаивал, подогревал задор. А его услужливые спутницы во главе с Лизаветой старались затушить малейшие хмельные искры самою обильной, самой жирной, самой сладкой пищей, на которую здесь не было ни скупости, ни меры.
Уже к раннему обеду было сделано так много, что сам Колобов не мог поверить. Ибо при наемном труде это же количество людей за целую неделю не сработало бы столько.
Но, любуясь разными картинами труда, даже Колобов невольно забывал свое корыстолюбие. В нем просыпалась в это время та большая сила, которая любила больше всего просто созидание, двигающее душей народа.
И тут уже не он, не досужливый и грубый Колобов, а приглашенная им в помощь Лизавете Надежда Чураева могла раздумывать о том, что хочет и что может этот сильный человек.
В этот день Надежда Сергеевна вся приободрилась, позабыла все недавнее и улыбалась величавой, неописуемой красоте движения сотен созидавших и творивших рук. А в блеске взглядов, подогретых состязанием, похвалой или маленькою лаской в виде теплой, посыпанной сахаром оладьи, было истинное, творчески-непобедимое и даже неземное, а какое-то иное, горнее стремление — бескорыстно созидать и радоваться беспричинно.
И вот на этом-то смотру труда внезапно увидал себя Онисим.
Как свояка и как бывалого, Колобов назначил его старшим по уборке только что созревшего овса. Но, Боже мой, что сделалось с Онисимом, когда он увидел серебряное море овсяных полос! Он позабыл, что он был старшим, и первый превратился в самого последнего и младшего рабочего, и этим редкостным примером так подвинул дело, что к полудню, когда на полосы с наливкой прискакал сам Колобов, — из семидесяти десятин овса на корню осталось меньше трети.
На стане всех ждала душистая похлебка из молодого барана, но ели ее на ходу и где попало. С целым возом шанег, пирогов и лакомств прислала Надежду Лизавета. И, обнося на полосе всех помочан, Надежда Сергеевна увидела: как непрерывный вихрь, как радостный пожар — весь этот труд среди полос в полях.
Здесь было пять косилок, две сноповязалки, и все-таки десятки косарей ходили и косили, состязались с машинами. А несколько десятков женщин, девушек, подростков бросались на ряды свалившихся колосьев как на драку. Они хватали друг у друга каждый сноп и, ярко разодетые, веселые, поющие и бегающие вприскочку, казалось, совершали пляску дикого веселья. Это было так могуче, что Надежде захотелось плакать. И было так обидно, что здесь не было Василия. И было горько-горько, что в числе этих людей не пел, не прыгал, не смеялся Викул. Потому что для нее лишь тогда бы в этой радостной картине созидания в полях было воплощение истинного, самого большого счастья. Как поздно все это она узнала!..
Но вот среди снопов она внезапно увидела Онисима. Одетую в простое рабочее платье, загорелую и похудевшую, он не узнал ее.
— Онисим! Здравствуй!
Онисим оглянулся, и лицо его расплылось в гримасу бурной радости...
— Сергевнушка! Родная!.. Вот ты, Господи!.. А Фирсыч?..
И, захлебнувшись чувством, не докончил. Через плечо окинул умиленным взглядом бесконечную равнину, всю посеребренную сверкавшим в свете полудня овсом, засыпанную свежими, пахучими, кудрявыми снопами, и закричал еще азартнее:
— Ну, прямо дух тут захватило!.. Экая, Сергеевна, страна Господня! — и, с ожесточением бросаясь на снопы, закончил с грустною ноткою: — Ну прямо, слышь, не ушел бы от экой благодати!.
Онисим даже позабыл съесть данную ему ватрушку — положил на сноп для Степки — и снова отдался сладостному шелесту кудряво-серебристых овсяных снопов. Так они были милы его душе, как малые и милые ребята. Так ласков был их шепот, и так полны были весельем и радостью их кудри, купавшиеся в океане солнца, неба и молитвенного восхищения Онисима.
Забыл Онисим здесь о недостроенной избе своей, о Марье и о Степке, брошенном где-то на телеге с края полосы, забыл и о самом себе, но просто и самозабвенно слился с тем огромным и неизъяснимым счастьем, которое все состояло только в легком ветерке, так любовно распушившем его волосы и так смешно напузырившем его синюю рубаху на вспотевшем теле.
А между тем так скоро, так обидно-скоро мчится время, и конец веселого большого дня так неожиданно наполнился румянцем предзакатным.
Все артели шумно ехали в село и оглашали его песнями на все лады и голоса. Огромный двор усадьбы Колобова не вместил всего народа, и большая площадь между волостью служила продолжением хозяйского двора.
А с полей, с завода, с берега реки, с покоса, с мельницы, с заимки — с песнями, с колокольцами, верхами, и в телегах, на парах и на тройках лошадей, с косами меж колен, с серпами на плечах, в веселых солнечных повязках из соломы съезжались и сходились запоздавшие все гуще и дружнее.
У ворот усадьбы Колобов и Лизавета всех встречали, угощали и ласкали, словно сказочные царь с царицей... И когда толпа народа все запрудила, сын Колобова Ваня вышел из лавки с огромной гармоникой и грянул плясовую.
И не удержался сам растроганный, могучий и счастливый Андрей Колобов. Он плавно поднял руки, отодвинул от себя Лизавету и тотчас же поманил ее к себе игривой и лукавой улыбкой.
И, стукая о землю новыми большими сапогами, зачастил зазывно:
- Эх, во лузьях!.. Эй, во лузьях!
Во лузьях, лузьях — в зеленых во лузьях.
И пошли, и закрутились, заповскакивали головы в платках и картузах.
- Эй, вырастала!.. Эх, вырастала, -
Вырастала трава шелковая,
Да расцвели цветы лазоревые...
И тут же, не останавливая пляса, Колобов глазами и маяченьем стал составлять из девок и парней свою любимую восьмерку.
Уже были в кругу все восемь, но он все еще маячил и сзывал, выбирал в толпе и спаривал все новых плясунов с плясуньями. И разрастался круг восьмерки, ширилась, росла и все шумней прихлопывала, подпевала, подгикивала и подплясывала развеселая толпа.
И всех крутил, и всех водил, и всех по-чародейному вплетал в восьмерку Андрей Саватеич... И даже появились в кругу лысины, и стала развеваться седая борода Степана Степаныча. Оплетали ноги сборчатые сарафаны пожилых и полнокровных баб и бабушек.
Не стерпел, ударился вприсядку радостный Онисим, волосы которого были повиты венчиком из овсяной соломы.
И в эту самую смешную и забавную минуту пляски вдруг ударил набат на колокольне...
Пляска прекратилась. Все на площади, в ограде и в домах расстроились и заметались. Полились, посыпались во все концы села бегущие сельчане. Всяк спешил спасать свой дом и свой живот... Но нигде никто не видел ни пожара, ни дурного злополучия. Бросились на колокольню...
А там, на обсиженной голубями лестничке, стоял без шапки, лысый и седой блаженный Феденька, волостной рассыльный, и торопливо ударял в главный колокол, горько всхлипывая.
Со смехом, с руганью и с подзатыльниками сволокли блаженного на площадь.
— Что же ты, дурак, народ сбулгачил?.. Самое веселье распугал!
Но Феденька не отвечал народу. Плакал и протискивался к волости.
И только в волости, когда нашли и привели подвыпившего старшину — он тоже был на колобовской помочи, — Феденька достал из-за пазухи пакет, который он привез из ближайшей волости, и, подавая его старшине, вдруг люто огрызнулся на толпу и, указывая на пакет, сквозь слезы проскрипел:
— Беда пришла... А вы блажитя!..
И захлебнулся от внезапной и немой обиды. Никто и ничего не понял. Однако все в тревоге замолчали и смотрели на нахмуренное, бородатое лицо старшины, с трудом читавшего бумагу.
Не успел угаснуть день большого радостного трудового дня, как все село покрылось паутиной тонких женских причитаний. А Феденька блаженный торопливо бегал от окна к окну и стуком старенького костыля вколачивал печаль, как гвозди в крышку гроба, в каждый дом, в каждую лачугу:
— В волость, братки, которые солдаты!.. Поскорея!..