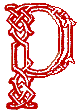 аспустилось, расцвело и распласталось по горам и по долинам тяжестью налива лето.
аспустилось, расцвело и распласталось по горам и по долинам тяжестью налива лето.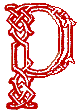 аспустилось, расцвело и распласталось по горам и по долинам тяжестью налива лето.
аспустилось, расцвело и распласталось по горам и по долинам тяжестью налива лето.
Давно такого плодородия не помнят старики. Дни страды текли, как исстари, напряженно и поспешно и дополняли зори утр и вечеров полнозвучной песней, сладостной в истоме отдыха.
Большой отрадою был уголок Васильева покоса в горной впадине, между лесом и ручьем. Уступил ему покос на это лето сельский староста. И дешево. Всего лишь за скупой совет:
— “Держи печать за пазухой”.
Староста по неграмотности насидел начет и пришел к Чураеву с докукой как к заступнику, как многие к нему теперь ходили. С прошлогоднего суда особенно повадились приходить к нему за защитой озорники и воры, и потому Чураев скуп был на слова.
Полюбил он ездить на Гнедчике на свой покос. Изредка брал всю семью, и на фоне сочной зелени и леса Наденька опять казалась и моложе и красивее. Для нее весь мир здесь становился как один источник радостных улыбок. Она всем улыбалась здесь, и ей все улыбались. Нежною симфонией звучали здесь голоса ее детей, и легок и прозрачен становился день, сливаясь с лазурью неба.
Совсем не чуял свое тело сам Василий, и даже потный труд косьбы был только украшением бытия. Забыл он здесь, что уже давно не брался за перо, не читал книг, не отвечал на письма и позабыл их получать. И благо: полная силы тишина спустилась в его душу, и когда ступал ногою на траву или шел по лесу, то чуял он — человек воистину.
Однажды рано утром, приехавши с Колей и с ружьем, он приготовился пойти на выводок тетеревов, но сел на первый пенек в лесу и, посмотревши вокруг, залюбовался рисунком верхушек леса на чистой синеве неба. Солнце еще не взошло, но заря уже разгорелась и пробивалась сквозь гущу леса тихой, пламенной, далекой радостью.
Что-то запел Василий, но оборвал, ибо тишина боялась даже шороха. Он отыскал в карманах обломок карандаша и одно из мужицких долговых обязательств за проданную сенокосилку и на обороте его набросал:
“Можно ли спеть песню о реке и кончить? Нет, нельзя окончить песни о теченье вод, ибо они сами будут продолжать ее своим течением всегда, ныне и присно. Ибо бесконечно их теченье и таинственны пути их возвращения к начальному истоку. Но припади ты ухом чутким к матери-сырой земле и послушай ты ее велений праведных...”
“... Нова ли жизнь? Стара ли жизнь? Никогда не нова, никогда не стара. Всегда едина, вечна и прекрасна — лишь умей понять ее не разумом, но сердцем...”
“И если ты открыл что-либо новое, то, милый друг, поверь, что ничего ты не открыл, но лишь познал издревле бывшее и сущее всегда!”
Он спрятал листок и еще раз огляделся. Его постоянный друг и спутник Коля, заснувший по дороге, спал в телеге, а Гнедчик, наевшись сочной травы, дремал, стоя на лугу как бронзовое изваяние.
Василий встал, повесил на сучок ружье и ягдташ и тут же на поляне, окруженной лесом, опустился на колени.
Он не сознавал, что делает, ибо, стиснув руки у груди и устремившись к ярко разгоревшейся заре, твердо и полнозвучно произнес:
— Господи! Благодарю Тебя!
Лишь от собственного голоса он очнулся и понял, что именно вот так, вот в эту именно минуту и этими словами он должен был помолиться. И упоительно-жгучий озноб всего тела облил его, как струя ключевой воды. И уже в полном сознании он повалился на землю и повторял все так же полнозвучно:
— Благодарю, благодарю, благодарю Тебя!
И не так, как там, на высотах Памира, но совсем реально ощутил, что Кто-то, неизъяснимо благостный, более тихий, нежели тишина утра, более лазурный, нежели лазурь небес, более благоуханный, нежели благоухание всех лугов земли, стоял над ним и вокруг него и в нем самом. И наполнился Василий радостью, никогда, нигде не испытанной, и непоколебимой верой, что вот это и есть то чудо истинного познания Бога, которое сейчас повергло его ниц, как ветер малую былинку.
Не смея поднять с земли лица своего, он лежал как пораженный и не замечал ни того, как теплые слезы его капали на траву и смешивались с чистою прохладою росы, ни того, как пробудившийся от его голоса Коля стоял в кузовке телеги и широко раскрытым, почти испуганным взглядом смотрел на молящегося отца. Поднявшись, Василий еще долго смотрел на узор леса, отчеканенный на синеве неба, и лицо его было сурово, даже хмуро. Упругой силой налилось все его тело, как будто он наполнился великим гневом для великого сражения за то, что приобрел здесь в это утро на заре. И увидал широко раскрытый взгляд сынишки. Приблизился к нему все такой же суровый. И ничего не спросил Коля. Ничего не сказал Василий. И от этого еще сильней и глубже укрепилось в душе мальчика это видение утренней молитвы на земле.
На охоту в это утро они не пошли.
Полный сурового торжества, долго без ружья бродил Василий по лугам и лесу и громко, стараясь подражать отцу, распевал:
Пойду в твои луги зрети
Многие прекраснии цвети.
Пребуду зде своя лета
До скончания века...
Потом, когда обсохла трава, накосил травы. Вместе с Колею набрали на прокосе полную шапку клубники и веселые поехали домой обедать.
С этого дня с особенным вниманием стала посматривать на Василия Надежда Сергеевна и не могла понять нового, сурового и вместе радостного блеска его глаз. За последний месяц он ни разу не подстригал своих волос и как-то весь замшел. Похудел и стал прямее, еще быстрее в движениях, еще скупее на слова. В глазах же, еще более запавших и больших, появилась, кроме остроты хозяйского догляда, еще какая-то настойчивая пристальность. Не только взглянет, но и до конца прочтет глазами, до конца додумает и решит без колебаний.
Он не был ни уступчив, ни скуп, не любил о чем-либо просить соседей и сам не одолжал, но все-таки все мужики первые снимали перед ним шапку с тем теплым мужицким уважением, которым они дарили только редких, безупречных и почетных стариков. Но по делам, с докукой, чаще присылали своих баб и непременно “через самое”, “через Сергеевну”. Она казалась проще.
Казалось, что Василий слушал неохотно, никогда не оставляя дела, ничего не обещал, не утешал, даже не советовал. Но часто шуткой либо пустяковым случаем из жизни даст такой совет, что и горестные уходили от него веселыми. Иногда отпустит человека ни с чем, но назавтра сам зайдет и все-таки поможет.
— Нутром подходит к человеку, — говорили о нем бабы.
— Башковатый мужик! — поддакивали старики.
Узнав обо всем этом, даже грубоватый Колобов хвалился:
— Вот какого человека я вам добыл. Вы такого и не стоите.
И так Василий вошел в мужицкую среду как свой, понятный и простой, хороший человек. Но не могла смириться с этим Наденька, замученная недосугом и таившая в себе тоску по лучшей жизни. И в особенности опечалило ее письмо профессора Баранова, которое Василий получил вскоре после чудесно проведенного им утра на покосе.
“Милостивый Государь!
Обязанный отчетами перед Императорскою Академией Наук, я должен был еще весной представить труды всех членов моей экспедиции. Прошу вас ускорить присылку мне вашего труда по изучению некоторых религиозных обрядов на Востоке. Адресовать прошу на имя Виктории Андреевны Торцовой в Иркутск, где я буду в сентябре.
В. Баранов”.
Внизу была убийственная приписка:
“Виктория Андреевна прислала мне статью о вашем выступлении в суде. Я не знал, что вы талантливы и в этой области”.
Прочитав письмо, Василий чуть заметно усмехнулся, потом нахмурился и один уехал на покос. Там он долго косил. Когда устал, вымылся в ручье холодной водой, поел у воды хлеба и опять косил. И только когда закат окрасил лес и горы, он вспомнил, что пора ехать домой. Лошадь была уже запряжена, когда он отыскал в кармане клочок бумаги и набросал карандашом письмо на имя Торцовой. Дома он старательно переписал его и показал жене. Надежда Сергеевна в робком молчании читала и не понимала. Между тем в письме было все ясно.
— “Многоуважаемая Виктория Андреевна!
Во-первых, благодарю вас за посылку известной вам статьи профессору Баранову. Во-вторых, не откажите передать Виталию Афанасьевичу, когда он приедет к вам, что труд о религиозных обрядах восточных народов мною никогда не может быть написан. То же, что я напишу о религиях — Востока и Запада, — Академия наверное не напечатает. Поэтому я искренно считаю себя должником профессора Баранова и рад, что теперь имею возможность постепенно возвратить полученные мною авансы. Жду лишь указаний, куда я должен направлять деньги”.
Надежда Сергеевна одобрила письмо улыбкой.
В последнее время она часто трогала Василия своим молчаливым согласием. Как будто она ждала чего-то грозного и кротко слушала вокруг себя безмолвие судьбы.
Накануне Прокопьева дня в сумерках около подновленных ворот усадьбы Чураевых остановилась пара взмыленных саврасых лошадей в сбруе, покрытой чешуйчатым китайским серебром. Новая красивая телега была сильно забрызгана жидкою землей.
— Эй, хозяева, открывайте ворота! — пропел Андрей Саватеич, не выходя из телеги. Он был в новых сапогах, а возле ворот от только что пронесшегося ливня стояла лужа.
Василий был на молоканке и из-за шума сепаратора не слыхал хозяйского голоса. Надежда Сергеевна на заднем дворе в хлеву кормила двух маленьких, только что приобретенных породистых поросят. Поросята не хотели есть одну пахту без примеси чего-либо вкусного. Особенно капризничала самка. Порывшись в пахте, она подняла мокрый розовый пятачок к хозяйке, и ее узенькие мутно-синие глазенки из-под сетки белесых ресниц выражали недовольство и мольбу. И она орала так, будто ее резали, и вызывала у Надежды Сергеевны острое желание прибить ее. Но в поросенке было что-то трогательное и смешное, и хозяйка уступила: она пошла в дом за хлебными крошками.
— Эк разбогатели! Не дозовешься, — крикнул ей Колобов, вводя лошадей в открытые им самим ворота.
Из телеги улыбалась Лизавета. Она сидела в ярком праздничном наряде и под зонтиком, хотя дождя уже не было.
Чураев вышел из завода, когда Колобов помогал жене сойти с телеги. Он заметил множество мелькнувших белых, с кружевами, и разноцветных шелковых шумящих юбок и слушал дружественно-сердитый крик хозяина:
— Ты, што же, язви те в печёнку, бабу-то свою эдак заморил! Смотри, как я свою лелею: в ширь пошла!
Это был первый семейно-дружеский приезд Колобовых к Чураевым как к равным. И потому хозяева по-сельскому радушно и широко приняли гостей.
Лизавета была в интересном положении. Зная, что начавший седеть муж еще больше ее любит и с небывалой нежностью ждет от нее непременно сына, она привередничала и вздыхала:
— Ох, однако, не снесу я... А он как сумасшедший: как помчит-помчит!
— Да врешь ты! — радостно смеялся Колобов. — Я только раза два пустил, и то по тракту. Ни ухабинки. Тебя же от тучи дождевой умчать хотел, дурашка!
Оказалось — они мимоездом. Поехали к Прокопию Праведному по обету Лизаветы. Помог бы разрешиться правильно.
Прокопий почитался здесь глубоко, и неведомо с каких времен. В ближайших селах даже и церкви не было ему построено. О ските или монастыре и слуху не слыхать. А было — и теперь оно есть — прекрасное большое озеро в горах, овальное, лазоревое, с островком на середине и с названием: Белое. На северном конце его стоит простая деревянная часовенка, а в той часовенке вделан медный складень в дерево, вот и весь храм — скит Прокопия. Никто в часовенке той не живет, не молится — весь год она одна стоит, и низенькая дверка запирается на палочку. Редко кто в нее заглянет, потому что в ней живет один невидимый рыбак — блаженный, праведный Прокопий. И видают только праведные и немногие, как поздно вечером отплывает от часовенки лодочка, а кто на ней — невидимо. А на заре поутру опять же лодочка на месте. Ночь плавает Прокопий по водам Белого озера, а день весь молится невидимо за грешный мир в часовенке. Старенькая лодочка без дна так и стоит всегда у берега возле часовенки. И веслышки всегда в ней новые, и много их. Часто рыбаки привозят в дар Прокопию по веслышку. Когда не хватит у кого весла, ветром унесло или человек недобрый взял, — у Прокопия всегда можно одолжиться. У него всегда излишек весел.
И вот в Прокопьев день, восьмого июля, стекаются к Прокопию в гости со всех окрестных сел, и со степей, и с гор люди. Всегда пустынно-бирюзовые, холмистые берега озера покрываются тогда народом. Во всех концах телеги, шалаши, палатки и дымят костры, а у берегов удильщики и купальщики, и стар и млад. Холодная прозрачная вода озера особенно целительна и телу и душе в Прокопьев день.
Все это степенно рассказала Лизавета, а сам Колобов прибавил:
— Верст сорок, не более. Поедем, разгуляемся все вместе? А главное: утка теперь на крыле. Перелеты там хорошие.
Чуть свет все собрались и выехали ровной рысью. День начался уже на полпути и распустился ясно-голубой денницей.
И вот, когда обошлось солнце, в большой толпе по-праздничному расцвеченного народа, поднявшего иконы, из ближайшего горнозаводского села Кол-Ивановского Василий Чураев шел с открытой головой, как все, простой, мужиковатый, в голубой сатиновой косоворотке, в высоких сапогах, и подпевал со всеми самое простое и несложное:
“Праведный угодниче Прокопий, моли Бога о нас”.
Он слился с первобытною, язычески-веселою толпой народа, который шел и пел так просто и охотно, как может петь толпа и от избытка горестей житейских, и от услады солнечного дня в июле.
Впереди, поблескивая серебром и золотом, мерно колыхались хоругви и знамена, и первым шел тяжелый металлический крест с лучеобразным сиянием. Крест несли поочередно самые большие мужики, и чаще других крест качался в руках высокого странника с остриженною головой в черно-седой щетине. Щетиной же торчали грубо стриженные борода и усы. За плечами крестоносца горбилась котомка, и веревочки, ее державшие, крестообразно оплетали большое, полусгорбленное тело.
Этот загорелый странник в выцветшем монашеском подряснике, босой и изможденный, напоминал Василию дурочка Анимподиста при Андроньевом монастыре в Москве. Тот так же во время крестных ходов добровольно нес самую тяжелую хоругвь или икону. Но было в этом незнакомом страннике нечто близкое, давно знакомое, почти родное. Где и когда он видел эту широкую бровь и тонкий, точно на иконе, нос? Не расстрижен ли знакомый дьякон из Андроньева?
Странник, видимо, давно не евший и не отдыхавший, нес крест через силу, тяжело дышал и гнулся под крестом, но улыбался, шел и подпевал прерывистым усталым голосом.
И захотел Василий разделить труд странника. Протолкавшись наперед, он взял из напряженных волосатых рук тяжелый крест. Но не успел он заглянуть в лицо монаха-странника, как тот отстал и затерялся в толпе.
Терпеливо, хоть и трудно, но донес Василий крест до часовенки Прокопия и все оглядывался, все хотел увидеть странника.
Заранее приехавшие Колобов с женой и Надежда Сергеевна с детьми уже остановились на одном из лучших мест у озера, в зеленом косогоре, между двумя белыми березами и на виду у леса.
Но зоркий Колобов увидел издали Василия, приблизился и подмигнул:
— Поспасаться малость захотел?
Василий улыбнулся, поставил крест, вытер пот со лба и отвел глаза, отыскивая ими все того же странника, но странника нигде не находил.
Возле часовенки началось молебствие. Чураев продолжал стоять в толпе и подпевал за всеми, слушая, как тают голоса в необъятном храме мироздания, и зная, что не Богу нужно это пение, а поющим. И как никогда, он понял все величие свершений в самом малом и в самом простом. И, как все простые верующие, он после молебна подошел к кресту и склонил под крапило голову.
Священник встретил его улыбкой и, придерживая золотое распятье у груди, обласкал хорошим словом:
— Приятно нам такого гостя на нашем торжестве духовном видеть. Мало в наше время эдаких людей ученых.
Василий поклонился и прошел и даже не вспомнил, кто он был и почему здесь. Никакие мысли не терзали, не тревожили его, не придирались к его совести, не возбуждали разум. И не было противоречий, никаких вопросов к самому себе, никаких претензий или требований к другим. Даже не подумал, отчего жена и дети не пришли к часовне. Городской наряд и цветной зонтик Надежды Сергеевны мелькнули где-то в стороне и отделились от толпы. Но прекрасно было то простое, что давным-давно умерший старичок Прокопий, неведомо когда и где рыбачивший, ежегодно созывает к себе эти пестрые толпы народа, а сегодня чем-то благостным коснулся и Василия. И был весь этот полдень тою светлою частицей радости, которая недавно повергла его на лесной поляне ниц перед неведомою светлой силой.
Единственное, что чуточку тревожило, это вопрос:
— “Где странник?”
Василий обошел вокруг толпы, разыскивая странника и, не находя его, стал удаляться от часовенки, огибая озеро глухою тропкой меж густых кустарников. Невольно засмотрелся он на озеро, в глубине которого утопало опрокинутое небо с медленно плывущими жемчужинами облаков. И увидал за озером высокие, далекие муаровые горы с вечными снегами на вершинах. А у берега внизу стояли камыши. Они глубоко забрели в воду, чуть колыхались, точно кланялись, и тихо шелестели что-то тайное и ласково-святое. Лодочка вдали с одним лишь рыбаком плыла, как черный маленький жучок. Островок на середине — точно маленький плавучий город с крошечными острыми храмами. Холмы, волнистой рамой окаймляющие озеро, — все это только маленькая видимая деталь одной жемчужины — Земли, одной жемчужины, летящей в бисере, невидимо связующем все мироздание в единое и явное создание сил невидимых, но светло — вездесущих.
И снова захотелось поскорее встать на колени и молиться, упиваться силой веры в истинно и непреложно сущего, столь просто обретенного живого Бога, близкого и видимого всюду и во всем, всегда, ныне и присно.
Отблистал уж полдень.
Колобовы и Надежда Сергеевна с детьми давно отобедали. Коля и Наташа волновались по случаю первого окуня, добытого ими вместе. Событие было бурное и спорное: кто добыл окуня? Тот ли, чья удочка, или тот, кто первым вытащил окуня из воды? На берег позвали маму. А она, уча детей, сама невольно увлеклась рыбалкой. Оживилась, разрумянилась и с веселым молодым волнением таскала из воды один по одному упористых и красноперых окуней.
Колобовы после плотного обеда прилегли в тени наскоро устроенного шатра и заспались в обнимку.
А Василий все еще не приходил на стан.
Угадал ли кто-нибудь простую тайну, почему молящиеся всех народов и во все времена после устремлений к небу своих взглядов кончают свой молитвенный экстаз покорными поклонами земле?
Не потому ли, что сама земля в минуты моления человека откликается на зов его и любовно раскрывает перед ним свои объятия? Или же потому, что устремленный к небу дух бросает свою оболочку, бессильно падающую на землю?
...Умиленный любованием гор, воды и неба, Василий снова, как недавно на покосе, испытал блаженное прикосновение к тому неведомому и простому, что есть единый свет, тепло и радость безотчетная, и сон с открытыми глазами, и облако жемчужное, плывущее в лазури, — Бог!
И снова захотелось ему помолиться одному в тиши полуденного света, среди пахучих и густых кустов черемухи. Он медленно забрел в кустарник, опустился на колени и, забыв о времени и о себе, закрыл глаза. И вот он понял — что это такое: позабыв себя, стать только малою и неподвижною частицею земли, а духом слиться с космосом и раствориться в океане благостной, бессмертной тишины. Должно быть, так же сладостно быть на земле каждому камню горы, так же упоительно быть атомом невидимого, бесконечного пространства. Да, это сон без сновидений. Да, это смерть, воскрешающая к вечной жизни. Да, это полное небытие во имя бытия. Нет, это вечный праздник бытия даже в отрицании его, даже в скорби, даже вне смысла бытия. И благословен познавший эту тайну, явную для каждого. Ибо для познавшего это — нет более скорбей земных, но все земное — только радость!..
И радость эта залила все существо Василия Чураева, и даже закрытые глаза его были ослеплены ее блистательным светом. И он открыл глаза и поднял их к синеве глубин небесных...
Но вдруг эти глубины кто-то заслонил и отнял понимание, разрушил сон и сделал тело бренным и болезненно пугливым.
Как будто вырос из земли огромный сгорбленный оборванец в монашеском подряснике, с полуседой торчащею щетиною на голове, усах и бороде. И жутко выкачены были его налитые кровью глаза, ощерены крупные зубы и неумолимо поднят волосатою рукою камень.
Нет, не проносились годы и не было течения дней с того момента, как Мясник Ерема встал кошмаром на лесной поляне, там, вблизи Чураевки. Это он стоит и медлит бросить камень в младшего Чураева.
Не успел или не мог Василий ни сказать, ни подумать, кто был перед ним воистину, как бродяга с искаженным злобою и страхом, испитым и черным от загара ликом, качнул два раза камнем, как бы метясь и боясь промахнуться, и ударил им Василия.
И только в тот момент, когда камень уронил Василия на землю, Василий узнал брата и, падая к его ногам, с мольбой позвал:
— Брателко-о!.. Прости... Помилуй!..
И остановился над упавшим человеком человек, бросивший камень. Судорожно взял он новый камень и, наполненный неукротимо злобою, впервые в жизни своей порешил в себе: исторгнуть скорбь свою и месть убийством. И, наслаждаясь страшной радостью победы, медлил и смотрел на побледневшего и улыбающегося Василия и прорычал, как эхо:
— А-а!.. Помилуй!
Но почему-то сам собою выпал из руки его камень, и почему-то потянулась эта же рука к свежей, тепло-красной ране в мокрых темно-русых волосах, а моляще-улыбающийся взгляд повергнутого наземь человека все смешал, все спутал и затмил собою солнце.
И повалился монах-бродяга рядом с побежденным на траву, схватил окровавленную голову его огромными дрожащими руками и начал обнимать, и начал приговаривать надсадным шепотом:
— Пошто же ты?.. Пошто же я...
И заревел, завыл большой и страшный человек хриплым ревом самого глубокого, бездонного отчаяния. И оттого, что воли не нашел, и оттого, что нет ему на свете радостей, и оттого, что брата своего, врага смертельного и самую родную кровь любимую, убить пришел, и вот убил его...
— Убил!.. Убил!.. Васютанька! Болезный мой... Гляди сюда, гляди глазами родными, мой брателко... Судьба наша несчастная!..
А Василий, обливаясь кровью и хватая за руки бродягу, умолял чуть слышно:
— Не кричи ты... Не шуми... Скорее голову мне завяжи... Рубаху мою разорви скорее...
— Жив ты? Жив ты? — не веря, спрашивал бродяга и, силясь разорвать рубаху на Василии, теребил ее трясущимися руками, прикладывал к кровавой ране и прыгающим голосом шептал:
— Ты жив ли?.. Жив!? Больше мне теперь не надо ничего, родимый!
И обнялись оба, братской кровью окрашенные, и рыдали в солнечных кустах рыданием великой скорби и рыданием великой радости. И радовались не тому, что живы их тела, а именно тому, что души их светлы и живы, как свет этого золотого и проклятого, страшного и радостного дня Прокопьева.
И не решались выйти из кустов, и не решались друг друга оставить.
— Я выйду, заявлюся... Пусть меня заарестуют, только надобно мне тебя спасти! — всхлипывал Викул.
— Нет! Умоляю тебя Господом! Останься, отсидись, а ночью я тебя возьму с собой, укрою... Все отдам тебе: детей отдам и милую жену мою... Твою жену... Только не должна она тебя такого видеть...
Но рыдал, рыдал бродяга:
— Нет, нет, нет... Избави Господи! Да разве можно мне ей показаться? Разве можно воротить, што кончено?.. Да разве может доченька, малютонька, признать меня, такого, за родителя?.. Как зверя лютого, все испугаются меня... Пусти... Пусти же! Ты кровью изойдешь, скончаешься!
— Нет, подожди же!.. Дай мне слово, что до вечера ты не уйдешь, не скроешься! — просил Василий, чувствуя, как сладостно истечь до обморока кровью в этом познавании Бога в брате. И все бледнел и улыбался и слабел в его объятиях.
— Да ты же кровью изошел! — заревел бродяга в голос. — Не могу я!.. Не хочу я быть твоим убийцей... И она же как с детями горькими останется? — вдруг вырвалось надрывным стоном из груди его и разлилось истошным криком: — О-ох-хо-оо!.. Спаси-ите!..
И вырвался из рук Василия, встал и побежал на берег озера.
Выскочил на крик из шалаша в одной жилетке Колобов. Пошел навстречу и увидел позади бродяги едва идущего и окровавленного друга своего, Василия Чураева.
И собралась толпа вокруг монаха-странника. А он упал перед толпою на колени, смотрел на солнце большими не видящими никого глазами и молил и каялся:
— Брата моего спасите... Брателку зашиб я камнем... И вяжите меня, братцы... Беглый я из каторги... Чураев Викул...
Василий же хотел кричать, чтобы не верили, но не мог. И только видел, как от берега на крик бежала тоненькая женщина, жена его, а вслед за нею двое: девочка и мальчик,- такие милые и такие посторонние, чужие и далекие. Собрав остаток сил, он едва держался на ногах и видел, что Наденька все поняла и сгорбилась, готовая принять все новые удары на себя.
Зажимая рану и шатаясь, подбежал к ней Василий и, стараясь улыбаться, произнес:
— Не бойся ничего... Все хорошо...
И тогда лишь все увидели друг друга, все затихли, все застыли на местах. И каждый из троих, и даже Коля и Наташа, и все чужие люди, и впервые в жизни сбитый с толку Колобов — все молча поняли, что надо молча что-то слушать до конца.
И в тишине послышался надорванный и чем-то радующий стон из впалой, некогда могучей груди Викула, как будто он уже испил всю горечь чаши:
— Слава Тебе Господи!.. Живите со Христом!.. Родимые мои!..
А Василий от потери крови изнемог и повалился рядом с братом на протянутые к ним обоим тонкие, такие любящие руки женщины...
Только тут все понял, прочитал своим орлиным взглядом Колобов. И первое, что сделал, — свирепым криком разогнал толпу. Мирно разошлись все люди, понявшие все просто, мудро и легко:
— “Из каторги беглец... Несчастный... А несчастных разве могут судить люди... Пусть их Бог рассудит...”
И как сговорились: никто, даже меж собой, ни слова. Только покачали головами и переглянулись.
Так выносит оправдание несчастным сам простой народ – Суд Божий.
Но уверенны и быстры были все движения и слова Андрея Колобова. Потому что только он один соображал, как ценны уходящие минуты. Ибо лишь в подобных схватках жизни и смерти росла и укреплялась львиная земная сила.
Даже гнев его, пролившийся на онемевшую, потерявшую способность двигаться и мыслить Надежду Сергеевну, был благотворен и живителен. Захлебнувшись горем и не отрываясь от упавшего Василия, она очнулась от колобовского толчка, и показалось ей, что даже камни оживали от его прикосновений. И радостною песнею откликнулась земля, озеро и горы, когда он крикнул:
— Дышит!.. Отойдет! Не барин!.. — И взгляд его уже скользнул на Викула, на лошадей. Потом на Лизавету, которая умела понимать без слов его желания.
Схвативши узды, женщина легко скользнула по траве к пасущимся у леса лошадям.
— Попой их да веди скорей и складывай все на телеги! — кричал ей Колобов вдогонку и, заглянув в глаза бродяги, впервые в жизни оробел, не зная, что делать с этим человеком... Но вспомнил всю былую мощь, пригожесть и завидную степенность Викула Чураева. И на что-то вдруг решился.
— Подсоби мне положить его в телегу... — сказал он наконец бродяге.
Тот молча покорился. На лице его застыла маска скорби и улыбки. Блаженное безразличие к своей судьбе сделало его глухонемым и ничего и никого не видящим. Ибо все было таким чудесным, долгим и жестоким сном. Он слышал лишь внутри себя какие-то курлыкавшие нотки... Что это? Не весла ль на плотах курлыкают, а он плывет на них из гор родимых в далекое понизовье в поиски за сказочной царевной?..