ВЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
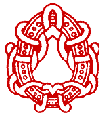 чем шепчет сухая трава при дороге, когда осенний ветер сгибает и треплет ее пожухлые листья? Стебли ее беспокойно и поспешно гнутся к земле, кланяются и куда-то рвутся, не умея оторваться от корней и побежать за желтыми листочками, оборванными ветром с тополей, берез и многочисленных кустарников. Веселой и покорною толпой бегут под ветром целые стада этих листочков, и кажется, что бег их осмыслен, что они знают цель своей поспешной погони друг за другом. Вот пересекла путь река, и, как мотыльки, они летят, садятся на воду и, плоские, покорные, плывут куда-то далеко без шума и без лепета, качаясь на струях или застревая плотною толпой на островке или возле перекинутого через речку дерева.
чем шепчет сухая трава при дороге, когда осенний ветер сгибает и треплет ее пожухлые листья? Стебли ее беспокойно и поспешно гнутся к земле, кланяются и куда-то рвутся, не умея оторваться от корней и побежать за желтыми листочками, оборванными ветром с тополей, берез и многочисленных кустарников. Веселой и покорною толпой бегут под ветром целые стада этих листочков, и кажется, что бег их осмыслен, что они знают цель своей поспешной погони друг за другом. Вот пересекла путь река, и, как мотыльки, они летят, садятся на воду и, плоские, покорные, плывут куда-то далеко без шума и без лепета, качаясь на струях или застревая плотною толпой на островке или возле перекинутого через речку дерева.
Да, во всем этом есть какой-то грустный смысл и вечно повторяющееся правило. Рожденные весною, маслянично-сверкающие и зеленые, травы и листья всю весну и лето украшали землю, служили ей какую-то большую, радостную службу, выхаживали и оберегали семена, и вот покорно убегают прочь, неведомо куда в поисках нового места на земле, где бы снова обратиться в пыль, в крупицу чернозема, в бесформенное ничто.
Василий лежал вблизи от трактовой дороги в небольшом скраду из косматого перекати-поля и предавался грустному бездумию и отдыху. Полуденное солнце светило не очень ярко и грело кое-как, но за ветром, в плотно закутанном скрадке, было тепло, по временам дремалось, и в дремоте шелест трав и бегущих мимо листьев превращался в сладостную и еле слышную музыку. Василий закрывал глаза и, ничего не думая, забывал, зачем он здесь и почему лежит в колючих, серых катышах перекати-поля.
Изредка доносился легкий шум, похожий на шипенье рассыпающихся льдин, и разумный, сторожкий и басовито-сдержанный командный окрик падал с неба на землю:
— Га-га-га...
Весь трепеща от непонятной радостной взволнованности, Чураев хватался за ружье, но не смел подняться даже на колени и, изгибая шею, заглядывал на небо.
Но мгновенно все понявший и увидевший засаду передовик уже командовал высокой нотою:
— Ки-га-а...
И вся летящая станица белобрюхих, серокрылых, крепко бронированных в осеннее ядреное перо гусей взвивалась выше или быстро уносилась в сторону.
И Чураев не выдерживал лирического настроения. Точно ужаленный, выскакивал из скрада и, почти не целясь, посылал в угон один за другим два выстрела.
Слышал, как после выстрела щелкала дробь по перьям птиц, а иногда видел, как одно-два перышка выпадали из их крыльев, но ни одна из птиц не падала на землю, и это оскорбляло, злило, доводило до отчаянья.
Разгоряченные стволы ружья, и запах пороха, и новые патроны — все казалось не настоящим, а фальшивым, нарочито сделанным для того, чтобы пошутить над ним и посмеяться в глазах Колобова, над скрадом которого с самого рассвета раздалось всего только четыре выстрела, а гусей упало с неба два, если не три. Даже слышно было, как они, падая, стукались о землю своей жирной тяжестью.
И пролетевшие в высоте гуси возбуждали ненависть, и чем дольше ждал и чаще пуделял Василий, тем настойчивее он хотел убить во что бы то ни стало хотя бы двух за все эти два дня. Хотя бы одного! А иначе — позорище, какого, казалось, не испытывал он никогда, замучит его, застыдит перед семьей и уронит в глазах Коли, который с такой недетскою надеждой смотрит на все действия отца.
Ветер усиливался. Гуси все реже и реже появлялись в небе, и их крики изредка доносились изредка с той стороны, где протекал Чарыш. Ясно, что в большой ветер они не рискуют лететь над полями, потому что над полями надо лететь низко, а это самое опасное для вольной птицы. И это тоже восстанавливало охотника против хитрых и осведомленных птиц.
Наконец после полудня неожиданно и совсем не с той стороны, откуда можно было ждать, на Василия налетело три отбившихся от стада гуся. Вид их был такой растерянный и глупый, что они летели прямо на него, сниживаясь, будто желая сесть возле скрадка.
— Ага, подождите же... — пробормотал он, и на этот раз выдержал необходимое спокойствие, нащупал мушку и, выцелив среднего, нажал собачку.
В первый момент за дымом он не видал, упал ли гусь, но ясно увидал, что продолжали лететь только два. Он осмотрелся и поодаль на жнитве увидел бегущую с волочащимся крылом большую и красивую птицу. Боясь, что гусь может улететь, Василий приложился и разрядил по нему второй ствол. Гусь задергал шеей, но продолжал бежать, в то время как шея его окрашивалась кровью. Ружье было разряжено, а гусь все-таки убегал и убегал в ту сторону, где сидел Колобов.
— Ну-ну... Кто наперед прибежит — тому пряник дам! — кричал Колобов с веселым хохотом.
Но Чураев, забыв всякий стыд, продолжал гоняться за окровавленною птицей, а когда догнал, ударил ее по голове стволом ружья, но птица все-таки не хотела поддаваться насилию и продолжала бить Василия нетронутым крылом, пока, наконец, Колобов не крикнул злобно:
— Да прикуси головку!
Но Василий не мог этого сделать. Он не мог взять в зубы живую голову и грызть ее и потому, выдернувши из крыла перо, долго тыкал им в живой, увертывающийся затылок и без того измученной, хрипящей птицы.
Когда же птица была умерщвлена и покорно свисла головою вниз, Чураев, унося ее, невольно увидал, что возле Колобова лежат три гуся, все без капли крови, без сломанных и измятых перьев, точно спящие. Лишь у одного был разорван зоб, и из него сыпалась румяная, свежесобранная пшеница. Очевидно, зоб треснул при падении с большой высоты. Значит, птица умерла еще в момент полета, значит, выстрел был по-настоящему охотничий, а не любительский.
С тяжелым чувством возвратился Василий в свой скрадок и снова лег, чувствуя сосущий его стыд, глухую злобу на свое дешевое ружье.
Он вспомнил, что тогда, пятнадцать лет назад, будучи почти мальчишкой, он бил без промаха в лет шилохвостых уток. Уж эти ли не быстролетные! Были такие выстрелы по дупелям дублетом, каких в охотничьих рассказах трудно вычитать. И тот же Колобов тогда ему завидовал. А тут совсем точно на карикатуре. Стыд и срам — пешком гоняться за подстреленною птицей...
Василию стало стыдно глядеть на свой трофей с израненною шеей: он подложил голову гуся под крыло и прикрыл птицу сеном. И снова лег, чтобы терпеливо ждать и в полудремоте победить свои охотничьи огорченья.
Затем, пересчитав патроны, Василий к ужасу своему увидел, что у него их осталось только пять. За два дня выпустил в божий свет целых девятнадцать.
И просить у Колобова невозможно, так как у того другой калибр ружья. Ну нет! Теперь уж он гадательно стрелять не станет. Ружьишко скверное и не пристреляно, патроны сделаны наспех, кое-как. Правое плечо болит от грубой отдачи. Нет, надо это дело упорядочить во что бы то ни стало.
Чураев сел так, что голова его приподняла все сооружение скрада, и засмеялся: если бы у него вовсе не было патронов, он бы почувствовал себя совсем прекрасно, свободно — до следующего приезда на охоту. А так как у него есть еще пять патронов, то надо израсходовать их по возможности наверняка и без запальчивости.
Но как волнуют эти отдаленные недосягаемые крики! Что за тайна в этом страстном желании во что бы то ни стало убить и уронить с высоты на землю хотя бы еще только одного гуся, но лишь красивым, легким, истинно охотничьим выстрелом...
Крики близились, и наконец Василий услыхал свистящий шум многих крыльев. Он пригнулся к земле, схватил ружье и увидал на фоне серо-желтого горизонта полей искривленную большую вереницу то взлетающих, то опускающихся к самой земле птиц, летевших против ветра медленно и неуверенно. Гуси подлетали к скраду все ближе и повернули в профиль так, что ружье нетрудно было навести и даже было время выбрать любого в пролетавшей веренице. Без надежды, даже без особого желания убить, но просто наслаждаясь этой редкой близостью дичи и возможностью убить, он выцелил одного и выстрелил. Ветер сдунул сетку дыма, и Василий увидал, как, падая, еще в воздухе перевернулся гусь. Другие взмыли вверх, но были досягаемы, и даже было время подумать: стоит или не стоит стрелять. И опять без особого желания убить он старательно приложился и ударил. На этот раз гусь, подкинутый ветром, хлопнулся в десяти шагах от скрада на твердый грунт дороги, и Чураев увидал, как золотым фонтаном брызнуло крупное разбухшее зерно из лопнувшего зоба птицы.
Как бы не веря такой удаче, он спокойно продолжал лежать в скраду, пока один за другим не раздались два колобовских, явно нервных, неудачных выстрела по тем же птицам. Лишь после этого, не торопясь, сходил за птицами, и обе, мертвые, с покорно закрытыми глазами, они показались ему грустно-милыми, такими, какими и должны быть все порядочные птицы, так красиво и мгновенно умирающие от прекрасного дублета.
Василий был так счастлив, что даже пожалел промазавшего Колобова.
— Одного черт угораздил бить навстречу, а другой был далеко, — оправдывался тот, когда Василий подошел к нему. Но Колобов запальчиво крикнул:
— Ну, уходи, садись на место! Сейчас начнется самый лет.
Василий отошел и снова сел в скрад, ощущая теплое присутствие и особый запах крыльев только что убитых птиц. Он расположился поудобнее — как человек, которому некуда спешить и нечего волноваться, достал из ягдташа кусок хлеба и небольшой флакон со сливками. Разжевывая хлеб, стал медленно, капельными глотками, запивать душистыми сливками из-под нового заимочного сепаратора. Трудно было бы представить что-либо проще, благородней и вкуснее этого обеда. Казалось, что мгновенно поступали в кровь и разливались по всему телу блаженство, бодрость и силы, и мысли в это время были светлые. И даже то, что жена на днях должна уехать в Москву, не беспокоило.
Она решила отвезти в Москву учить Наташу и устроить ее у отца на зиму. А он остается вдвоем с Колей, и Коля будет у него заложником и верною гарантией, что Наденька вернется скоро. Кстати, надо заказать в Москве ружье хорошее...
Над головою снова зашумели крылья, и новая ватага птиц, как на огромных волнах, то падала вниз к самому жнивью, то поднималась кверху, делая дугу и разрезая ветер сильными упругими крыльями.
На этот раз Василий целился почти вертикально, и снова выстрел был удачен. Гусь дрогнул и, распустивши крылья во всю ширину, как бы желая обнять ими весь свет и одним взмахом — до радостного юга с теплыми морями, был опрокинут ветром, и голова его на длинной шее мотнулась в воздухе, как плеть.
Любуясь этим падением, Василий даже не успел и не хотел стрелять из второго ствола и слышал, как позади опять раздались два беспорядочных выстрела и опять затем послышался раздраженный выкрик Колобова.
Чураев поднял гуся, взвесил его на руке и поглядел в сторону Колобова. Он почувствовал себя неловко. На три выстрела подряд он взял три гуся, а Колобов на четыре рядовых — ни одного. И все-таки он снова сел в свой скрад все с тем же чувством полного, переливающего через край блаженства от сознания полноты и радости той жизни, которую он избрал для себя, для сына и для дальнейшего потомства.
— “А в Москву на Рождество и самому не мешает съездить. Это хорошо и нужно. Никакого опрощенья или самоодичанья допускать не следует”.
И мысли строились созвучно. Пускай люди живут кому как нравится, а сам он будет жить всегда вот так: возле будничного труда с мелочными неприятностями и с навозом, возле коров с душистыми сливками и возле привольных полей с чистыми мыслями, как хорошо настроенные струны. Слушать их и упиваться жизнью, пока молод, крепок и здоров... Он почувствовал бы себя совсем свободно и легко, если бы гуси не налетали на него столь часто, низко и удобно для дублетов. Он опять заволновался, неудачно выпустил последние заряды и негодовал тому, что Колобов убил только одного за целый час прекрасного перелета. А потом радовался, что настали сумерки — и Колобов не обстрелял его. Пропуделяв еще три раза, Колобов рассердился и пошабашил. Он был недоволен охотой. Небывалое дело, чтобы за два дня он взял всего лишь четырех гусей.
Чураев же был счастлив и богат своей добычей. Сверх всего, доволен будет Коля: его папа не поддался даже Колобову, рост и быстрота речей которого внушали мальчику глубокое почтение.
Связав гусей, охотники перекинули их через плечи и зашагали к становищу, на берег реки, где у стога два дня отдыхал работник с парою саврасых.
* * *
Хотя стоял конец сентября и погода была ясная, — вода в Чарыше внезапно прибыла. Возле стога не было ни лошадей, ни экипажа, да и стог, стоявший в небольшой ложбине, оказался в воде. Река вышла из берегов и бушевала, продолжая прибывать. Ясно было, что, когда здесь шли дожди, в горах выпал большой снег, а во время недавних ливней снег растаял, и хлынувшие с гор потоки взбесили Чарыш, причиняя много бед лугам, деревням, переправам.
Взглянув на реку, Колобов не только понял, в чем дело, но и сообразил, что можно сейчас же отправить в Барнаул свежую партию масла на баркасе. И заторопился.
— Петруха-а! — закричал он кучеру, и вскоре из толпы ближайших стогов донеслось ответное и хриплое:
— Зде-есь...
— Эк, заспался! Запрягай, живо! — и хлопнул по плечу Василия:
— В Барнаул поплывешь? По такой воде в город долетишь в два дня. Понимаешь, чем это пахнет?
— Нет, не понимаю.
— Ну, потом поймешь... А сейчас укладывай своих гусей. Да сеном их переложи получше. На задок, в ящик, а не под сиденье же... Петруха! Лошадей попоил? Да поворачивайся — на езде покуришь. Эдакую воду в десять лет однажды Бог дает. Только бы хоть сутки продержалась — проскочить бы баркасу за мели. Ну, ежели мы ее за хвост ухватим, — худо-бедно две тысячи в карман положим. Тепленьких!.. Теперь понял? — весело, над самым ухом, крикнул он Василию. — И если выполнишь задачу без задержки — двадцать процентов чистого тебе на новую двустволку... Этой сволочью только в печи золу загребать, — ткнул он пальцем в ружье Василия, которое сам же одолжил ему.
Василий теперь понял и вполне одобрил план хозяина. На баркасах по Чарышу масло отправляли только раннею весной и поздней осенью. А чаще масло шло гужом, что удорожало его стоимость. Колобов, кроме того, хотел продать всю партию дешевле Аникина. Вот почему успеть отправить по случайной большой воде целый баркас с маслом — значило не только заработать, но и неожиданно ударить по карману конкурента. А это вдохновляло Колобова даже больше, нежели большой барыш.
Чураев крепко полюбил орлиную стремительность и редкую лисье-волчью изворотливость Колобова. А этот последний хозяйский маневр даже восхитил Василия.
Рядом с этим человеком он и сам делался все более упругим, настойчивым, поспешно-деловитым и не без смущенья чувствовал, что если б захотел, то мог бы стать хорошим деревенским кулаком.
— “Две не две, — рассчитывал Василий,- а тысячу целковых сэкономим”. — И тотчас сообразил: “Наденьку с Наташей подвезу до парохода. Браво!” — поощрял себя Чураев, слушая веселый звон бубенчиков богато оборудованной хозяйской запряжки.
— Дай-ка вожжи! — крикнул Колобов Петрухе. — А то они бегут у тебя, как клячи.
И Колобов, взяв вожжи, передал по ним саврасым всю свою горячую стремительность. Иноходец пошел полным ходом.
Петруха закурил, и вместе с едким дымом табаку в лицо Василия летели струи запахов хлебной сытой осени. Мимо проносились гумна, и скирды, и стога сена, а над головой стояли в вечном своем очаровании звездные сады, тихие в своем молитвенном молчании.
Поздно ночью, приехав в спящее село, Колобов на бегу соскочил с экипажа и, постучав в ворота дома, громко наказывал Чураеву:
— Лошадей-то до утра поставь в завозню, а утром раньше приезжай сюда. Овсом уж здесь накормим. Спят, не слышат. Петруха, лезь в подворотню...
Во дворе возле амбаров бухала цепная собака, и слышно было, что бухала она приветливо, чуя у ворот хозяина. Василий поехал на заимку.
А Колобов, наспех поужинавши, загремел во дворе и на огромном леднике, где были сложены сотни бочек с маслом. Петруха побежал будить паромщика Прокопия Егорыча, под охраною которого стоял в протоке хорошо отконопаченный и просмоленный баркас. Паромщикова баба сквозь окошко прокричала:
— Несчастье у нас: канат сорвало утресь. Паром снесло водой... Мается с ребятами, не емши, с самого утра.
Петруха знал хозяйский нрав и рысью побежал домой с нерадостным докладом.
Колобов приказал сыну метить бочки, а сам сел без седла верхом на рабочую лошадь и поскакал к парому. Прежде всего, несмотря на темноту, он увидал свой баркас, а потом расслышал тяжкий и надрывный крик Прокопия где-то далеко внизу:
— Доржи-и!..
Колобов вброд переехал небольшой, залитый водой овражек, с удовольствием отметив, что вода не убыла, а прибыла и, доскакавши до Прокопия, не говоря ни слова, ухватился за канат, который тот еле удерживал в руках.
— Вот спаси те Бог — вовремя ты прибежал, — усталым, задыхающимся голосом заговорил паромщик. — А то бы бросил, будь он со свету проклят... С утра мучаемся... Прямо выбился из силушки.
Колобов прихватил канат за хвост коня и через полчаса довел паром к причалу.
— Ну, спаси те Господи! Просто — Бог послал тебя... — радостно лепетал Прокопий. — А то ведь день-деньской мучаемся. Прямо с силы выбились. А по берегу здесь хоть бы кустик — не за что зачепиться. Спаси Господи, Андрей Саватеич.
Не до найму было Прокопию, но в это время отказать Колобову он не мог.
— Не спал ведь я всю ночь. Даже не ел с утра, — начал было он и вдруг закончил: — Ну да по воде, поди, не шибко притомимся. Ладно, поплыву. Сам, што ли, поплывешь со мной?
— Нет, приказчик поплывет.
— Это абокат-то?
— Он самый...
— Очень даже замечательно! — по-городскому выразился мужик. — Башковат, слыхал я, а? И пошто он тут у те живет? С какой нужды? — Мужик даже забыл об усталости, расспрашивая о Василии, но Колобов перебил его:
— Ну, об этом ты его самого спроси. Давайте выводите баркас, а я сейчас грузить начну.
— Ночью? — удивился паромщик.
— А то што же ждать, чтобы вода сбыла?
— Да оно верно што... Ну, давай, грузите... Только уж ты полуштофчик нам купи — ребята у меня перемокли. Выпьют с устатку и подсоблят.
— С первым возом штоф пришлю. А кончите погрузку — четверть будет.
— Вот, дай те Бог здоровья!.. Эй! Епиха, слышите?.. Айда, ведите баркас к парому. С парома-то грузить годнее.
Копыта колобовской лошади затракатали, удаляясь: тра-ка-та, тра-ка-та.
— Ну и сокол, будь он проклят! — выругался вслед ускакавшему купцу Прокопий. — Не успеешь оглянуться, а он те уже слопал...
Чуть забелел рассвет — к парому, потрескивая, подошел первый тяжелый рыдван с желтыми бочатами. Солнце не успело обойтись — погрузка была кончена, и огромный баркас тяжело вдавился в мутную, начавшую сбывать, воду, так что с парома надо было спрыгнуть на его борт, как с большой ступени.
Василий запоздал, и Колобов встретил его ядовитым окриком:
— Эк с бабой-то занежился! — но немедленно расхохотался, подбежав к Надежде Сергеевне.
— Пожалуйте, Сергевнушка, экипаж вам подан. Куда это вас Бог понес? — еще ласковее продолжал он. — Неужели в сам-деле в Москву?
— Да, в Москву, — хрупким голосом ответила Надежда Сергеевна и робко посмотрела на примитивное суденышко.
Колобов понял тревогу и, указывая на Прокопия, сказал ей:
— Вот этот дядя мне за вас в ответе. Ничего не бойтесь, только поскорей садитесь. Видишь, Фирсович, воды уже на четверть убыло. Если на мель посадишь — перегрузку я тебе на счет поставлю.
И Василий первый прыгнул на баркас, наскоро устроил там узлы и чемоданы, принял и усадил восторженно-испуганного Колю и растерянную Наташу.
С замиранием сердца протянула ему руку Наденька и, ставши на его колено своей маленькой, в праздничном ботинке ножкой, вскрикнула:
— Нет, это безумие... Мы детей с тобой погубим.
— Садись, садись на чемодан! — коротко сказал Василий, избегая ее взгляда, потому что ему было стыдно перед Колобовым за опоздание, а перед Наденькой за грубую спешку.
— Ну, готовы? — прокричал хозяин.
— А инструкции? — спросил у него Василий.
— Инструкция короткая: сегодня к вечеру перейти мели. А в Барнауле — на почте жди депешу. До востребованья... Ну, с Богом!.. — бросая Прокопию канат, совсем строго приказал хозяин, и уже когда баркас отчалил и поплыл вниз, Колобов побежал по берегу и крикнул: — Ниже прочих можешь четвертак скостить на пуде... А то довольно и двугривенного...
Потом он сел на лошадей, на которых приехали Чураевы, и с облегченным сердцем поехал домой. Потом надо съездить на заимку. Как ни хвалил Василий своего помощника, Колобов не верил и решил в отсутствии Василия за всем досматривать. А там надо мельницу пускать — как раз свежее зерно уже подсохло у крестьян. А там опять новое дело: кирпичный завод в компании с одним заезжим немцем затевался. Тут уже большие планы строил Колобов. Если они удадутся — Аникиным конец. Вот тогда-то Колобов и развернет свою работу. Тут есть где разгуляться его буйной головушке. Покажет он Аникину и прочим умникам, как может простой лесообъездчик без образования и без капиталов развернуть свои дела на дикой и нетронутой земле, где люди запинаются за золото, а не видят его, сучьи дети...
С последнего пригорка Колобов еще раз оглянулся на реку. Баркас его уплыл далеко и стал точно игрушечный кораблик. Прокопий заметным колышком стоял возле весла на корме.
— Это дело! — буркнул Колобов и заспешил к пригожей Лизавете, ожидавшей его с горячим, жирным, сытным завтраком.
* * *
Между тем и на баркасе началась своя веселая жизнь. Надежда Сергеевна успела зажарить двух гусей, которые, однако, не ужарились, но были еще теплы и вкусны настолько, что все шестеро: двое сплавщиков и четверо Чураевых — с наслаждением ели их и похваливали. А мимо быстро уплывали назад берега, луга, обрывистые яры, островки и редкие, увязшие в осеннем навозе села и деревни.
Все себя чувствовали приподнято и вольно. Опасности уже никто не ждал: кормчий опытный, вода большая. Но как шагает жизнь! Еще вчера в это время Василий лежал в скраду, слушал шуршание сухой травы и оторванных листов и хандрил от неудачных выстрелов. Еще ночью, едучи к заимке, вздрагивал от инея и в дремоте сомневался: поедут ли?
Ему грезился один и тот же сон с красным полем, по которому бежал белый гусь с израненною шеей и кричал:
— Четыре! Четыре!
Это скрипела тележная ось, на которой смылась и перегорела мазь. Лишь подъехавши к заимке и вспомнив, что жена должна завтра уехать в Москву, — он прогнал дремоту и встревожился.
Рабочий, Иван Александрович, эстонец, случайно рекомендованный Колобову его маслоделом, был человек на редкость точный, исполнительный и деликатный. Василий дорожил им и не хотел будить в такое необычное время. Однако дверь в амбаре скрипнула, и Иван Александрович сам вышел помогать Василию. Василий полушепотом сообщил о причинах торопливости и о внезапном отплытии на баркасе. Иван Александрович горячо сказал, мило искажая русскую речь:
— Ну, ви же спать должно. Немного. Идите — я все делаю.
Василий вошел в теплую стряпчую избу, помылся там и на цыпочках прошел в спаленку.
— Я разбудил тебя? — прошептал он с радостным волнением.
— Нет, я не спала, — ответила, вздохнувши, Наденька.
— Отчего так?
— Все думаю: ехать ли в Москву?
— Конечно, ехать! — сказал Василий, не видя в темноте ее лица. Он нежно прикоснулся к ней и, утопая в радостном тепле и отдыхе, немедленно уснул.
Проснулся уже на восходе солнца и поднял спешку сборов на баркас.
Надежда Сергеевна испугалась, потом невольно поддалась внезапной общей суетне и, наконец, обрадовалась. Все так просто разрешается, она едет опять в желанную Москву. Тем более что все было давно к отъезду приготовлено.
И вот она сидит на бочках масла, на широком, пахнущем смолой баркасе и смеется новой и забавной перемене в ее жизни. Но за смехом притаились слезы и тревога, которая обе прошлые ночи не давала ей уснуть.
Василий с беззаботным смехом поздоровевшего человека убеждал ее, что все идет прекрасно и что дальше все будет еще прекраснее. Но ее тревога нет-нет шевельнется, погасит улыбку и шепнет: “Не навсегда ли расстаетесь?”
— Скажи Сергею Дмитриевичу, — шутил Василий, — что меня здесь очень увлекает карьера сельского кулачества и что я объявил войну интеллигентскому прекраснодушию и разгильдяйству. И серьезно говорю тебе: в большое дело может развернуться здесь кирпичный завод. Перестроим все окрестные деревни. А это уже кое-что...
— А как же твой отчет перед Академией? — робко спросила Надежда Сергеевна.
— А вот как только мы с Колей о тебе соскучимся, я возьму и прикачу в Москву... А может быть, и без отчета обойдется. Все мои отчеты, милый друг, теперь будут вроде моего недавнего выступления на суде, которое тебе так не понравилось.
— Ну посуди сам: ты восстаешь против культуры! — почти шепотом сказала Наденька, чтобы не слышали дети, — Ты подумай: значит, и наших детей учить не надо? Вот Наташу здесь уже нельзя было отдать учиться... Ведь даже здешнее мещанство смеется над тобой, — не выдержав, призналась Наденька. — Ведь ты подумай, в какие ты попал противоречия...
— Никаких противоречий! — возразил Василий. — Только некоторое взаимное непонимание.
— Если я тебя не понимаю, то как же ты хочешь, чтобы поняли тебя совсем простые и чужие люди.
— Как раз простые-то и поняли меня лучше других. Ведь присяжными были почти все простые люди.
— Да, но я не разделяю их понятий и, во всяком случае, насильников над женщиной никогда не защищала бы.
Последние слова вырвались у Надежды Сергеевны с нескрываемым негодованием.
— Притом не слишком ли ты увлекаешься батрачеством? Признаюсь тебе, что я хорошего здесь ничего не вижу.
Василий перестал смеяться и пытливо посмотрел в глаза жены.
— Значит, до сих пор ты не была со мною откровенна?
— Я просто ни о чем не думала, — ответила она. — А вот теперь, когда я вижу, что ты рискуешь своей будущностью и даже будущностью наших детей, я сильно призадумалась о том, что может дать тебе это деревенское строительство? Поверь, что деревенским кулаком может стать любой мужик, а ты забросил все свои серьезные работы. Я просто этого не понимаю да, по совести скажу тебе, и не хочу понимать.
— Мы же с тобой вместе это решили, Наденька. Помнишь, там, на Катуни? — уже с тревогою сказал Василий.
— Мы с тобой решили совсем не так. Я думала, мы купим нечто вроде дачи, займемся своим маленьким хозяйством, будем работать по своей охоте, и ты будешь писать...
— Я и теперь работаю не поневоле...
— Вот это-то и ужасно, что ты ушел куда-то в сторону от своих мыслей и от меня и от детей... — В глазах Надежды Сергеевны блеснули слезы.
— Вот тебе и на!.. — взявши ее за руку, сказал Василий, неловко озираясь на Прокопия. — Вот так договорились... Но это же ужасно, что мы так разно чувствуем и понимаем...
— Конечно, ужасно! — пряча слезы, говорила Наденька. — Нам до сих пор не удавалось даже поговорить как следует. А теперь ты вдруг увлекся охотой и до сих пор не вспомнил то, о чем я так горячо тебя просила.
— О чем? О чем? — искренно допрашивал Василий.
Но Наденька закрылась зонтиком, чтобы мужики и дети не видали ее слез, и плечи ее затряслись от нахлынувших рыданий.
Только теперь Василий понял эти слезы и вспомнил то, о чем просила его Наденька.
Просьба эта была в том, чтобы совместно с ней составить и послать хорошее, братское письмо Викулу. Но Василий до сих пор не удосужился узнать даже о том, где, в какой тюрьме и в каком городе находится его несчастный брат.
Он замолчал и нежно гладил загрубелую в работе руку самой близкой и прекрасной женщины.
А по этому его движению и она вновь обрела его сознание вины перед братом и все искренно ему простила.
... Через два дня под вечер в Барнауле, пересевши прямо с баркаса на стоявший у пристани пассажирский пароход, она с тревогой и любовью долго крестила и благословляла обоих: Василия и Колю — и не знала, кто из них дороже и милее и о ком придется больше беспокоиться...
Успокаивая заплакавшего Колю, Василий долго смотрел на борт удалявшегося парохода, где Наденька, держа одной Наташу, другой махала платком, то и дело комкая его и прикладывая к глазам. Впрочем, как только пароход белою веселой точкой удалился вниз по течению широкой Оби, Василий почувствовал себя еще более счастливым. Ведь Наденька уехала не навсегда, и она его любит, и он любит ее, и детей любит, и все здоровы, а главное, с ним остался Коля, трижды более чувствуемый, нежели раньше.
И расстояния между ними и уехавшими не должно существовать. Значит, о чем же сокрушаться? Пусть проедется и развлечется и еще более соскучится о нем и о простой привольной жизни, о заимке, о прекрасных чистых сливках и о сказочных горах и долинах, о каких в Москве и в снах не снится.
Но брату Викулу, конечно, должен написать, и немедленно, много, нежно и от всего сердца. И пошлет ей копию письма, чтобы знала и поверила, что он понял глубину ее страдания о Викуле.
А пока за дело, которое всерьез влекло его своею новизной, кипучестью и обилием результатов: вокруг такое множество живых лиц, труда и масла. Горы из бочонков с маслом! Никогда не думал он, что Обь такая масляная, жирная река...
— Ух, какие можно тут творить дела!.. — уезжая с пристани, сказал Василий, и, минуя горы хлеба, масла, машин и всевозможных тяжестей и грузов, он прижал к себе все еще хныкавшего и ежившегося от осеннего ветра Колю и отрадно вспомнил Колобова.
Теперь ему стал еще более понятен, даже мил и близок этот сильный степной волк.
* * *
Было уже поздно. Чураев купил местную газету, узнал, где почта, и решил осмотреть завод. Давно Василий не видал провинциальных русских городов, а из сибирских видел только Омск и Семипалатинск, и то лишь мимоходом.
Впрочем, историю Барнаула он знал. Она слагалась в течение двух столетий, темных и жестоких. В Сибири даже города кочуют. Колывано-Воскресенский завод был построен Акинфием Демидовым в горах вблизи от нынешней Колыванской шлифовальной фабрики, затем перенесен на равнинную реку Алей, где теперь стоит село Локтевское, а потом сюда, на Обь, на устье мелкого ручья. Теперь же Барнаул был главным городом Алтайского края и резиденцией начальника этого края, являвшегося здесь наместником царя.
Чураев улыбнулся, вспомнив, что, в сущности, и весь этот огромный, богатейший край с его бесчисленными реками, лесами, минералами и городами есть не что иное, как частная собственность Его Величества. А у государя таких имений в Сибири два: второе, еще более обширное, — весь Нерчинский горный округ со всем золотом, с лесами, соболями и редчайшим рыбным промыслом.
Да, Василий знал, что русский царь — самый богатый помещик в мире, но знал также, как мало получал он со своих имений. Когда-то Фирс Чураев за все свои немереные угодья платил как за четыре десятины: за пасеку — целковый, за десятину покоса — сорок копеек и за две десятины выгона, на самом деле, за маральники — восемьдесят копеек, а всего два рубля двадцать копеек. Но Фирс Чураев был наиболее добросовестным плательщиком. Другие и того не платили. Знал Василий также, почему закрылись золотые царские промыслы. Бесчисленные господа управители и пристава, получая, кроме жалованья, все готовое, при даровом труде не умели свести концы с концами, и все богатейшие недра приносили царю только убыток. А политические эмигранты за границей пишут в своих журналах, что русский царь обогащается за счет своих верноподданных.
Да, помощник исправника Шестков, разъезжавший по уезду, мог теперь спокойно поручиться за политическую благонадежность Василия Чураева.
Увидев на Конюшенной площади реальное училище и гимназию, Чураев сам подумал, что большинство учащихся в них будут, конечно, ниспровергателями существующего государственного строя — вот эти самые, проходившие по улице в чистеньких новых плащах гимназисты или реалисты, будут так же, как и он, Василий, исподтишка, под видом либерализма, подтачивать тот создавшийся с таким ужасным трудом порядок и благоденствие родного края, благодаря которым все эти розовенькие щенята могут избрать себе любой путь жизни.
Повернув налево, к берегу огромного, с зацвелою водою пруда, Василий остановился возле здания старого завода. Оставив в экипаже Колю, он вошел в обширный двор. Солнце закатилось, и весь завод был освещен сбоку, точно для того, чтобы можно было лучше рассмотреть его.
У самой плотины пруда, сделанной прочно и на много сотен лет тяжелым крепостным трудом, стояли вросшие в землю каменные здания старика завода. С облупившимися боками и полусгнившей шапкой — крышей завод стоял как раненый или избитый старый николаевский солдат, опираясь на многочисленные израненные временем колонны, как на костыли.
По длинным и широким шлюзам, поросшим зеленью, неслась вода, казавшаяся атласною, сверкающей на солнышке материей, и крутила валы-колеса мельницы и лесопильного завода. Всюду валялись обломки старинной, жестокой силы и свидетельствовали о том былом труде, который создавал лишь мучая и убивая. Черные переплеты под крышею завода, как чьи-то угрожающие, высоко воздетые и судорожно сцепившиеся руки, замерли в дикой и безмолвной ярости и так завековали. Слышался ворчливый, давящий и визжащий гул. Это работали многочисленные пилы, режущие бревна, и жевали зерна мельничные жернова.
Василий прошел в старый заводской музей, и на него дохнула та самая былая жестокая старина, от которой ушли в горы его деды, но от которой вместе с тем повеяло настойчивой и роковой необходимостью, как от пахнущей могилой свежевспаханной земли.
Здесь, рядом с деловыми книгами, помеченными 1720-ым годом, в беспорядке свалены модели шахт, машин и зданий, образцы руд, чертежи и чьи-то старательные рукописи, а в минералогическом отделе от беспорядочно наваленных редчайших образцов руды, камней и минералов пахнуло недрами Алтайских шахт с залежами неизведанных еще сокровищ.
С грустною улыбкой осмотрел Василий деревянную модель первой русской паровой машины, сделанной собственноручно скромным сибиряком рабочим Ползуновым. Что наделала теперь эта машина во всем мире?!.
И тут же встретился с угрюмым и усталым взглядом, смотревшим на оставшуюся пыль веков, горнопромышленного пионера Акинфия Демидова, черный чугунный бюст которого стоял на возвышении. Василий вспомнил, что потомки этого Демидова, под громким титулом князей Сан Донато, доживают свои дни во Франции в глубокой нищете.
С тяжелым чувством поспешил Василий к Коле.
Провожавший Василия смотритель сообщил, что под зданием лазарета есть богадельня для немногих доживающих свой век крепостных горнорабочих.
На этот раз Василий взял с собой озябшего на извозчичьей линейке Колю и пошел вслед за смотрителем.
И вот перед ним возле своих кроватей встало несколько десятков старых, изможденных, много битых и увеченных, бесприютных и безработных стариков. Они вытянулись и бодрились по-солдатски. Некоторые были на костылях и все-таки стояли, как часовые, поедая строгими глазами мнимое начальство. Не вставали только самые беспомощные, лежащие в полузабытьи, и среди них один был умирающий.
— Этот третий день спит! — глухим басом доложил один из стариков смотрителю. — Должно, последний сон хороший видит, — усмехнувшись, добавил он и сморщил и без того морщинистое, темно-чугунное лицо.
— А тебе, дедушка, сколько лет? — спросил Василий у трясущегося, совсем лысого старика.
— Сто пятый, батюшка, — ответил он. — Пяти государям послужил.
Коля со страхом и с благоговением посмотрел на старика. Чураев даже не усаживал стариков. Он понял, что все эти дряхлые, никому не нужные рудокопы принимали Василия за начальство, которое-де их не забывает как людей заслуженных и еще, быть может, нужных.
Он заметил, что многие из стариков, исполняя николаевских времен указы, брили себе подбородок и опрятно одевались в старые-престарые рабочие кафтаны с галунами.
— За что получил галуны? — спросил Василий у высокого и сухощавого, с черными, неседеющими баками старика.
— За пятьдесят лет беспорочной службы Государю Императору! — отчеканил тот ухающим, как из бочки, голосом.
— “Пятьдесят лет беспорочной службы! — мурашками побежало по всему телу Василия. — Вот когда были богатыри люди!”
— И ни разу не был наказан?
— Никак нет! Беспорочно! Так и в указе в моем сказано.
Но следующий старик тоже не без гордости докладывал:
— А я вот весь исполосован. Раньше, говорится, битые в цене были. За битого двух небитых давали. А нынче нас всех даром никому не надо. — В последних словах его послышались насмешка и упрек.
— В привратники в емназию желаю! Так что послужить еще могу! — громко, вместо приветствия, заявил следующий, очень старый и желтоволосый инвалид. И как бы ждал от Василия немедленной резолюции на свое заявление.
— Да это частный! — наконец сказал один из следующих стариков, согнувшись к уху своего соседа.
— Частный!.. Частный!.. — разочарованно передавалось по рядам, и бравый вид старых инвалидов быстро стух. Некоторые даже устало сели на свои кровати. Чураев поспешил ретироваться из этой живой братской могилы рудокопов-богатырей, среди которых были, вероятно, современники, а может быть, и однокашники и его прадеда Агафона Чураева.
Уложив все виденное в укромный уголок души, Василий выпрямился, сел на линейку и, беспокоясь за здоровье прозябшего и притихшего сына, поехал искать недорогую меблированную комнату.
* * *
Остановившись в номере маленькой одноэтажной гостиницы, новой и опрятной, построенной из бревен и выкрашенной в голубой цвет, с белыми ажурными, вырезанными из досок, точно кружевными, наличниками окон, Василий Чураев почувствовал какой-то новый, незнакомый ему ритм совсем не провинциальной, далекой от мещанства, но и далекой от культуры жизни. Во всем здесь была спешка, почти нервность. Одни приезжали с парохода, другие торопились уезжать. В коридор выпархивали молодые, громко смеющиеся женщины в цветных капотах. А вечером в общей столовой заиграл дешевенький оркестр, появились гости, захлопали бутылки пива и вина, началась пляска, и долго ночью стоял хохот, шум и шорох во всем доме, пока, наконец, не разрешилось все внезапным женским визгом в соседнем номере. Крепко спавший Коля проснулся и испуганно заплакал. Визг покрывали протестующие голоса прочих обитателей. Кто-то грозил позвать полицию, и наконец, после взрыва общей ругани, послышался грохот удалявшихся шагов и падающих тел у выхода. Вскоре после этого все смолкло.
Рано утром, взяв свой чемоданчик, Чураев вместе с Колей поехал в почтовую контору получать депешу от хозяина:
“Масло сдай союзу артелей. Расчет после. Осмотри кирпичные заводы. Торопись обратно. Колобов”.
Весь план действий был нарушен. Извозчик запылил по тряским улицам и вскоре остановился возле нового кирпичного здания. Просторный двор был завален тысячами бочек масла, ярусами всевозможных маслодельных принадлежностей, сельскохозяйственных машин, мешков, брезентов, экипажей. Контора же союза напоминала банковское учреждение с вежливыми, хорошо причесанными и элегантно одетыми служащими. Доверенный сидел в кабинете за дубовым письменным столом. Все повадки служащих, их взгляд, манера говорить, широкая доверчивость и быстрая раздача чеков на большие суммы, небрежное бросание смелых денежных и деловых распоряжений — все это делалось как будто мимоходом, между делом, тогда как главная задача союза была как бы в чем-то другом, более значительном.
Солидностью и широтой, серьезной деловитостью контора союза понравилась Василию, а доверенный с двух слов все понял и тоном старого и ласкового друга коротко сказал:
— Сейчас десять. В одиннадцать будьте на месте. Наш артельщик примет.
— А разве мне не нужно перевозить масло на ваш склад?
— Зачем же вам тратиться? У нас для этого на пристани стоит несколько плавучих холодильников, — и тут доверенный с мягкою улыбкой прибавил: — Андрей Саватеич наконец учел, почему мы платим на тридцать копеек дешевле. На тридцать копеек дешевле платим, а на целковый сокращаем ваши собственные расходы. А кроме того, он понял наконец, что чем дешевле мы у него купим, тем выгоднее для него же.
— Это как же так? — спросил Василий.
— Да ведь он же к нам вступает теперь членом. А кроме того, то, что мы сэкономим на ста частных партиях, ведь увеличивает его пай дохода.
— Почему же он раньше не вступал в ваш союз?
— Значит, не доверял чему-то. Много их, таких скептиков. Ведь вы подумайте, что будет, когда все они войдут в нашу кооперацию? Их ведь, сельских маслоделов, разбросано здесь по уезду — тысячи. И все умнейшие, энергичнейшие мужики. Наш союз и сейчас считается вторым в Сибири.
— А где же первый? — спросил Василий и тотчас же заметил, что доверенный взглянул на него с удивлением, словно на человека, свалившегося с другой планеты.
— А первый в Кургане, конечно. Слыхали о Балакшине? — и, видя, что Василий смотрит на него с видом полного невежества, доверенный улыбнулся и покачал головой: Вот в том-то и беда. Хоть бы газету нашу выписывали. Кто не знает дедушку Балакшина! Это, батенька, простой крестьянин, который держит в своем кулаке всю лондонскую масляную биржу. Разве вы не знаете, что мы, сибиряки, все масло передаем прямо через голову Москвы на лондонский рынок? Пока, конечно, цены нам указывает Лондон, а вот когда большинство ваших Колобовых будет с нами, тогда мы будем диктовать наши цены Лондону. Поняли теперь?
— Еще не совсем.
— Вот в этом-то и горе наше. Все — точно малые ребята, выгоды своей не понимают... — строго проговорил доверенный и, взявши чековую книжку, спросил: — Сколько прикажете?
— Денег? — переспросил Василий.
— Да.
— Сейчас нисколько. Он телеграфирует, что после.
— Ага! — опять многозначительно улыбнувшись, сказал доверенный. — Значит, он желает у нас товар брать. Тем лучше! Мужик он очень дельный! Такими мы особо дорожим.
Чураев вспомнил, что на извозчике его ждет Коля, а в конторе ждут очереди другие, видимо, приехавшие с разных концов маслодельщики, попрощался и вышел.
Сдача масла заняла не больше двух часов, после чего Василий, переговорив с капитаном маленького парохода, рейсировавшего в нижней части Чарыша, нанял его за небольшую плату взять на буксир пустой баркас. Прокопий был радешенек, так как это ускоряло доставку баркаса и уменьшало труд, а Василий рассчитал, что если он проедет сам на баркасе больше половины пути, то этим покрывается весь расход по буксировке. А разница по времени пустая, тем более что иначе пришлось бы ехать около двухсот верст лошадьми.
Получив приемную квитанцию на масло, он увидел, что сдано более тысячи пудов на сумму более пятнадцати тысяч рублей. Он даже не поверил, что ему придется свыше пятисот рублей за выполнение задачи. Но так как себестоимость масла, благодаря своим коровам, не более сорока процентов всей этой суммы, то Василий, значит, заработал около восьмисот целковых, то есть целый новенький, хорошо обстроенный сельский домик, да еще и с гаком...
— Вот не думал не гадал!..
С непривычки Василий даже устыдился такого легкого и незаслуженного обогащения и, стараясь думать, что неверно рассчитал, покатил на кирпичные заводы.
Все усердно осмотрев и записав все цены, сроки и пропорции, доставку песку и выемку глины, количество дров на обжиг, их цену с доставкой и без доставки, Василий удивил всех служащих завода столь точным и всесторонним обследованием вопроса. “Ровно немец какой!” — проворчал один из рабочих.
Решив составить для хозяина полный отчет по этому вопросу, Василий не подозревал, что в нем просыпается делец, купец, прижимистый, расчетливый хозяин.
Было три часа дня, и Коля робко спросил:
— А лошади, папа, каждый день обедают?
Василий понял, что мальчик голоден, и повез его обедать на пароход.
С юго-востока город окаймляет пышный и зеленый сосновый бор, среди которого одиноко и величаво возвышается белый собор монастыря.
И почему-то вспомнилась Москва и Чернышевский переулок, редакция “Русских Ведомостей”. А следом вспомнилась и местная газета и ее редактор Агафонов. Милый человек уж только тем, что брат Онисима. Надо непременно навестить.
В запыленной куртке и высоких сапогах, Василий не решился идти в рубку первого класса, но Коля повеселел и от второго. Вспыхнувшими темными глазами он стал осматривать столы и все устройство, нетерпеливо ожидая кушанья.
Когда наконец подали прекрасную уху из стерляди и мальчик застучал от радости ножонками о ножки стула, Чураев впервые за эти дни внимательно взглянул в поздоровевшее и загрубевшее от ветра личико, обрамленное чуть отливающими золотом, длинными и вьющимися волосами, трогательно закрывшими его тоненькую шейку.
Почуяв к сыну нежность, Василий вместе с тем почуял стыд, что за делами и расчетами так долго не кормил ребенка.
И за ухой Василий начал с Колей первый настоящий и серьезный разговор о том, как эта самая рыба-стерлядь плавала чай пить к куме по воскресеньям и о чем они между собою говорили. Склонив на сторону голову и отворачивая от отца лицо, чтобы не распрыскать изо рта на скатерть уху, Коля заливался от радости.
А за вторым Василий вдруг спросил у сына:
— Ну, а что мы тебе купим в подарок в городе Барнауле?
— В подарок? — сразу задумавшись, спросил Коля, и глазки его слегка скосились от растерянности. — Ружье, папа! — вдруг загорячился мальчик. — Только, папа, надо скорее! А то уже скоро вечер.
— Успеем... Подожди, сейчас подадут сладкое.
Но Коле не терпелось, он даже соскочил со стула и заглянул в коридор.
— Нет, папа... Он не идет... Мы лучше так пойдем...
— Без сладкого?.. — испуганно спросил Василий. — Я никак не могу без сладкого.
И Коля снова заразительно расхохотался, находя, что отец его шутит очень смешно. И за это ли или за то, что отец пообещал ему купить игрушку, Коля почувствовал к отцу такую же любовь, как к маме, и даже больше. Он готов всегда с ним путешествовать, даже если будет голодно и холодно, как было сегодня.
— Только ружье ты мне, папа, купи с пулями! — заговорил он опять. — Чтобы вот так: п-пу-у! И попасть в... гуся... Либо в утку! — и мальчик, сделавши из рук ружье, со страшною гримасой повторял воображаемые выстрелы по гусям и по уткам.
В это время в рубку в сопровождении двух мужчин вошла юная женщина, скорее девушка, и взгляд ее вначале радостно, потом смущенно остановился на лице Василия, отраженном в зеркале. Василий с острым любопытством задержал свой взгляд на этом где-то виденном и столь знакомом, даже милом и чем-то ему близком лице и, не успевши вспомнить, услыхал знакомый бас зоолога Ручеборова:
— Я же говорю вам, что это не первый, а второй класс! Первый класс на том конце.
— И правда что! — проговорила юная женщина упругим, закругленным голосом и, вспыхнув, быстро повернулась и пошла назад по коридору впереди своих спутников.
— Конечно, в первом чище и приятнее! — донесся голос отставшего от Ручеборова незнакомца.
— А главное, там кормят лучше, — пробасил Ручеборов, выходя из коридора. И только тут, когда женщина, одетая с претензией на шик, исчезла за дверями коридора, Василий узнал ее. Это была Гутя из Монголии.
Лакей внес запеченную на сковородке сладкую манную кашку. Коля заспешил, чтобы скорее съесть и идти покупать ружье, но, видя, что отец не прикасался к своей порции, заныл:
— Ну, па-а-па же!.. Кушай да пойдем скорее в магазин!
Василий посмотрел на сына, но не сразу понял его просьбу. Голову его острой, жгучею болью пронзил вопрос: “Когда и как и где познакомилась она с Ручеборовым, и неужели и он был в Терек-Норе?.. Почему?..”
Грусть, обиду и какой-то стыд почувствовал Василий.
“Не узнала она его или не хотела узнать?.. А Ручеборов? Тоже не узнал или не пожелал узнать?..”
— Ты только так... Нарочно обещаешь!.. — натянув губки, Коля заплакал горькими слезами безжалостно обманутого человека.
Василий встал из-за стола, забыл про сладкое, и заспешил.
— Ну не плачь... Сию минуту! Человек! Счет скорее! — они заторопились в город так, точно спасались от пожара или кораблекрушения.
На трапе лицом к лицу Василий встретил статистика Прибылева.
— Какими судьбами? — закричал тот и даже обнял Василия, потянув его на пароход, чтобы о многом расспросить, а еще того больше рассказать ему.
Но Василий так спешил, что ограничился лишь самыми короткими словами:
— Что же это? Вся экспедиция на этом пароходе возвращается?
— Какое! Все по Монголии рассыпались! Встреча с этим Торцовым вышла для нас прямо роковой. Как вы уехали — и пошел разлад. Ах, что было, срам рассказывать...
— А где же сам Баранов?
— А Баранов с астрономом и с Улыбкиным в Тибет ушли. Не утерпел старик — поехал храм свой раскапывать. Ну, а вы тут по какому случаю?
— О-о, это долго рассказывать.
— Это ваш сынок? Что это он плачет?
— Счастливый путь! — вместо ответа сказал Василий, и Прибылев с удивлением заглянул в лицо Василия, который, подхватив Колю на руки, бегом пустился с ним к извозчику.
Слезы маленького Коли были для него сейчас самым верным якорем спасения. Ему хотелось утереть их как можно скорее и вместо них увидеть ясную улыбку детской радости — вот что было сейчас самым острым и самым сладостным желанием Василия.
И действительно, как только они доехали до магазина и как только детские глаза увидели целые красочные горы всякой всячины, — Василий сам стал выбирать и предлагать ребенку даже и такое, что тому не очень нравилось. И навыбирали они на семь рублей с полтиной, после чего с пакетами в руках торжественно и радостно поехали искать другую, более приличную и тихую гостиницу.
Утром же, когда устроились на баркасе в хорошо натянутой Прокопием палатке и когда буксир дал уже второй свисток, Василий вдруг, схвативши Колю, выпрыгнул на берег и, махнув рукою на оставшийся у Прокопия чемодан, крикнул:
— Совсем было забыл. Тут у меня есть очень важное дело! Чемоданчик-то не потеряй, пожалуйста.
— Будьте в уверенье! — отвечал ему Прокопий, и это выраженье вновь напомнило Онисима, хорошего и милого Онисима. Барановская экспедиция расстроилась, конечно, потому, что с нею не было Онисима.
Две было причины у Василия внезапно сойти с баркаса на берег и остаться еще на день в Барнауле.
Первая — он в самую последнюю минуту увидал, что Коля из своего пальтишка вырос и все время зябнет. Если пойдет дождь и снег, он может простудиться. Значит, ему надо купить новое и теплое пальто и ехать следующим пароходом, даже лошадьми, лишь бы не подвергать опасности ребенка...
А вторая — самая большая, жгучая и ударившая в голову, как молния: ведь он совсем забыл о том, что во что бы то ни стало должен в суде узнать о местонахождении Викула.
“Или я уже погряз в своих личных делах до такой степени, что Надежда вправе была бросить меня и бежать?..”
Весь день он снова провел в хлопотах, а так как пошел мелкий дождь, то Коля был оставлен в квартире Агафонова на попечении его простой и милой жены.
Приехав в редакцию с утра, Василий невольно обратил внимание на то, как один из соредакторов Агафонова, суровый и басовитый человек, услышав фамилию Чураева, немедленно же отвернулся и ушел из редакционной комнаты. Сам же Агафонов немедленно оделся и повел Василия к себе на квартиру чай пить, хотя время было не чайное и не обеденное. Василий не придал всему этому значения, выпил стакан чая и, оставив Колю, побежал в суд.
В суде он долго добивался свиданья с секретарем уголовного отделения, который все-таки не принял его и сказал, что может выслушать лишь в пять часов после обеда и что Василий должен изложить свою просьбу на бумаге.
Василий вернулся к Агафоновым, взял Колю и пошел с ним в шубное заведение.
Здесь они долго и весело примеряли на Коле шубку и наконец выбрали черный полушубок с борами в талии и с серой мерлушчатою оторочкой. В новой длинной шубке Коля сразу показался выше и солиднее, только теперь не шло ему мягкое кепи, хотя и с теплыми ушами. Поехали покупать шапку и вернулись к Агафоновым как раз к обеду.
Акинфий Гаврилович все время неловко потирал руки, хотел что-то сказать, покашливал, но ограничивался ласковою просьбой: “Кушайте, пожалуйста”.
Дождь усиливался, мелкий и густой, настойчивый и с ветром. Написав прошение, Василий снова долго добивался приема у секретаря суда и наконец, когда был принят, то получил точный и оскорбительный ответ:
— Во-первых, судьбою осужденных мы, как суд, интересоваться не обязаны. А во-вторых, раз ваш брат приговорен на каторгу, то есть с лишением всех прав состояния, то по закону никаких ему сношений с внешним миром, а тем более частной переписки с ним вам никто разрешить не вправе. Более того, вас самого могут заподозрить в попытке устроить побег вашему брату из каторги...
Василий, твердо и больно стукнувшись об эту неодолимую стену формальности, понял, что никакие дальнейшие слова и просьбы не помогут, и ушел, подавленный не столько тем, что брата невозможно разыскать, сколько тем, что Наденька не поверит, что стена эта неодолимо отделила их от Викула, как смерть...
И остро-остро почувствовал он эту страшную неодолимость стены, за которою среди обреченных и угрюмых, навсегда изъятых из лона радостей находится теперь его брат, еще в полной силе возраста, но уже с изломанными крыльями, как тот недавний гусь, которого Василий так позорно добивал неловкими, но неотвратимыми ударами. И права, права будет Наденька, если не поймет его и станет презирать за его новые, кажущиеся ему важными, а на самом деле мелкие заботы о земном и будничном. Нужен новый подвиг, нужны новые страдания и жертвы, чтобы донести свой голос, свои слезы, скорби и мольбы до закованного в стены и в железо брата Викула. Прежде всего надо докричаться именно до его слуха и сердца и истошным голосом просить прощенья. Без этого нет смысла жизни и не может быть никаких радостей.
Но ничего не добившись, Чураев опять сел на пароход, чтобы доехать до устья Чарыша.
Так как денег у него осталось мало, то он сел в четвертый класс, весь переполненный переселенцами, которые должны были высаживаться там же, возле устья Чарыша.
Когда пароход отчалил, Василий с Колею долго искали места, где бы сесть и закусить, и здесь Чураев снова и опять-таки впервые в жизни столкнулся с подлинною, черноземно-грязной, потной, шумной и суровой силою толпы народа. Тут были мужики и бабы, старики, старухи, дети, подростки, и все они везли с собою из разных губерний избяной свой хлам, корыта, сеяльницы, кадки, хомуты и даже сохи.
В жарком, грязном и душном закрытом трюме пахло махоркой, кислою капустой, грязными онучами и потом, копченой рыбой, дегтем и многообразною мужицкою неопрятностью. Стоял шум и гул от голосов. Кто-то злобно и тяжело ругался, где-то пели красивую чумацкую песню.
Захваченный любопытством, Василий усадил Колю на подостланный чей-то мешок рядом с тощей и измученною бабой, которая на черных жилистых руках укачивала хворого, ревущего и бледно-желтого, со старческим лицом ребенка. Она уныло глядела в пол и басовитым голосом баюкала:
— О-о... О-о. Бай-бай!- и вдруг тут же больно шлепала ребенка.- Да спи ты! Пропадущий!
Тут же рядом мужик с бабой ели ситный хлеб с горячею водой, а еще дальше краснолицый солдат, развалившись на смятой шинели, рассказывал другому грубое присловье, сочно сплевывал и чесал себе живот.
Все время кашляя и сидя на мешке, наполненным чем-то тяжелым, дряхлый старик чинил себе толстою иголкою штаны. Его толкали проходившие мимо, он накалывался на иголку, грозно озирался на толкавших, но молчал и терпеливо продолжал свою работу. Рядом с ним сидел мужик и, щупая содержания мешка, насмешливо допрашивал:
— На што же ты, деда, мешок песку в Сибирь везешь?
— Это не песок, а земля...
— Земля?.. На кой она тебе!.. Ай тута земли мало?..
— А штобы гроб покрыли родимой. Вот на што...
— Ишь ты, хитрый дедка... Всю родину с собой в мешке везешь.
Где-то запиликала гармошка, а равномерные стуки парового двигателя притоптывали в такт похабной частушки.
И всюду, как разрыхленный прелый навоз, сидели, лежали, шевелились и шумели люди, напитанные потом и слезами, горечью и злобой, беспричинной радостью и диким буйством.
Трудно было уловить что-либо главное в беспрерывной волне говора. Лишь отдельные слова врывались и западали в память изумленного Чураева.
— А вот сегодня на землю халдейскую слезем.
— Постой-ка, дай пройти, а то ошпарю...
— На, што ли, жри-и!..
— Эй, Алена, подь сюда! Держи подол.
— Ня баловай, Колькя-я!..
— Дыть, мало што брешут!.. Земля она и тут богата, а тольки...
— Утясненья?.. Просто сказать — зарылися!..
— А к справнику пожалиться пришел, и ён мине зарештовать посулился.
— Молчи-и! Ха-аря!..
— Я ей вон какой кусок дал — слопала, а мало...
— Уронишь, чо-орт!..
— И я ж пойду в питейный до-о-м.
Дри-ки! Дри-ки! Д-разне-се-ом!..
Да, привольные и почти девственные бархатные складки Алтайских предгорий и полей уже несколько лет полными, гостеприимными объятьями черпают в себя все новые и новые толпы этих чем-то непонятным страшных, темных и жестоких сынов крепостной России.
И чтобы не думать об окружавшей его грубой правде жизни, Чураев достал еще утром купленную местную газету и развернул ее.
И вот вместе с острым и знакомым запахом свежей краски в лицо его ударил легкий шум и жар, и Василий вспыхнул пламенем какого-то еще непонятного стыда, негодования и отчаяния.
Как раз в сегодняшнем номере той самой газеты, которую редактировал Акинфий Агафонов, перепечатан был из большой московской газеты, под чертой, обширный фельетон графа Ласкина под бьющим в глаза заголовком: “Мужицкий выползень”. Василий смог прочесть только начало:
“Итак, нашумевшее гнусное насилие восьми сибирских хулиганов над своей учительницей нашло защитника в лице некого богослова Василия Чураева, кстати сказать, сотрудника почтеннейшей московской газеты. На скандальном выступлении сего мужа мы и намерены подробно здесь остановиться”.
Василий Чураев с большим правом мог считать себя человеком достаточно испытанным и сильным, но он внезапно захлебнулся удушающим смрадом трюма, свернул газету и, держа ее в руках, как змею, которая вот-вот обовьется ему вокруг шеи и начнет жалить в лицо, даже забыл о Коле и выбежал на палубу.
Ветер с дождем резко и отрадно ударил в его пылающее лицо, а глаза поймали широчайшее и серо-желтое раздолье слева за рекою, и Василий в ту же минуту вспомнил о покинутом ребенке. Он немедленно вернулся в трюм, сел на то же место, громко крякнул, чтобы вытолкнуть из горла душившую его спазму и, снова развернув газету, начал мужественно принимать пощечины, одна другой гнуснее и позорнее.
Но самое жуткое, самое жестокое было в том, что фельетон прочтен уже во всей России и что, конечно, в Москве прочтен Сергеем Дмитриевичем Никитиным и будет поднесен Надежде как неоспоримый документ против кустаря в науке и против нового защитника народа. Сильнее этого, позорнее и болезненнее никто не мог бы оскорбить Василия. Но в то же время он почувствовал внутри себя свою, огромную, святую истину, и к этой истине он пойдет, если на то пошло, один, без Наденьки и даже... Да, если она возьмет Колю, даже без сына... Ибо та истина, которая руководила им во время речи на суде, никогда так резко и отчетливо не выступала, как сегодня, после этих заушений. И звучала она в нем самом, и вне его, и во всей этой развернутой вокруг него изнанке страшной русской жизни...
Только бы перенести эти удары и не засорить души и сердца бесславной злобой против маленьких, несчастных клеветников, имя же им — легионы.
Выпрямленный, новый, будто выросший за пять часов езды до Чарыша, вышел с парохода Василий. А когда под вечер зазвенел поддужный колокольчик, и тощая полуямщицкая пара лошаденок, бросая в лицо ему полными копытами комья земли, уносила его в серую беспредельность мокрых и скучных осенних полей, он знал уже, что это испытанье рано или поздно все равно необходимо было пережить. И хорошо, что оно уже встречено, и встречено как раз во благовременье, и будет пережито и побеждено, как побеждены им уже многие удары жизни.
А главное, великое, святое да пребудет с ним вовеки.
И оно будет, будет так же несомненно, как после этой осени придет холодная зима, а за зимою явится весна, с теплыми дорогами, с мутными ручьями, с весенним и хмельным перелетом диких птиц...
Выполнить бы только веления и зовы своей совести. И первое из них — Викул...
“Викул, Викул... Брат мой родимый!” — шептал Василий, прижимая к себе Колю и смотря влажными от слез глазами в тихие и серые, утопавшие в дождливых сумерках волнистые поля...
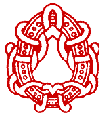 чем шепчет сухая трава при дороге, когда осенний ветер сгибает и треплет ее пожухлые листья? Стебли ее беспокойно и поспешно гнутся к земле, кланяются и куда-то рвутся, не умея оторваться от корней и побежать за желтыми листочками, оборванными ветром с тополей, берез и многочисленных кустарников. Веселой и покорною толпой бегут под ветром целые стада этих листочков, и кажется, что бег их осмыслен, что они знают цель своей поспешной погони друг за другом. Вот пересекла путь река, и, как мотыльки, они летят, садятся на воду и, плоские, покорные, плывут куда-то далеко без шума и без лепета, качаясь на струях или застревая плотною толпой на островке или возле перекинутого через речку дерева.
чем шепчет сухая трава при дороге, когда осенний ветер сгибает и треплет ее пожухлые листья? Стебли ее беспокойно и поспешно гнутся к земле, кланяются и куда-то рвутся, не умея оторваться от корней и побежать за желтыми листочками, оборванными ветром с тополей, берез и многочисленных кустарников. Веселой и покорною толпой бегут под ветром целые стада этих листочков, и кажется, что бег их осмыслен, что они знают цель своей поспешной погони друг за другом. Вот пересекла путь река, и, как мотыльки, они летят, садятся на воду и, плоские, покорные, плывут куда-то далеко без шума и без лепета, качаясь на струях или застревая плотною толпой на островке или возле перекинутого через речку дерева.