ВЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
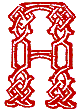 жизнь вокруг: около и далеко — всюду шла своим чередом, старая, как все на свете, и неизменная, несмотря на всю свою ежедневную изменчивость. Только жизнь Василия Чураева была действительно вся новая, пронзенная лучами солнечной энергии, проросшая живыми жилками окружавшего его мира животных, людей и природы. Иными, новыми глазами увидал теперь Василий мир, простой и ясный, грубый и веселый. Телом к телу, сердцем к сердцу, с глазу на глаз столкнулся он с простым народом, и кусочек его собственной плоти зацвел особой тайною. Народ — это был он сам, Василий Чураев, правнук некогда преступного, а после, может быть, святого Агафона, беглого из рабства, битого невольника, но сохранившего в душе своей жажду покаяния и спасения в горнем скиту. Из столкновения с мужиком Кирилой, из частых мелких стычек с пастухами и рабочими, с соседями и, наконец, с самим Андреем Колобовым, Василий понял, что только здесь и только в действенном соприкосновении с народом можно полной жизнью жить, работать, знать, желать, любить. Только здесь можно было и себя проверить, и понять то важное, к полному слиянию с чем всю жизнь стремился Лев Толстой. В Чураеве так быстро пробуждались и становились на свои места все навыки, слова, движенья, мысли его предков, что даже Колобов, человек острый на глаз и понимавший людей с двух слов, часто забывал о знаниях и мыслях, задремавших в Василии, а может быть, и испарившихся бесследно, навсегда.
жизнь вокруг: около и далеко — всюду шла своим чередом, старая, как все на свете, и неизменная, несмотря на всю свою ежедневную изменчивость. Только жизнь Василия Чураева была действительно вся новая, пронзенная лучами солнечной энергии, проросшая живыми жилками окружавшего его мира животных, людей и природы. Иными, новыми глазами увидал теперь Василий мир, простой и ясный, грубый и веселый. Телом к телу, сердцем к сердцу, с глазу на глаз столкнулся он с простым народом, и кусочек его собственной плоти зацвел особой тайною. Народ — это был он сам, Василий Чураев, правнук некогда преступного, а после, может быть, святого Агафона, беглого из рабства, битого невольника, но сохранившего в душе своей жажду покаяния и спасения в горнем скиту. Из столкновения с мужиком Кирилой, из частых мелких стычек с пастухами и рабочими, с соседями и, наконец, с самим Андреем Колобовым, Василий понял, что только здесь и только в действенном соприкосновении с народом можно полной жизнью жить, работать, знать, желать, любить. Только здесь можно было и себя проверить, и понять то важное, к полному слиянию с чем всю жизнь стремился Лев Толстой. В Чураеве так быстро пробуждались и становились на свои места все навыки, слова, движенья, мысли его предков, что даже Колобов, человек острый на глаз и понимавший людей с двух слов, часто забывал о знаниях и мыслях, задремавших в Василии, а может быть, и испарившихся бесследно, навсегда.
Казалось, исчезала мягкость в обращении с людьми, ненужной становилась вдумчивость. С волками жить, по-волчьи выть — и никаких уступок ни соседям, ни рабочим, ни даже хозяину. Но вместе с тем Василий знал, что окружали его далеко не волки. Окружал его тот самый многоликий русский народ, в рыхлой и дремучей пучине которого бесследно и безответно скрылся не один корабль, груженный разумом, поэзией, идеями и прочими хорошими вещами.
С особенною четкостью обрисовалась пестрота народа. Прежде всего, это был не только русский и простой народ. Это была смесь не только нравов и понятий, но и рас и состояний, быта и религий. Народ был всякий: простой и непростой, наивный и лукавый, грубый, ласковый и даже нежный, часто пьяный, часто чуткий, тонкий и изобретательный, оседлый, кочевой, богобоязливый и преступный. По характеру и по происхождению да и по степени развития он был широко разнороден: от идолопоклонников-калмыков до ссыльных просвещенных нигилистов, от хулиганствующих босяков из дворянского или духовного сословия до легендарного епископа из камчадалов, от сельского рассыльного блаженненького Феденьки до заезжего нищего греческого монаха, который собирает милостыню на паре лошадей, запряженной в крепкую телегу.
И не в Москве, не в Европе, не в Индии, а именно здесь, у подножия родимых гор Алтая, впервые и нечаянно была постигнута Василием одна из самых больших истин. Однажды мимоходом в поле он увидал, как двое братьев-мальчуганов обрабатывали свою пашню. Один на тройке лошадей перепахивал “пары” под озимь, а другой сеял. Одному из них было не более тринадцати, но за сохой он ходил как тощий крепкий мужичок. Старшему же было лет пятнадцать. Он сеял важно, строго, почти величаво. В его полуребяческом взмахе руки чувствовалась непреложная и вечно живая сила, которой никогда раньше не замечал Василий в народе. Именно здесь делалось то величайшее из величайших дел, которым держится мир многие тысячелетия. Был Вавилон, был Карфаген, был Рим, и все они пали. И будет еще много новых Римов, и падут они, но никогда не падал скромный земледелец. Пахарь-сеятель будет бессменно управлять землею, и жизнь народов будет вечно вот такая, первобытно-примитивная, и в простоте своей наипрекраснейшая из всего, что когда-либо могут создать хотя бы тысячи новых культур. Никакие почвенные потрясения, никакие завоевания воздуха или открытия наук не переменят этой основной простой культуры сеяния и произрастанья злака, истинного чуда божьего. И это было, есть и будет всюду на земле, во всех больших и малых странах, а если есть живые существа на других планетах, то и там этот закон пахаря такой же, так же прост и так же вечен. Быть пахарем — значит быть в непрерывном и едином звене всемирного народа, значит прочно стоять на земле, значит жить настоящею, благословенною жизнью.
Но вот другая истина, печальная и тоже старая — о том, что труд в народе, на земле, в особенности там, где жил Василий, именно в России, не всегда является благословением, а чаще унижением и проклятием. И от этого проклятия рождается все то ужасное и волчье, что нарушает и обезображивает всю картину жизни.
Василий много думал о причине из причин этого зла и носил мысли об этом как самую острую боль. Как самую высокую вершину в его теперешнем пути, ее необходимо одолеть. И как только выдавался час досуга, его преследовала обнаженность этой мысли, поистине проклятой и неодолимой.
Кто дал Василию глаза, которые видят больше во сто крат? Зачем и кто отяготил голову его знаниями, которые мешали ему просто видеть жизнь как она есть? Кто и почему именно его сердце пронзил любовью, недоступной тысячам, а может быть, и миллионам окружавших его людей?.. Кто напел душу его песнями без голоса и без слов, которые звучали в нем непрерывно и в ливне, и в грозе над горной пропастью, и в молчании увядшего осеннего листа при дороге?
Только любовь! Любовь — прекраснейшая из дочерей солнца, чудеснейшая из улыбок Бога. Не человеку ли она дана? И не налагает ли она на него долг растворить в ней зло людское? Это была пора, когда сердце Василия, несмотря на внешнюю грубость, все больше озарялось любовью ко всем людям и ко всему земному и когда в нем не могло быть места чувству ненависти. Потому что это был период самой ясной красоты земной, когда, спустившись к ней с высот нагорных, Василий обрел счастье в благодарности к жене, в привязанности к сыну, в нежной ласке к девочке Наташе, в крепкой дружбе к мужику Онисиму, в понимании неизбежности поступков Колобова и, наконец, в обретении того труда, который утвердился на земле как вечный, нерушимый скит подвига благословенного.
Но как преодолеть проклятия и как проклятый труд для большинства преобразить в радость общую, в радость пахаря всея земли?..
Есть люди на земле, приуготованные с юных дней своих служить Богу или ближнему, но не самим себе. Навсегда это внедрилось в дух и плоть Василия, и личное счастье не только не заглушило в нем потребность этого служения, а напротив, обострило жажду сделать такими же счастливыми других, сделать счастье общим благом, общим светлым нерушимым храмом на всемирной пашне.
Вот что понял и к чему пришел здесь, на полях, Василий, сын Фирса Чураева.
Но зато здесь же стали перед ним во весь свой страшный рост и обнажили наготу и самые явления зла. Вошедшие, как корни ядовитых трав, в глубь почвы, на которой рядом красовались нивы благородных злаков, они сплетались с ними в безобразные узлы. И эти злые травы заглушали и одолевали злаки жизни, разрастались, как полынь на пустырях. Горе пахарю и сеятелю, если он опустит руки или по нерадению, или по усталости и не одолеет ядовитых трав.
Поник Василий головою, когда услышал, что старший из двух отроков-пахарей, вызвавших в нем благостные мысли, оказался самым младшим подсудимым среди тех восьми, что изнасиловали свою учительницу. Колобов же мимоходом рассказал, как Фомка Прошин, которого старшие товарищи не хотели пускать в класс, где происходила “помочь”, начал стучать в дверь стулом и грозил всех выдать, пока его не допустили “в пай”, как выразился Колобов.
Подавленно молчал Василий, слушая хозяина. Два дня ходил, ни с кем не разговаривал и, наконец, решил поехать к вдове Прошиной, почти не зная, для чего он это делает.
Домик вдовы Прошиной был еще не старый, пятистенный, двор содержался в порядке, и посреди двора стояла телега с хворостом, только что привезенным из ближайшего ущелья. Василий постучал в дожелта вымытую сенную дверь, и из двора отозвался грубый мальчишеский голос:
— Кого тебе?
Вся семья обедала на дворе возле завозни. Полуземляная кухонка через открытую дверь обдала вошедшего запахом жирных мясных щей. Видимо, всегда испачканная в навозе и земле семья берегла чистый домик, ютясь по будням на дворе. За столом, кроме самой вдовы и двух знакомых ему подростков, сидело еще трое: дебелая большуха, девочка-подросток и мальчонок лет пяти. Большак Фома встал с места и подставил гостю самодельный стул, а мать его, конфузясь, стала приглашать откушать “чем Бог послал”.
— Нет, спасибо! — по строгому, читающему его взгляду вдова почуяла что-то неладное, насторожилась, перестала есть и заспешила:
— Проходите в горницу... Пожалуйте-ка, проходите.
Посмотрев на остренькое, полудетское, но хмурое, с облупившейся кожей лицо Фомы, Чураев сказал:
— Мне надо с тобой потолковать.
Мать и сын переглянулись и нехотя пошли в дом, а старшая девица, хлопнув ложкой по лбу младшего, захохотавшего над чем-то братишку, крикнула высоким грудным голосом:
— Не распускай язык-то!
Фома оглянулся и принял это на свой счет.
Войдя в чистую, с цветными половиками, с закрытыми от мух ставнями горенку, вдова толкнула изнутри створку рамы, и в распахнувшееся окошко пролился в горницу яркий, праздничный свет.
Фома остановился под порогом и с пугливым любопытством рассматривал Василия, который вдруг заколебался:
— “Имею ли я право так врываться в чужие скорби и грехи?”
Точно угадавши это колебание, и баба стала строже.
— Проходи, садись. Што скажешь?
— А скажу я вот что, — твердо проговорил Василий. — Правда ли, что у тебя, у такой хозяйственной и, по всему видать, хорошей женщины, сын замешан в это пакостное дело?
— А почем ты знаешь? — лукаво огрызнулась баба. — Может, вовсе я и не хорошая... — И тотчас же прибавила: — А вы кто такие?.. Што вам за нужда в чужом горе копаться?..
— Пришел жалеючи тебя и сына.
— А што тебе жалеть нас?.. Ты же вовсе и не знаешь нас. — и баба еще громче продолжала: — И ничего ему за это не будет! Никакого мы суда не боимся. Кого с него взять? Робенок и робенок, а вот ту бы, суку, надо засудить!.. И школу эту бы спалить!.. Ишь какому добру учат. Разве дома-то у меня он видал али слыхал про такие дела?.. Пятый год вдовой живу — а спроси, кто про меня худое скажет?
В тоне, во взгляде, в движениях бабы чувствовалась твердая уверенность не только в том, что сыну ничего не будет, но и в том, что он ни в чем не виноват. Между тем Василий совсем другое прочитал в лице Фомы.
— Ну, а если он на самом деле виноват? — спросил он у вдовы. — Если даже не засудят его, ты сама-то одобряешь это? И греха в этом не видишь?
— Греха! — ухмыльнувшись, передразнил Фома. — Кабы она сама себя держала хорошо. Других же мы не трогали. Вон Нина Николаевна... Ольга Михайловна... Разве эдаких посмеют тронуть?..
Василий содрогнулся от такой циничной зрелости подростка, а баба, видя, что сын выдал себя, закричала на него:
— А ты язык-то придержи!..
— Значит, ты считаешь, что поступал правильно? — настойчиво спросил Василий у Фомы.
Фома, метнувши дерзким взглядом, отвернулся, передразнив:
— Хм!.. Правильно!.. — и замкнулся в себе злобно, даже угрожающе.
Всякая явная неправда, и в особенности угроза всегда вызывали в Василии Чураеве еще большую настойчивость: сейчас же низкое столкнуть ногою вниз, а правильное укрепить.
Может быть, он не поступал бы так, если бы ему не удавалось побеждать. Но именно всегда, как только дерзкие глаза побеждены, как только сломлена или даже смущена угроза, Василий становился еще строже. Как хороший дрессировщик, требующий от собаки полной и безропотной покорности, он решил не уходить из горницы вдовы, пока не вынудит ее признанья и покорности Фомы. Он твердо повторил несколько раз, что совершившееся в школе над учительницей есть деяние гнусное и что это должно быть понято и матерью и сыном.
Василий говорил как обличитель, он беспощадно мучил бабу долгими допросами о том, пыталась ли она сама, как мать, внушить своим детям страх божий или совесть, и понимает ли она, какие несчастья ждут ее детей, если им не внушено различие между добром и злом? Он мучил и себя, ярко вспоминая многое из того, что сам нарушил и не понял вовремя или не усвоил до сих пор из заветов своего родителя. Наконец он добился, что вдова расплакалась, а вскоре, швыркая носом по-мальчишески, больше от страха, нежели от стыда, завыл и Фома.
Чураев еще не знал, что здесь впервые совершал огромную победу не только над другими, но и над собой, и что доверчивый шепот вдовы и проснувшаяся стыдливость в мальчугане толкали его на дальнейшие победы, во имя главного и самого важного, чем жив всепокоряющийся дух человеческий. Василий не только не знал этого, он даже устыдился своего духовного порыва. Ему стало жаль вдову и всех ее детей, а сам себя он снова осудил за то, что всех их оскорбил своим вмешательством. А так как суд назначен был всего через неделю, Василий неожиданно для самого себя сказал вдове, что он готов защищать Фому перед судом, чего бы это самому ему ни стоило.
И только тут он невольно и с благоговением почуял, что его волею движет какая-то вне его и в нем заложенная совокупность жажды блага высшего, гармонии и справедливости.
О предстоящем суде над восемью подростками во всех окрестных селениях распространился слух как о редком зрелище для одних и как о событии крупнейшей важности для других. В газете, которую получал Колобов из Барнаула, говорилось, что процессу этому придает большое значение не только областная, но и столичная печать и что одна из крупных газет Москвы посылает на процесс специального корреспондента.
Прочитав об этом, Василий вновь заколебался: не наделать бы ненужного шума с этим выступлением. И не вытолкнет ли вся эта история самого его из колеи, в которую только что вошла его новая жизнь? Но то, большое, в нем и вне его лежащее, заставило его настойчиво и смело выполнить это как долг собственной совести.
Многое было против этого выступления, и беспокоил взгляд жены. Она не решалась сказать ему об этом прямо, но, зная порывистую натуру мужа, боялась, что за этим выступлением скрывается все та же жажда к перемене мест и новая разлука.
Наденька пришла в уныние, тем более что Василий снова позабыл о Викуле. То, что жизнь его брата, более печально и менее заслуженно погубленная, нежели жизнь какого-то грязного мальчонка, остается вне забот Василия, а увлечение защитою чужих испорченных парней может повлечь новую ломку в только что налаженной, далеко не легкой, но счастливой их семейной жизни, — глубоко ее тревожило. Более того, она как-то внезапно охладела к мужу, и ее вера в его здравый, ясный разум была сильно поколеблена.
Но этого Чураев не заметил, не почувствовал — так он безраздельно поглощен был предстоящею задачей. Он видел беспокойный взгляд жены, на минуту задумывался о причинах этого беспокойства, но это не мешало ему вглядываться в то новое, что вырастало перед ним как неожиданно-великое и самое важнейшее в судьбе не только Василия, но и в судьбе народа, среди которого он чувствовал себя как воспламенившуюся рану, нанесенную мечом проклятия и зла.
И если некогда давно, готовясь к выступлению на соборе для защиты старой веры Фирса Чураева, он чувствовал себя актером, который должен хохотать на сцене в то время, когда в душе его звучит отчаяние, то здесь он чувствовал себя жрецом, который будет только казаться актером, но который весь пылает пламенем священного экстаза, ибо он угадывает истину, он постигает волю божью. И на суде людском над злом людским же он произнесет то вещее и радостное слово, которое, как искра, брошенная в сено, воспламенит всю землю и очистит ее от проклятых ядовитых трав.
И Чураев вновь преобразился, стал забывать свои дела: или работал, не обедая, или ложился, забывая ужинать, но высекая новые и новые искры речи, которую он должен произнести перед судом. Он даже не думал, что суд мог отказать ему в праве защиты, хотя от имени вдовы подал заявление в суд по телеграфу.
Уже сама по себе эта телеграмма, поданная бабою на местной почте, вызвала кривотолки в местном обществе.
— Откуда, кто твой адвокат? — насмешливо спросил у вдовы почтмейстер.
— А у Колобова на заимке в приказчиках живет, — ответила Прошиха с неохотой. Она и сама не очень верила в непрошеного защитника, но допускала к защите потому, что он не хотел с нее брать денег и даже сам оплачивал телеграмму.
Со смешком спросил волостной писарь у Андрея Саватеича:
— Какой это “магистр” живет у вас в работниках?
Колобов сурово уважал Чураева за редкое и добросовестное отношение к делу, но, услыхав об этом, немедленно поехал на заимку, чтобы удержать Василия от неразумной затеи.
— Ты смотри! — пригрозил Колобов. — Я, не забудь, получил повестку в присяжные по этому делу...
Однако Андрей Саватеич сразу смягчился, когда Василий, настойчиво взглянув на него, сказал:
— Тем более не станем говорить об этом.
За полтора месяца работы на заимке Василий дал хозяину достаточное представление о своих поступках. Недаром однажды Колобов с наглым смехом прокричал Чураеву:
— Среди воров нельзя быть честным! Узнают — убьют. Воры честных людей всегда за доносчиков считают. Понял?
Василий не сразу понял, но Колобов, усмехнувшись, разъяснил:
— Воруй хоть для того, чтобы мне не было стыдно! А то все равно не поверю...
— Поверишь или не поверишь, — сказал тогда Василий, как бы желая умалить свои достоинства, — а я, брат, тоже себе на уме: таким путем я думаю с тебя побольше получить.
— Ну-ка? — прищурился хозяин.
— В пай меня возьмешь скорее.
— Ишь ты, образованный!.. — хитро подмигнул Колобов и тогда же, достав записную книжечку, присел на дрожки и, подсчитавши что-то, хлопнул по плечу Василия:
— Идет! Кроме жалования, положу тебе десять процентов с чистого. Ну, чуть-чуть, может, обсчитаю... — прибавил он со смехом.
— Ну вот видишь: я знал, что и честность иногда дает проценты.
— Самый выгодный товар! — воскликнул Колобов и рассказал: — Отец мой был пастух около Змиева. И всю свою контору вел на костыле: делал ножиком зарубочки да крестики и таким манером вел счет чужих овец: у кого с каким тавром, кто сколько заплатил ему, кто сколько должен и на какой срок. Это, брат, такое было сочинение — дай Бог с молитвою понять. И вот, братец, были такие из богатых мужиков — не верили его зарубкам. И я помню, как он грозил одному богатею: “Состругну зарубки!..” А это значило, что крест поставит и над долгом, и над совестью богатого... Так, милый друг, один богач однажды в ноги ему поклонился, умолял не ставить этого креста, иначе бы вся волость отвернулась от купца-то. Вот как почитали прежде честность. А я теперь двойную итальянскую веду, векселя беру, а все-таки не платят... Испохабился народишко! — заключил Колобов, сел на дрожки и, тряхнув вожжами, крикнул на коня:
— Голу-убчи-ик!
Василий только улыбнулся вслед хозяину, в своей запальчивой погоне за обогащением часто забывавшему здороваться или прощаться. Так было и на этот раз.
Колобов спешил и говорил с Василием по дороге к дрожкам. Взяв же вожжи, он вдруг воспламенился:
— И зачем ты лезешь в это пакостное дело? Хоть бы жены постыдился! Ведь тут, брат, такую грязь начнут размазывать. Запачкают — и не отмоешься!.. Вместо спасиба — врагов наживешь обязательно! — прибавил Колобов и тут же рассказал коротенькую жуткую историю о том, как на днях в одном из ближайших сел хорошенькой поповне одна девица плеснула серной кислоты в лицо.
— За что? — испуганно спросила бывшая при разговоре Надежда Сергеевна.
— Больно рылом щеголяла! — ухмыльнулся Колобов. — Из ревности, понятно. Сюда в больницу привезли... Оба глаза выжжены... Отец, священник, плакал, доктора упрашивал хоть один глаз спасти... Единственная дочь. Пойми ты — за кого хлопочешь! — потрясая кнутом, заключил хозяин и, забыв проститься, сел на дрожки и укатил с заимки.
* * *
Рано утром в день суда Василий вспомнил, что ему не во что одеться. У него не было ни фрака, ни сюртука, ни даже приличного пиджака. Да если бы и был пиджак — не было крахмального белья. Ездившая с ним все эти годы черная суконная поддевка, некогда сшитая для выступления на соборе в Чураевке, имела уже старый и помятый вид, хотя за эти годы он почти не надевал ее. Он долго чистил поддевку, в то время как Надежда Сергеевна подглаживала чесунчевую, с расшитым воротом косоворотку. Она молчала, и в молчании ее было осуждение его затеи с неуместным выступлением. Молчал и сам Василий. Он был настроен напряженно и торжественно.
Он собирался защищать прежде всего самого себя, ту истину, которую носил в себе, то благо, которое ожидало его впереди, а главное, он исполнял ту внутреннюю волю, которая руководила им и озаряла пока лишь молчаливыми, безгромными молниями его душу.
Но если любимая и любящая Наденька, жена, не видела этих озарений, если зоркий Колобов не понимал, что руководило Василием, то что могли думать о Василии чужие, не знавшие его люди, когда он, после больших хлопот и преодоления множества формальностей, был допущен судом в число защитников?
Даже многочисленный простой народ, собравшийся около школы и наполнивший ее актовый зал, неуместно украшенный зеленью по случаю приезда в волость начальствующих лиц, увидевши Василия в его простой, поношенной, не подходящей к случаю старообрядческой поддевке, — начал перешептываться и хихикать.
— Вот дак заступник!
— Вот дак аблакат — оратель...
— Да это вовсе самодуровский начетчик!
Правда, многие из более степенных мужиков учуяли в Василии, в его наряде, в бороде и суровом, независимом взгляде именно такого заступника, который должен понимать нужды и дела мужицкие. Но уголовное дело было для таких степенных и простых людей делом не хорошим, не мужицким, а, скорее, городским и по-фабричному зазорным.
— Грамотеев это дело: сколь людей сбулгачили! Пакостники, сучьи дети! — говорили старики о подсудимых.
Большинство пришло глазеть. Слушали и затаенно ждали: осудят за “учительшу” или не осудят? Лишь помощник исправника Шестков, вызванный судом для обеспечения порядка и беспокойно следивший за нарядом из десятка уездных стражников, понимал, какое это скверное и опасное дело. Он знал, как часто вспыхивают беспорядки от малейшего скопления горючего мужицкого материала. Всего несколько дней назад тот же суд отложил разбор дела о бунте в Павловском лесничестве. Правда, бунт происходил пять лет назад. Многие из свидетелей и подсудимых умерли и поразъехались, и суд мотивировал отсрочку разбирательства именно этой причиною, но помощник исправника отлично понимал настоящую причину. Он всегда был против разбора дел на местах преступления. А в этом деле ему не нравилось еще и либеральничанье председателя суда, не пожелавшего отрывать крестьян от полевых работ и спешившего с разбором дела потому, что трое самых старших подсудимых, которых никто не соглашался взять на поруки, томились в предварительном заключении. Специалист по укрощению мужицких бунтов девятьсот шестого года, Шестков довольно хорошо изучил природу этих бунтов и за последние семь лет осмыслил силу растущего и стихийно искажающего весь порядок жизни хулиганства молодого поколенья. А это дело — плод именно такого хулиганства, и хулиганы всех сортов и возрастов, конечно, на стороне подсудимых. Уже вчера, когда привезли арестованных и их бледно-желтые, изможденные за восемь месяцев заключения лица показались на крыльце волостного правления, толпа подростков ринулась с красноречивой угрозой — вырвать заключенных, будто бы лишь для свиданья с близкими. Шестков заметил с крыльца трех зачинщиков и двух из них арестовал, а третий ускользнул от его глаз. И вот сегодня Шестков чувствовал на себе много тайных, пугливых и вместе с тем грозящих взглядов. И потому только один он знал всю воспламенимость обстановки, в которой начался процесс.
Поэтому-то Шестков первый стал следить за каждым жестом и за каждым словом Василия Чураева. Шестков уже имел о нем все сведения давно, как только тот сюда приехал и поселился на заимке. Сведения от московского градоначальства еще не были получены и вообще ничего неблагонадежного в поступках этого человека пока что не было замечено, но все-таки полицейское чутье Шесткова подсказывало ему чувство враждебного и острого внимания. Тем более что что-то уже натворил в родной семье этот ученый господин с мужицкой бородою. Теперь же, когда Василий выступал в роли защитника народа, и даже не народа, а хулиганской его части, Шестков имел повод заподозрить в Василии определенного врага порядка.
Иначе посмотрел на Василия председатель суда, высокий, пожилой, с благообразною подстриженною бородой. Он был действительно либеральным человеком и приятелем того крестьянского начальника, который строил по уезду прекрасные школы, в том числе и Березовскую, и который заседал сейчас в суде в качестве почетного мирового судьи. Читавший всегда лучшие московские газеты, председатель знал и о Василии Чураеве. Он знал также, что Чураев самородок, богослов, но что не по духу времени уклоняется в так называемую мистику. Председатель щеголял широкой объективностью в делах, был большой патриот и законник, искренно любил простой народ и потому всякие попытки законно защищать его приветствовал и поощрял, однако часто все положительные стороны народа использовал на благо укрепления порядка, власти и закона. Это был один из тех, многих за последние годы, добросовестных русских чиновников, которые после школьной скамьи долго колебались перед выбором путей своей дальнейшей жизни — между служением обществу и государству. Однако, выступив на путь служения государству, они отдавали ему всю силу знания, любви и совести.
Допуская Василия к защите с некоторыми формальными натяжками, председатель искренно хотел наиболее полного выяснения обстоятельств дела и, кроме того, серьезно интересовался личностью Василия Чураева.
Члены суда, почетный и сословные судьи хранили строгое молчание и старались ни к кому никак не относиться.
С нескрываемым любопытством относился к Василию товарищ прокурора Стеблинский, молодой, с нафабренными острыми усами, изысканно одевавшийся красавец. Острый и лукавый, изредка талантливый оратор, он скучал на судоговорениях, когда дело не требовало от него яркого сражения с защитой. Впрочем, нередко он проваливал обвинения, когда на суде присутствовали молодые дамы и когда он хотел особенно блеснуть острой шпагой беспощадного карателя. Но он заинтересовался личностью Василия в своих особых целях, и, когда происходили долгие и скучные формальности, он уже наметил план опорочения защитников. И обратился именно к Василию Чураеву:
— Это не ваш ли брат, если я не ошибаюсь, Викул, приговорен в прошлом году в каторжные работы за поджог?
— Да, это мой брат, — тихо отвечал Василий, чувствуя, какой страшный удар ему и его подзащитному нанес этот вопрос.
— Я больше не имею вопросов, — подчеркнуто скромно поклонился прокурор суду.
Председатель решил поддержать Чураева в столь тяжком и внезапном нападении и в свою очередь задал ему вопрос:
— Но сами вы сотрудник Академии Наук? И, если я не ошибаюсь, пишете в газетах и журналах?
— Да, пишу, — также тихо ответил Василий на второй вопрос, оставив без ответа первый.
Присутствовавший за столом прессы корреспондент московской газеты склонился над своей тетрадкой и через несколько минут его листок, с одним из подростков, скользнул за двери школы и потом на телеграф. Это была первая телеграфная корреспонденция в Москву с острой характеристикой одного из защитников.
За столом печати было два корреспондента. Один, высокий и здоровый увалень с простодушным полумужицким лицом — редактор уездной газеты, родной брат Онисима, Акинфий Агафонов, а другой, в больших очках в черной роговой оправе, кучерявый и прыщеватый брюнет маленького роста — Пласкин, сотрудник одной из больших сибирских областных газет, пишущий там под фамилией Граф Ласкин. Это он по дороге на процесс подбросил Агафонову заметку для его газеты о приезде столичного корреспондента. Ловкий, сметливый и прирожденный журналист, он не раз уже “создавал процессы” и заинтересовывал всю читающую Россию каким-либо одним, только ему известным углом зрения. Когда он услыхал вопрос прокурора, а затем председателя, он уже схватил одну из главных струн процесса, на которой он может сыграть бойкую сенсационную мелодию и заинтересовать читателей, обеспечив себе, кроме телеграфных сообщений, по крайней мере, два трехсотстрочных фельетона. Граф Ласкин, кроме того, недурно рисовал карандашом, и лицо Василия набросал одним из самых первых, тотчас после двух лиц юных арестантов. Таков был интерес к Василию со стороны зорко читавшего через очки представителя столичной прессы.
Естественно, что и внимание со стороны товарищей по защите было также чрезвычайное.
Пожилой и тяжелый, очень умный, но погубивший свою карьеру игрой в карты и неумеренной любовью к женщинам, присяжный поверенный Вятский, в складчину выписанный родителями подсудимых из Томска, просто боялся, что адвокат в поддевке навредит своей защитою. А молодой, щеголявший поэтической наружностью помощник присяжного поверенного Абрамсон, из Барнаула, говоривший высоким самоуслаждающимся голосом, сильно конфузился соседства сомнительного сотоварища, о чем и поспешил шепнуть своему старшему, почтенному собрату.
Небезразлично относились к присутствию Василия и доктор-эксперт, и священник, вызванный для приведения к присяге свидетелей, и три учительницы, одна из которых, самая младшая и самая хорошенькая, в густой вуали, сидела на отдельном месте. Это была та самая Лида Петрокова, потерпевшая, из-за которой поднято все это дело и которая, уволившись со службы, минувшею весною вышла замуж за пожилого мелкого чиновника в ближайшем городке.
Меньше всех интересовался своим защитником сам подсудимый. Фома сидел, упрятавши в плечи голову, четвертым слева и вторым справа, на одной скамейке с товарищами, которые не были под стражей. Впереди их, под охраной двух солдат, сидели старшие, гладко остриженные, бледные и потные, в казенных зипунах молодые арестанты.
Надежда Сергеевна на суде не пожелала, да и не могла быть: кроме необходимости находиться около детей и возле дела, она боялась своего волнения за мужа, а главное, стыдилась всех подробностей этого процесса. Но если бы она была в суде, она бы поразилась тому, как сам Василий был далек от всего, что думали и говорили о нем другие, и именно не кто иной, а сам Василий меньше всех присутствовавших на процессе интересовался собственной персоной. Он был захвачен все одной и той же мыслью, которая ему пришла еще тогда, когда он был у вдовы Прошиной. И все окружавшее его здесь, на суде, было живым, в лицах, подтверждением его растущих размышлений.
После смутившего его прокурорского вопроса он посмотрел на подсудимых, и эта группа школьников, ждущая с полуоткрытыми ртами суда над их отвратительным поступком, олицетворяла все те его собственные, еще недавние, скверные мысли и поступки, которые, однако, уживались рядом с его устремленьями ко благу и с его представленьями о красоте земной.
Вот перед ним восемь мальчишек, деревенских хулиганов, восемь представителей разных слоев народа, восемь отдельных членов подрастающего поколения, восемь ядовитых, отравленных пороком сорных травинок в необъятном поле... Да, их надо вырвать, быть может, сжечь и уничтожить. Но очистится ли жизнь, когда трава так глубоко вросла в земную почву и разбросала всюду невидимые и обильные семена проклятия?..
Василий уже видел главную причину зла, он знал и один из способов борьбы с ним — очистительный огонь, но ведь тогда вместе с дурной травой сгорят и лучшие злаки, и пустыня пожарища не даст ли урожая еще горших семян зла и преступления?
* * *
Суд длился уже третий день. С утра второго дня по желанию потерпевшей следствие производилось при закрытых дверях, и простой народ был крайне изумлен, когда судебный пристав стал очищать зал от публики. Подошедший к Чураеву граф Ласкин во время перерыва одолевал его десятками и ласковых, и каверзных вопросов. А накануне Вятский и Абрамсон устроили заседание защиты, чтобы распределить роли, выработать планомерное выступление и ввести Василия в такое положение, в котором он занял бы скромную позицию в защите и не повредил бы процессу. Или же выступил бы первым, чтобы опытные сотоварищи могли затем спасти положение. А положение защиты становилось все труднее, потому что одни из подсудимых запирались и стояли на своем, тупом и заученном: “ничего не знаем”, а другие топили и себя, и других сваливанием на запиравшихся, косвенно устанавливая многие улики и подробности. Усложнялось дело еще и тем, что подзащитный Василия Фома Прошин, самый маленький из подсудимых, которого учительница могла выдрать за уши и выгнать вон, во всем признался и, хотя не мог из-за стыда описать всех подробностей, однако же сказал, что он делал это после всех. Ясно было, что защита Василия, уговаривавшего Фому во всем признаться, губила всех остальных, и эти остальные и их родня и близкие уже сгущали свою мстительную злобу над головой Чураева. Но Чураев только слушал и молчал или же говорил, что он выскажется в свое время, а может быть, и совсем не будет говорить. Между тем его поведение на следствии казалось всем до чрезвычайности нелепым.
Так, например, он вдруг задал вопрос врачу-эксперту, утверждавшему, что Лидия Петрокова была не только изнасилована, но и растлена:
— А в какого-либо Бога вы, доктор, когда-нибудь веровали? Хотя бы в детстве, например?
Доктор даже не пожелал ответить на этот вопрос и, пожав плечами, улыбнулся судьям, а председатель учтиво оборвал Василия:
— Ваш вопрос здесь совершенно неуместен.
Тогда Василий вступил в пререкание с председателем.
— Мой вопрос не только здесь уместен, он именно здесь для меня как защитника самый главный и необходимый.
— Ваш подзащитный — единственный, который признает себя виновным перед законом, а стало быть, и перед Богом кается, — еще мягче возразил председатель, уступая перед читающим и бесстрашно-властным взглядом Василия, — следовательно, нам ни с какой стороны не понятны ваши религиозные допросы доктора.
— Я довольствуюсь вашим разъяснением, господин председатель, — улыбнувшись, отвечал Чураев.
Когда затем шел перекрестный допрос потерпевшей, у которой все бесстыдно требовали до мельчайших деталей разъяснения о случившемся, Чураев опять-таки задал вопрос красной от обидного стыда учительнице:
— Скажите, Лидия Петрокова, вы когда-нибудь мечтали иметь ребенка?
— Зачем это вам нужно знать? — с места задал ему в свою очередь вопрос товарищ прокурора.
— Я не спрашиваю вас, зачем вам нужно знать подробности о гнуснейшем деянии над потерпевшей, — тихо сказал Василий, поворачиваясь к обвинителю.
— Защитник Чураев! Я лишу вас слова, если вы будете в такой форме обращаться к суду! — вспылил председатель, так что молодой Абрамсон записал это замечание как кассационный повод.
Но Василий, поклонившись председателю, как бы соглашаясь с ним во всем, снова попросил его:
— Разрешите, господин председатель, еще один вопрос.
— Только, прошу вас, ближе к делу, — пошептавшись с членами суда, более бесстрастно сказал председатель.
— Скажите, потерпевшая, если вы не желаете ответить на первый мой вопрос: когда вы были маленькой — любили вы играть в куклы и воображать, что кукла — ваш ребенок, что вы его любите, хотите, чтобы он стал большим, например, воином или богатырем?..
Лида Петрокова не знала, что ей ответить. Она была впервые по-особенному смущена, скорее даже тронута этим вопросом, его тоном, той сердечной грустью, которая прозвучала в голосе Василия. Она задумалась и нерешительно стояла молча, и потому все судьи и присяжные, и даже подсудимые, повернувшись в сторону учительницы, напряженно ждали.
— Вы можете не отвечать, если не желаете, — подсказал ей председатель.
Но Лида Петрокова вдруг закрыла лицо руками и зарыдала, захлебнувшись неожиданно открывшеюся перед нею пустотой и безнадежностью. Ну, конечно же, она играла в куклы, качала, баюкала их, мечтала о ребенке, предвидела его судьбу, оплакивала ее и хотела быть той самой нежной, любящею матерью, которая баюкает и напевает песни колыбельные.
Но как же это так случилось, что все уже погибло, ее юность отцвела, и чистота поругана, и все мечты растеряны? Старый, издевающийся, пропахший табаком и потом, отвратительный и ненавистный человек благосклонно покрывает ее несчастие и позор. А все эти люди снова, еще раз, публично третий день позорят ее и все последнее у нее вытянули из души...
Лида билась в истерике, топала ногами, билась о скамейку головою и кричала:
— Не хочу я жить!.. Не хочу я больше видеть света!.. Уйдите все от меня прочь!.. Уйдите!..
Внезапный перерыв заседания был приписан бестактному и неуместному вопросу Василия. А новый долгий ужас раскрытия подробностей преступления как будто не касался и не волновал Василия.
Но чем ближе становился к окончанию процесс, тем отчетливее выступала на его фоне фигура Чураева — как влекущая к себе, загадочная и упрямая помеха.
С огнедышащею злобой, с издевательствами над вопросами защиты закончил свою речь прокурор. Он назвал вопиющим кощунством смешение понятия о Боге и религии с понятием о насилии над женщиной, а чистый идеал материнства — с вопиющим, жаждущим возмездия, гнуснейшим из растлений человеческих.
С разительного и тонко-деликатного осуждения мистической таинственности и богословского законодательства начал свою речь и Вятский, хотевший как можно определеннее отгородиться от неожиданностей со стороны опасного соседа.
Пламенно и искренно осуждал “задние мысли и игру на религиозных струнах” красиво декламировавший свою речь уездный львенок Абрамсон.
Вообще все на суде, начиная с председателя и кончая утомившимися на страже часовыми, которые, дежуря по два часа каждый, не понимали всей сути дела и быстро озлоблялись от напряженного внимания, — все были восстановлены против Чураева как против главного, преступнейшего подсудимого.
Чураев понимал это с первых своих шагов в суде, но не смущался и совершенно позабыл об этом, когда слово было предоставлено ему.
Шестков, незаметно вошедший как раз к речи Чураева с новой сменой часовых, превратился в мрамор, застывший возле входа. Взгляд его, устремленный на большой портрет ласково глядевшего государя, был полон острой и решительной вражды к Чураеву, настолько, что он не мог даже глядеть в его заросшее мужицкой бородою лицо. Помощник исправника уже отдал инструкции становому приставу, как и когда удобнее арестовать Василия, если к тому будут хотя бы малейшие основания.
Но каково же было разочарование, а потом и удивление и, наконец, восторг Шесткова, когда он услышал всю неторопливую и отчетливо произнесенную речь Василия Чураева.
Василий действительно казался почти безобразным, когда он виден был со щеки, немного сзади. Торчала часть помятой, сбитой на сторону бороды, а поросшая рыжеватым мохом часть скулы и острая бровь углубляли и без того большую впадину глазницы. Волосы были растрепаны, острый тонкий нос то показывался, то исчезал за клочками шерсти, и неприятно шевелились выцветшие, жидкие усы.
Но голос его, зазвучавший с самого начала тихими и плавными, успокаивающими нотами, казался как бы убаюкивающим, хотя в звуке его нарастала власть, бодрящая и поднимающая.
Казалось, что Чураев никого не замечал, кроме Андрея Саватеича Колобова, сидевшего на второй скамье среди присяжных. Даже Колобов смутился под неотрывным, острым и горящим взглядом изменившегося своего приказчика.
И говорил Чураев только Колобову, хотя старшиной присяжных был почтенный лысый господин, отставной полковник, житель маленького городка, того самого, где жила теперь Лида Петрокова.
Вначале было неловко, что защитник говорил одному из присяжных, почти отвернувшись от суда, но скоро все это забыли, покорившись власти его голоса. Никогда Василий Чураев не ощущал в себе такой трезвой ясности и остроты мысли, никогда так свободно и легко не выливалось его слово, как в этот раз. Однако с поразительною раздвоенностью шла в нем работа этой мысли.
Все та же двояко-опасная боль, что он почуял в себе еще в Индии, раскалывала его сердце и разум на две части, и чем сильнее он разил одним концом обоюдоострого меча невидимо-смертельного врага, тем глубже другая часть меча вонзалась в его собственное бренное, почти телесное, земное Я. Но сила его духа все более одолевала, и, постепенно позабывши о себе, он преисполнился глубокой жалости ко всем окружавшим его людям именно как к беспомощным земным творениям.
Он твердо знал, что никто из слушавших его не в состоянии понять того, что в этот момент повелевало ему говорить и мыслить, и потому слова свои он вкладывал в тот уровень понятий и примеров, которые были доступны умному и сметливому мужику Андрею Колобову. Ибо говорить то, чего не мог бы понять Колобов, было не только бесполезно, но и опасно для мысли самого Василия, потому что тогда он мог уйти в область, совершенно постороннюю всему происходившему здесь, на суде, и, конечно, его тогда сочли бы просто сумасшедшим. Ибо основные мысли, приходившие в этот момент к Чураеву, были первым откровением даже для него, много и рискованно тренировавшего свой мозг. Вот почему он смотрел только на Колобова и говорил только ему.
Кроме всего этого, Василий говорил действительно так, как будто суд судил его самого и будто он говорил не защитительную речь, а последнее слово подсудимого.
Любопытство ли к мыслям и словам Василия Чураева или желание доставить суду случай развлечься — помешали председателю прервать оратора не только тогда, когда Василий говорил о себе, но и когда он с беспощадной жестокостью обрушился на то главное, никем не судимое, но всеми восхваляемое, что, по его мнению, было самой жуткою причиной совершенного этими восемью грамотными юношами преступления.
* * *
— То, что я не настоящий адвокат и что не знаю тонкостей законов, написанных одними людьми для других, меня равняет с вами, господа присяжные заседатели. Вы тоже не знаете всех писаных законов, напечатанных во многих толстых книгах, кроме закона, который называем мы просто человеческим стыдом.
Василий сделал паузу, как острой сталью, сверкнул глазами в сторону заскрипевшего стулом прокурора и, всматриваясь в острое и строгое лицо Колобова, продолжал:
— Стыд — это такое понятное всем, даже малоразвитым простым людям, общежитейское правило, которое живет даже в животных. Я знаю, что хорошо выученные собаки способны переживать стыд за свои дурные поступки часто более мучительно, нежели некоторые высокоразвитые их повелители. Я также знаю, что в кругу городских людей, а в кругах образованных людей особенно, понятие стыда все чаще стало заменяться новыми словами. Эти слова: совесть, мораль, порядочность, сознание собственного достоинства, правосознание и тому подобное. Словом, по мере того как образованное общество становится все развитее, понятия о стыде все более видоизменяются, мельчают, часто смешиваются с предрассудками и делаются все менее и менее доступными простым людям. В этой разности понятия о стыде я вижу страшную беду не только в том, что восемь мальчуганов изнасиловали свою учительницу... Я говорю об этом случае как о факте установленном и удивляюсь, что мои почтенные товарищи по защите пытались это отрицать, доказывая невиновность своих подзащитных.
Василий вставил это твердыми, раздельными словами, в то время как Вятский и Абрамсон с негодованием пожали плечами и посмотрели в сторону судей, а затем в сторону присяжных.
— В таком разном понимании стыда я вижу страшную беду для всех грядущих поколений всей России, а может быть, и всего мира. Потому что мир раскалывается на две враждебные друг другу половины, и горе ждет не побежденных, а победителей.
— И первое, о чем прошу вас, строго рассудите: понятен ли и ведом ли простой и первый человеческий закон о стыде для тех, кто ныне призван охранять наши законы вообще? И если вы увидите, что о стыде закон даже не писан, то, стало быть, и нет того закона, который мог бы осуждать бесстыдство.
— Также я хотел бы опереться здесь на второе из главнейших правил жизни человеческой — на разум. Но трудность моя, ваша, господ судей и господ адвокатов, а главное, конечно, подсудимых, еще более усиливается тем, что и понятие о разуме тоже среди нас, заседающих в этом суде, резко делится на две совершенно враждебные друг другу половины. Да и весь мир, потерявший стыд и расколовший разум, потому и не может стать единым, что разрушает левою рукою то, что созидает правою. И вот на этом местном событии, которое с таким бесстыдством перед нами развернуло законное следствие, я хотел бы испытать и стыд, и разум человеческий.
— Господин прокурор еще до своей обвинительной речи пытался уронить меня в ваших глазах, напомнив мне о том, что я являюсь братом осужденного на каторгу поджигателя Викула Чураева.
— За это напоминание я только благодарен прокурору. Только с этой тяжелой для меня минуты, когда я вспомнил, что причиною злосчастья брата моего являюсь я один, — я вспомнил о стыде. Будьте же и вы, присяжные, стыдливы, для того чтобы исполнить тяжкий долг ваш в отношении этих молодых, но погибающих внучат великого народа-пахаря.
— Да, брата Викула погубил я тем самым оружием, против которого впервые здесь сам же возвышаю мой голос. Это оружие изготовлено и отточено в той самой мастерской, в которой фабрикуются все преступления нашего времени и из которой готовенькими хулиганами вышли эти восемь молодцев. Я не буду вам рассказывать о том, как погубил я брата, но я только хочу вам громогласно заявить, что не ему, а мне нужно было быть на каторге за его преступление. До такой степени я понимаю, как я виноват был перед братом, вернувшись из Москвы с подмененными мне там понятиями о человеческом стыде и разуме. И напрасно господин прокурор обрушил на меня гром и молнии, доказывая всю низость преступления, содеянного подсудимыми. Я не только с ним согласен, но еще прибавлю от себя, что, будь я на месте прокурора, я требовал бы не исправительных арестантских рот для малолетних, а смертной казни подсудимым...
Среди всех присутствовавших произошло движение, почти гул, и только подсудимые, вздрогнув от слов защитника, насторожились, сидя на скамьях, как изваяния, с полуоткрытыми ртами. У одного из них из носа свисла до губы зеленая густая жижа. Абрамсон же с этого момента начал записывать дальнейшие слова Чураева.
— Да, да, они достойны смертной казни! — повторил защитник. — Ибо я не вижу никакого смысла в том, чтобы эти с юности погибшие и растлившие сами себя люди продолжали жить и совершать дальнейшие нечеловеческие гнусности.
— Но, несмотря на все мое жестокое отношение к этим юным негодяям, у меня все-таки есть надежда на спасение их. Не на спасение от заслуженного ими наказания, а на спасение от гибели более ужасной, от той гибели, перед которою не раз стоял я сам и перед которою стоит всякий, кто, подобно прокурору, имеет то далекое, чужое, заморское понятие о человеческом стыде. Да и что такое каторга в сравнении с бездонной пропастью морального падения? Я уверен, что здоровый дух брата моего Викула, заложенный в нем нашим мудрым и простым родителем, там, в страданиях, еще более окрепнет. Более того: я верю, что даже среди звона кандалов брат мой счастливее многих из нас, слушающих песни вольных птиц и это судоговорение.
— Но обратимся снова к тем, на первый взгляд, маловажным подробностям преступления, на которых никто здесь не хотел остановить внимания и за установление которых я навлек на себя раздражение судей и острые насмешки моих товарищей по защите.
— Прежде всего я прошу вас вспомнить, что потерпевшая, живя в одной из комнат школы, часто принимала у себя своего бывшего жениха, не захотевшего, однако, стать ее мужем. Этот бывший жених здесь с омерзительной беспощадностью к себе и к девушке уверял нас в том, что она ему досталась уже не чистою. Здесь я согласен с прокурором, что свидетель не только оклеветал девушку, но что он даже и сам не имел с нею настоящей мужской связи. Я верю потерпевшей в том, что она не допускала его до этого потому, что боялась беременности, а беременности боялась потому, что плохо верила в замужество и боялась потерять службу в школе. Но вы помните, почему бывший жених основал свое предположение, что девушка не чистая? Только потому, оказывается, что на столе у нее нашел пудру, румяна и карандаш для подведения бровей. Я понимаю, как это оскорбило молодого человека и дало ему повод заподозрить девушку в дурном прошлом. Но я не могу бросить за это камень в девушку, которая не могла видеть себя в зеркале с натуральным цветом кожи и старалась скрыть веснушки. Однако же, вы видите, как деликатно встал между влюбленными дьявол бесстыдства и как уверенно повел он к погибели не только их самих, их любовь и брак, но и целую группу юных, распускающихся жизней. Молодой человек, сын торговца, моложе девушки на целых полтора года, счел себя оскорбленным тем, что за ним эта опытная городская девушка начала охотиться, чтобы женить его на себе. Отсюда уже все идет естественно: упреки, грубость, жалоба товарищу и, наконец, желание от нее отделаться, хотя бы и путем подстройки ее свидания с другим. И вот уже начались подсматривания в замочную скважину мальчишек младших отделений в то время, когда там находился не жених, а другой, новый. И эти подсматриванья перешли в смешки, а смешки в шушуканье, а шушуканье в сплетни, а сплетни в обнаженное бесстыдное воображение, а воображение в живую похоть. А когда похотью заражено целое стадо, — далее все быстро разворачивается само собою в смерч, в слепой и безудержный поток удушливой грязи, который уродует всю прелесть жизни.
— И не в том наш ужас, что мы не можем противопоставить таким потокам достаточно крепкую преграду, и не в том спасение, если мы закуем эти потоки в стальные плотины, а наш ужас в том, что нет иного русла, нет другой дороги для людских страстей, для накопленных веками могучих и в существе своем здоровых сил и соков жизни. Карандашик для подведения бровей здесь превращается уже в жезл проклятия, и девушка, подкрасившая им свои брови, уже начертала на своем лице знаки позора, уже подписала свою душу дьяволу, а вместе с тем и смертный приговор своим многочисленным поклонникам. И вот то, что создало необходимость в этом карандашике, что подсунуло вместо здоровой игры крови — розовую пудру и румяна, что вытравило в сердце женщины желание иметь ребенка, вот что — истинный преступник и наш общий враг!
— Затем вы помните, что ответила мне потерпевшая на мой вопрос — говорила ли она хоть раз с учениками о Законе Божием? Она ответила, что для этого у них есть батюшка, а батюшка приказывал уроки вытвердить. Тех же, кто не мог вытвердить, наказывал. И я теперь уверен, что не только ни один из учеников, но и сами учительницы и даже сам священник, приводивший здесь к присяге экспертов и свидетелей, ни разу не произносил своим ученикам этих огненных слов настоящим, полным значения голосом: “Закон Божий!”
Василий обернулся к сидевшему с ним рядом Абрамсону и, встретив его коварную улыбку, задержал на несколько секунд дыхание и снова обратился в сторону присяжных.
— Да, Закон Божий! — торжественно повторив эти слова, продолжал Чураев. — Это те самые слова, которые впервые прозвучали трубным гласом на горе Синайской и которые величайшим из пророков иудейских, Моисеем, были высечены на скрижалях. Как же звучат теперь эти слова, если даже у еврея, сидящего рядом со мною, они вызывают ядовитую улыбку? И какою, значит, фальшью, какой пустою ложью насыщена вся та школьная учеба, где эти прекрасные слова опошлены до такой степени, что учительница считает зазорною обязанностью говорить о них своим ученикам? Мудрено ли после этого, что именно в такой школе расцвел этот зловещий цветок, от запаха которого мы задыхаемся здесь три дня кряду!
Чураев вновь остановился, как бы слушая: не возразит ли кто.
— Теперь представим себе, что было бы, если бы здесь, в селе Березовском, совершенно не было этой школы? А было бы только то, что почти не было бы грамотных, но зато Закон Божий, внушенный старческой простой молитвой какой-либо суеверной, но богобоязненной старухи, был бы здесь заложен крепче, и, поверьте, он управлял бы массою народной лучше, нежели все вооруженные силы или писаные, книжные законы.
Один из членов суда наклонился к лежащему перед ним листу бумаги и стал что-то записывать. В зале произошло движение, и снова все затихло в напряжении.
— Вы слышали, что один из подсудимых пойман был за отливкой оловянных рублевиков, другой, будучи писаренком у лесничего, подделал подпись на денежной квитанции, а третий смешил и забавлял своих товарищей тем, что похабными словами искажал стихи великого поэта Пушкина. Вот почему я так усиленно и долго добивался ответов на мой вопрос: дала ли что-нибудь, кроме пойманных и еще не пойманных преступников, эта красиво выстроенная школа? Мне ответили, что здесь учился журналист Акинфий Агафонов, который редактирует теперь газету. Но я еще не знаю, где было бы полезнее быть Акинфию Агафонову: на пасеке ли своих дедов, которая заброшена, благодаря его наукам, или в редакторском кресле, для того чтобы исправлять благонамеренные корреспонденции сельских учителей и батюшек, вздыхающих о народной темноте и мечтающих о подобном просвещении народа.
Василий посмотрел на крупную фигуру Агафонова. Тот глубоко вздохнул и, затаив дыханье, снова превратился в слух.
— Учительница, которая на школу смотрит как на место, где она удобно может жить, и воображает, что сеет разумное, доброе, вечное... Ученики, которые приходят в школу для того, чтобы цинично искажать понятия о литературе и, в лучшем случае, в солдатах выдвинуться в унтер-офицеры и командовать взводом безграмотных парней... И обыватели, которые на школу смотрят как на место, где их дети перестают почитать родителей и верить в Бога, — все это такое жуткое содружество, такая страшная сила разрушения истинного духа, что вот мы видим, какое “спасибо сердечное” сказывает просветителям русский народ! Спрашивается, где было этим восьми мальчуганам, никогда, ни от кого не слышавшим о благе жизни, о настоящем смысле знания, об истинных путях Закона Божия, где им было побороть в себе первую, стадно-вспыхнувшую страсть?
— И вот они перед нами! Мы их судим, и я первый буду говорить о том, чтобы их убрали отсюда как можно дальше и чтобы о них все как можно скорее позабыли здесь!
— Я не хочу здесь говорить никаких и никому приятных слов, и меньше всего подсудимым. Я хочу быть до конца жестоким и откровенно спрашиваю вас: имеет ли вообще какой-либо смысл домогаться оправдания этих молодых людей? Если даже вы их оправдаете, — вернете ли вы им ту чистоту, о которой они никогда даже не знали, но которая жила в них, как и во всех детях, и которую они сами столь бесстыдно и столь рано у себя ограбили! Какую сладость в жизни обретут они на свободе, не получив возмездия за содеянное преступление? Единственное, что могло бы их спасти, — это то, если бы был найден способ пробудить в них стыд. И даже не стыд, а хотя бы малую долю жалости к самим себе, к утраченной чистоте, к тому младенчески-святому чувству, которое способно цвести радостью, выливаться в беспричинное веселие, которое зовет в зеленый луг или в цветущие поля. Ведь это не простые деревенские невежды, ведь все они учились в школе от шести до восьми лет каждый. Не может быть, чтобы ни один из них не уловил и не запомнил хоть один какой-либо священный стих о благе жизни, о ее дарах священных, о ее неисчерпаемом сосуде благодатной радости!
— Нет и нет! Я верю, что рано или поздно там, в неволе, отбывая свое наказание, они вспомнят свое детство, своих матерей, отцов и дедов, свои пасеки и пашни, копны и стога свежего сена, своих карек, рыжек и буланок и все то родимое, простое и прекрасное, что они перестали видеть здесь, ослепленные обезбоженным, обесстыженным, бездушным просвещением!.. Я верю в пробуждение в них стыда и разума потому, что один из них, самый младший, именно мой подзащитный Фома Прошин уже на пути к этому спасению. Он первый еще до суда омыл слезами покаяния одну из ступеней к этому спасению, и здесь вы видели, как он сгорал от стыда, отвечая на ваши вопросы.
— Вы только подумайте, как жестоко наказывает себя юноша, когда он лишает себя самого драгоценного в жизни — чистого, девственного стыда — и поступает с ним так, как не поступают даже животные. Проследите за жизнью животных — и вы увидите, что не только у собак во время их так называемых собачьих свадеб, даже у волков во время мартовских артельных гонок за их суками — не бывает того, что проделали в этой школе с девушкой восемь грамотных подростков!.. И все-таки я не хочу допустить мысли, чтобы у них, у этих юношей, сынов и внуков безупречных пахарей, сеятелей жизни, чтобы у них рано или поздно не проснулось раскаяние, а за ним и стыд, тот самый стыд, которым наделяет Бог человека при его рождении как изначальным правилом Закона на земле.
— Я понимаю, как далеко это Божье правило от правил суда светского, но я чувствую, я верю, я знаю, наконец, что над всяким человеком, над всякой живой тварью рано или поздно свершится суд единый, суд правый, суд неизбежный — это Божий суд. От этого суда никто, никогда и никуда не уйдет...
Василий не успел еще сказать того, что распирало его душу и что — как самый острый удар себе, и судьям, и подсудимым — берег он под конец, как на скамье подсудимых раздались всхлипывания нескольких придушенных голосов. Вскоре голоса эти слились в нестройный вой, и пятеро из подсудимых, встав со своих мест, что-то говорили, по-ребячески вытирая кулаками слезы, и только трое: двое из свободных и один из арестованных — сидели с тупыми выражениями на лицах. Они не поняли происходящего, потому что до их сердца или слуха не дошли еще слова Чураева.
Речь Василия была прервана, но он стоял на своем месте и глядел на подсудимых новыми, сияющими и потемневшими глазами.
Не сразу нашелся председатель. До такой степени все дело приняло необычный оборот. И когда был водворен порядок, оказалось, что четверо из подсудимых, кроме Фомы Прошина, решили рассказать суду всю правду.
Слово было представлено одному из арестантов, который никак не мог справиться со своими слезами. Лицо его растягивалось в жалкую гримасу — не то скорбь, не то улыбку, он то и дело вытирал глаза грязным платочком, комкая его в руках, и никак не мог начать того, что хотел сказать...
— Конечно... все это правда, господа! И я согласен пострадать... — наконец выговорил он и, упавши на скамейку, уронил голову на подставленный кулак и зарыдал скрипучим полудетским голосом.
Остальные тоже зарыдали и, не слушая председателя, наперерыв выкрикивали:
— Верно это... Мы это сделали...
— Что сделали? — желая быть точным, громко переспросил председатель у одного из подсудимых.
— Да... Мы изобидели ее... Лидию Сергеевну!..
— Почему же вы вначале не признавались?
— Заступников послушались...
На минуту наступила тишина, в которой слышны были только жалкие всхлипыванья подсудимых. Василий потупил взгляд и сел на свое место, как бы желая быть никем не видимым. Как будто он свершил какой-то несмываемый позор.
Был назначен перерыв, потом передопрос некоторых свидетелей, потерпевшей и подсудимых, и шестеро из них, не желая говорить подробностей, глухо повторяли как один:
— Пострадать желаем... Мы во всем виноваты!..
Только двое тупо упирались и молчали, не зная, что им говорить.
Поздно ночью при стеариновых свечах происходили страстные прения. Длинное, вдумчивое и беспристрастное резюме председателя только раздражило присяжных.
Удалившись для совещания, они пробыли за дверьми не более пяти минут, и на длинные вопросы суда вынесли короткий и единодушный ответ:
— Нет, не виновны!
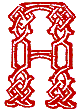 жизнь вокруг: около и далеко — всюду шла своим чередом, старая, как все на свете, и неизменная, несмотря на всю свою ежедневную изменчивость. Только жизнь Василия Чураева была действительно вся новая, пронзенная лучами солнечной энергии, проросшая живыми жилками окружавшего его мира животных, людей и природы. Иными, новыми глазами увидал теперь Василий мир, простой и ясный, грубый и веселый. Телом к телу, сердцем к сердцу, с глазу на глаз столкнулся он с простым народом, и кусочек его собственной плоти зацвел особой тайною. Народ — это был он сам, Василий Чураев, правнук некогда преступного, а после, может быть, святого Агафона, беглого из рабства, битого невольника, но сохранившего в душе своей жажду покаяния и спасения в горнем скиту. Из столкновения с мужиком Кирилой, из частых мелких стычек с пастухами и рабочими, с соседями и, наконец, с самим Андреем Колобовым, Василий понял, что только здесь и только в действенном соприкосновении с народом можно полной жизнью жить, работать, знать, желать, любить. Только здесь можно было и себя проверить, и понять то важное, к полному слиянию с чем всю жизнь стремился Лев Толстой. В Чураеве так быстро пробуждались и становились на свои места все навыки, слова, движенья, мысли его предков, что даже Колобов, человек острый на глаз и понимавший людей с двух слов, часто забывал о знаниях и мыслях, задремавших в Василии, а может быть, и испарившихся бесследно, навсегда.
жизнь вокруг: около и далеко — всюду шла своим чередом, старая, как все на свете, и неизменная, несмотря на всю свою ежедневную изменчивость. Только жизнь Василия Чураева была действительно вся новая, пронзенная лучами солнечной энергии, проросшая живыми жилками окружавшего его мира животных, людей и природы. Иными, новыми глазами увидал теперь Василий мир, простой и ясный, грубый и веселый. Телом к телу, сердцем к сердцу, с глазу на глаз столкнулся он с простым народом, и кусочек его собственной плоти зацвел особой тайною. Народ — это был он сам, Василий Чураев, правнук некогда преступного, а после, может быть, святого Агафона, беглого из рабства, битого невольника, но сохранившего в душе своей жажду покаяния и спасения в горнем скиту. Из столкновения с мужиком Кирилой, из частых мелких стычек с пастухами и рабочими, с соседями и, наконец, с самим Андреем Колобовым, Василий понял, что только здесь и только в действенном соприкосновении с народом можно полной жизнью жить, работать, знать, желать, любить. Только здесь можно было и себя проверить, и понять то важное, к полному слиянию с чем всю жизнь стремился Лев Толстой. В Чураеве так быстро пробуждались и становились на свои места все навыки, слова, движенья, мысли его предков, что даже Колобов, человек острый на глаз и понимавший людей с двух слов, часто забывал о знаниях и мыслях, задремавших в Василии, а может быть, и испарившихся бесследно, навсегда.