Г. Д. Гребенщиков
РОМАН-ЭПОПЕЯ
ЧУРАЕВЫ
том 2
СПУСК В ДОЛИНУ
ШЕСТАЯ ГЛАВА
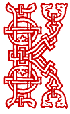
ак только утренний поезд, ускоряя плавный бег свой, вынесся с ритмичным грохотом из дымных, грязных и сурово-будничных пригородов Москвы, — Надежда Сергеевна легла на свое место и через минуту уснула сладким сном освобожденного раба. Она была измучена не только хлопотами, сборами и детьми, но и отвратительной ненастной погодой, а главное, была расстроена письмом отца, из-за которого и был решен ее внезапный выезд из Москвы.
Дети притихли от захватившего их любопытства и смирно сидели у окна вагона, схватывая взглядами все, что быстро проносилось мимо, не давая себя разглядеть и ошеломляя широтой, многообразием и волнующей новизной.
Через несколько минут она проснулась, быстро оглядела еще не разболтавшихся между собой соседей по купе и, увидев, что дети заняты и что по окну струится мелкий дождь, — поправила на себе складки платья, перевернула подушку и, закрыв лицо газовым шарфом, с улыбкой отдалась в объятья новой, еще более властной волны сна.
Сколько проспала, не знает: часы забыла завести, остановились. Наташа тормошила и шептала:
— Мамочка! Коля кушать просит.
Быстро поднялась, приложила наружную сторону ладони к горячей и розовой щеке, на которой отпечаталось кружево подушечной вышивки, и радостно почувствовала полдневное солнце, веселым золотом разбрызнутое на неоглядной и зеленой шири, которую заглатывал и, пожирая, резал поезд, как сорвавшийся с узды железный конь.
— Поехали! — пропела она над головками детей и обе сразу обняла, поцеловала в волосы и быстро занялась приготовлением веселого дорожного обеда.
Открывшаяся встречная ширь не только не пугала неизвестностью, но опять, как и семь лет тому назад, захватила ее, и благоразумие уступило место озорному чувству:
— “Снова на край света... Хорошо!..”
Был май. Погода наладилась. Когда стали подниматься на Урал, тучи ушли высоко в небо и закудрявились там бело-розовой пеной
Поезд был наполнен молодежью, ехавшей в Сибирь, домой, на летние каникулы, и соседями по купе, кроме одной старушки, были двое юношей. Надежда Сергеевна, расцветшая, с созревшею волнующей улыбкою и грацией движений, рядом со старушкой казалась редкою красавицей, и молодые люди всячески старались угодить ей и понравиться. Без умолку рассказывали смешные вещи, сами заразительно смеялись, следили за собой и за опрятностью в вагоне и даже разделили материнскую заботу о детях, особенно о Коле, который проявлял самоотверженное любопытство ко всем частям вагона, к паровозу и к тому, как все это пыхтит и движется.
Надежда Сергеевна относилась к их услугам с ответною симпатией, угощала коржиками своего изготовления и любовалась их улыбками, которыми весною освещены лица всех юношей. Ибо их в жизни ждет только хорошее, веселое и беспричинно-радостное.
Один из них был из военно-медицинской академии, иркутянин родом, всегда начищенный и наодеколоненный, с манерой барчука, с походкою танцора, с военной выправкой. Второй — из академии духовной, румян и застенчив, как стыдливая девушка, со следами семинарского красноречия и с той цельной свежестью, которою богата захолустная здоровая и сытая поповская среда.
Из других купе на голоса веселья приходили еще медик и юрист, и диспутам, острым шуткам не было конца. Скоро все между собою сдружились, казалось, на всю жизнь, не думая о том, что как только высадятся, позабудут друг о друге без всякой грусти и без угрызений навсегда.
Словом, Надежда Сергеевна ехала в Сибирь настолько хорошо и весело, что даже позабыла об отцовской обиде и о том, что она уже не Наденька, беспечная и глупая, какой была семь-восемь лет назад.
— “Я ведь уже мать семейства! Дурища!” — осуждала она себя после того, как где-то на Урале вместе со студентами подсматривала, как девочка, за каждым шагом ехавшего в первом классе князя. И по-глупому смеялась над челдонскою обмолвкой будущего проповедника:
— Ну, вот он, Волк-то-конский, князь ваш.
И князь запомнился ей ярко и надолго. Он был уже не молод, не высок, не строен, но гладко выбрит и одет с тем простым изяществом, какое дает гармоническое слияние жизни каждой складки с жизнью каждого мускула мужского тела. Главное же, он был так причесан, что волосы, чуть посеребрившиеся на висках, не заявляли о себе отдельно, а дополняли форму головы, посаженной на шее гордо и красиво.
За всю дорогу Надежда Сергеевна впервые вспомнила о Василии, и вспомнила в невольном сравнении его с этим князем, которого прозвали Волоконским, но имени которого никто не знал. Может быть, он даже и не был князем, но, сравнивая с ним Василия, Надежда Сергеевна неприятно вспоминала именно о мужиковатости Василия, который даже за границей не умел как следует одеться и совершенно не хотел остричь своих волос. В особенности Наденьке не нравилась его рыжеватая, хоть и очень мягкая, но какая-то неровная бородка.
А потом опять за всю дорогу от Урала до Новониколаевска не вспоминала о Василии. Мешали дети, болтовня студентов, общий смех и эти уносившиеся мимо ярко-зеленые, бескрайние поля и перелески, цветы и травы, редкие деревни, дымно-красные станции и опять поля с цветами, и поля, поля... Поезд мчался зыбко, с жадностью глотал пространство, изредка бросал в окна вагона едкий дым, но чаще резал ветер, подувавший с юга или с севера, и мчался, мчался, уносил Надежду Сергеевну куда-то молодо и далеко, беспечно и бездумно. Чудно-хорошо!..
Но в Новониколаевске, когда сидела в ожидании парохода и когда столкнулась с первой трезвой мыслью о своем маршруте и вообще об этой новой авантюре с поездкой на Алтай, вспомнила Василия опять с какой-то неприязнью, а нанесенная отцом обида вылилась в раздраженье на детей по какой-то пустяковой шалости.
Расставив по углам детей, пошла на пристань, узнала точно о пароходе, взяла билеты в меблированные комнаты.
— Ну, дети!.. Давайте помиримся!.. — сказала она, и дети с радостью узнали, что пароход пойдет еще сегодня вечером.
Когда же села на пароход и поплыла против течения великой и по-весеннему многоводной реки, опять повеселела. А рано утром в позванивавшей хрусталем нарядной рубке первого класса села писать письмо отцу.
— “Дорогой папа! Не удивляйся, что пишу тебе из-за Урала. Можешь думать что угодно о моем характере и поведении, но в Сибирь попала я не за какие-либо преступления, а по доброй воле. Сейчас еду на пароходе по Оби и, представь, чувствую себя настолько хорошо, что даже не хочу сердиться на тебя и — как видишь — пишу. Кстати, для расходов на путешествие с детьми в такую дикую даль ничего не продала из обстановки, и ты напрасно говоришь в письме, будто подаренные тобой мне драгоценности “давно ушли в штаны доморощенному философу”. Стыдно, папа, с такой несправедливостью восстанавливать меня против Василия. Да и все как раз не так, как пишешь ты. Во-первых, в редакции мне заплатили за его статьи, значит, они будут напечатаны, и, значит, ты не прав, говоря, что “благородная газета вычеркнула его из числа сотрудников”. Во-вторых, ни одной своей вещицы я еще не продала “на хлеб”. Вообще, я удивляюсь тону твоего письма. Ни твой возраст, ни твое общественное положение, ни среду, которую ты представляешь, я ничем не опорочила хотя бы потому, что даже сама наедине с собою не могу найти такой вины. Ты говоришь, что сделал все для воспитания во мне лучших традиций времени. Не знаю, но лично мне не все эти традиции были по сердцу. Что касается влияния на меня “извращенного социализма”, то ты же знаешь, что я никакой не стала стриженой девицей, а женой и матерью все-таки стала и хочу остаться ею по разуменью и по совести.
Впрочем, я не буду отвечать по пунктам и не хочу с тобой тягаться. Не знаю почему, но в данную минуту чувствую себя перед тобой немножко виноватой, и почему-то стало жалко мне тебя, мой милый “дедушка”. Это, должно быть, потому, что чувствую себя счастливее тебя, и новая моя глупость лишила тебя возможности хоть раз в неделю видеть твоего внучонка. Но ты должен на себя пенять: ты не умел почувствовать детей как надо, а теперь порадуйся за них. За дорогу они даже пополнели и порозовели. Письмо закончу после завтрака. Сейчас мешает твой любимчик, тащит меня на палубу”.
* * *
— “...Ты не можешь себе представить, что это за страна... Сегодня в полдень я была свидетельницей замечательной картины. Пароход шел по середине реки, разлившейся на несколько верст. Берега совсем пустые — ни одного жилья. С одного берега — тайга, с другого — высоченный яр, и за ним степь, как по линейке перерезавшая небосклон. Вдруг на яру появляется бегущая человеческая фигурка не то в платье, не то в рясе. Она бежит по яру на фоне неба — совсем крошечная и что-то машет пароходу. И представь себе: пароход останавливается и посылает за человеком шлюпку... До чего, значит, здесь важен и значителен человек! Оказался он сельским батюшкой. Очень смешной. Я сочла долгом познакомиться с такой достопримечательной персоной... Допишу письмо завтра... Сейчас подъезжаем к Камню — город такой на степи”.
* * *
— “... Ну, хорошо, попробую ответить тебе на некоторые твои недоумения, на которые, как ты пишешь, я всегда отмалчивалась или отвечала вздором. Только не сердись, если скажу, что раз ты обратился ко мне письменно, то из этого я могла заключить, что тобой руководила какая-то адвокатская логика. Так, по крайней мере, я поняла твое письмо в Москве и, может быть, поэтому решила не отвечать, а уехать, даже не повидавшись с тобою. Но теперь мне смешно думать, что ты со мной заводишь тяжбу, так как эта черта в тебе, да и во всей нашей высоко просвещенной публике, проникнута какою-то весьма сомнительной моралью. Ты скажешь, что я говорю не свои слова. Может быть, но мне хочется сейчас не от тебя слушать наставления, а тебе читать их. Настолько я чувствую себя и взрослой, и правой, и кое-что лично испытавшей.
А теперь изволь — подробности.
Да, брак мой с Викулом сложился так нелепо, что не дал мне даже фамилии Чураевых. Василий вспомнил об этом тогда, когда у меня родилась Наташа. А так как и с Василием мы еще не были законными супругами, то оба терпели от этого большие неудобства, особенно во время первого путешествия, в поисках места, где бы я могла беспозорно разрешиться от бремени. По России, да и в Европе с разными фамилиями в паспортах не везде удобно было называть себя супругами и останавливаться в одном номере, и потому проездом в Константинополе мы обвенчались. Это не выдумка и не подлог — это так и было. Я не знаю, как там по закону, а Наташа крещена после нашего венчания. Думаю, что и записана она как наша дочь, хотя, не спорю, может быть и названа внебрачной.
Правда, пока Наташа не появилась на свет, у меня являлось тайное желание отдать ребенка куда-нибудь в приют. Меня даже навещала мысль о том, что если ребенок умрет, — это будет лучше, нежели отравить жизнь всем троим, и особенно Василию. Но когда она родилась и когда Василий с трогательной нежностью стал ее нянчить и ухаживать за мною, — у меня явилась к ребенку такая любовь, какой я не представляла даже к ребенку от Василия. Может быть, именно благодаря такому поведению Василия, я еще сильнее привязалась к нему, и наше обратное путешествие в Россию, через Крым, было самым счастливым периодом в моей жизни.
Но то, что в Москве, среди знакомых, знали мою историю с Викулом, конечно, не давало нам быть вполне счастливыми. Кроме того, ведь тогда мы поселились у тебя, и Василий не переставал чувствовать неловкость и зависимость и вот почему он вскоре снова, уже один, уехал из Москвы. Когда же родился Коля, то я и поняла, что мы заполнили всю твою квартиру, и поэтому Василий настоял на том, чтобы я жила самостоятельно. Правда, сам он стал уезжать, и поездки его были одна другой продолжительнее. Это мешало ему зарабатывать на жизнь, и я довольно часто обращалась за средствами к тебе, пока между нами, на этой почве — помнишь? — не произошла неприятная переписка. Ты называешь его “кустарем в науке и литературе” и считаешь неспособным на какое-либо серьезное дело, но позволь тебе сказать на это, что не все доходные дела серьезны. Вот почему я тогда отказалась и от твоей помощи. Василию я об этом ничего не говорила, но сократила свои потребности до такой степени, что при двух маленьких детях не держала ни одной прислуги. Да, конечно, дети от недостаточных удобств и городского воздуха стали бледнеть, а у Коли, кроме того, стал развиваться рахит, и сама я стала с детьми слишком нервничать. Вот причины, почему я перестала у тебя бывать и почему не стала принимать твоих друзей, часто и бесцеремонно намекавших мне, что мой муж находится в хроническом отсутствии. Не знаю, почему еще, но Москва мне вдруг опостылела, и потянул далекий, дикий край, который я некогда успела посмотреть только одним глазком.
Но, пожалуйста, верь мне, что ничего особенно дурного я не сделала, и мне не стыдно показать глаза не только тебе, но и кому угодно. Успокойся и не обижайся, если я опять буду молчать и не попрошу у тебя денег. Мне это очень тяжело — пойми. Я понимаю, что тебе хочется видеть меня и детей довольными, но поверь, что я буду счастливее, если мы будем жить на свой счет, хоть и не очень роскошно. Во всяком случае, пока у меня хватит на все лето и на обратный путь, а там увидим. Может быть, немножко попрошу у тебя, когда вернемся в Москву осенью... Для замиренья”.
Здесь Надежда Сергеевна снова прервала письмо.
— “А вдруг я почему-либо должна здесь поселиться навсегда”, — подумала она, и мысль эта была так неприятна, будто она хоронила свою молодость и шла на поселение. Молчаливые равнинные берега реки в эту минуту показались ей чужими, дикими, пугающими своей сонною задумчивостью.
Письмо к отцу она так и не закончила, потому что вскоре наступила ночь. Пароход шел по Оби как-то наугад, ощупью, по широкой полосе воды среди пустыни.
Надежда Сергеевна, уложив детей, бродила по палубе и волновалась. Впереди были неведомые пункты с какими-то азиатскими названиями: Барнаул, Чарыш, Бийск...
Пароход нес ее все куда-то глубже в этот жуткий, необъятный край.
— “Зачем?.. И почему и что меня влечет сюда?..”
Но когда еще через два дня засинели горы, напомнившие ей верховья Иртыша и первый вихревой восторг, пережитый в тех горах в юности, она наполнилась грустным любопытством к новым неизведанным местам Алтая.
В Бийске она показала детей доктору, и он ей отсоветовал купать детей в теплых источниках.
— Это очень опасная вещь даже для взрослых, — любуясь молодой, изящной матерью, говорил он с преувеличенной любезностью, — днем здесь тридцать градусов тепла, а по ночам бывает иногда два градуса, а то и ноль. Дети ваши просто от солнца и от воздуха окрепнут. Кумыс пусть пьют, и приучите их ходить босыми...
И вот вместо намеченного села с серными источниками Надежда Сергеевна направилась в глубь гор, в Катунскую долину. В пути, уже в повозке, она опять повеселела, радуясь тому, что она снова едет в горы, к берегам большой горной реки, в неведомую глушь, в глубину крутых ущелий...
— “В уютное уединение чураевских скитов”, — взволнованно подумала она, когда повозка наконец с Чуйского тракта повернула на узенький ухабистый проселок в глухом лесу. Ямщик ей нахвалил деревню Малую Быструшку, где еще не было “воздушников”, как называли жители своих летних городских гостей. Поэтому свободных новых домиков довольно много.
Остановившись на земской квартире, Надежда Сергеевна переночевала, отдохнула, рано утром вымылась ключевой водой и вымыла детей, одела их в голубенькие легкие рубашечки и сама надела голубое вуалевое платье. И лишь после обеда пошла присматривать для себя домик, выбирая вид из окна на окрестности, а главное, хозяев. Ходила она с приятною ленцой, почти не думала о том, что ищет, и на окраине деревни, у подола лесистой горы разговорилась с пожилым высоким и чернобородым мужиком об одном глазе — “На охоте порохом из шомполки мне это выжгло”. Он просто обласкал детей и приказал жене, полной и краснощекой бабе, угостить барыню свежим кваском. Было в нем что-то похожее на старика Чураева: высокий посох в руках, зычный голос, широкий жест и та уютная лесная простота, которая какими-то словами и движениями умеет передать силу, краски, смех, а главное, ту чисто сибирскую, лесную независимость, какой не знает черноземная Россия. Надежде Сергеевне больше всего понравилось, когда он заявил ей:
— Пустить пущу — живи: дом мне не жалко, мы в нем сами летом не живем. А только уговор такой: судариков ночевать к себе не приводи... На стороне имей сколь хошь, а в дом не приводи.
И, усадив ее на деревянное самодельное крашеное “канапе”, он смягчился, ухмыльнулся целым добрым глазом и разъяснил:
— Видишь ли, какое дело: присудари всякой наезжает сюда много, и больше как-то баб. Сперва будто больные: “Ой, ка-хы да ка-ха”! А опосля, как кумысом-то отопьются да баранинкой-то отъедятся, и пошли распутничать... На одного плюгавенького господинчика всегда штук пять охотятся... А мы этого не любим. У меня две девки на возрасте, сын женатый. Да и так — уж это любо — не любо, а уговор дороже денег.
Если бы Надежда Сергеевна не знала Чураевых, она бы приняла такое заявление как обиду, но ей это понравилось. Впрочем, она все-таки поддразнила благочестивого хозяина:
— Значит, уж такие ваши кумысы и баранина: людей в грех вводят. А вдруг и на меня придет проруха с вашего кумыса.
Мужик закинул бороду и визгливо, искренно расхохотался.
— Ну, ты, видать, с ребятками, тебе не до того, — сказал он, вытирая прослезившийся от смеха здоровый глаз. — Ничего, живите с Богом. Вот Кирсантьевну сейчас заставлю курицу варить... Курицу сейчас зарежу — ешьте на здоровье! А меня зовут Федор Степаныч! — прибавил он для пущей крепости условия, как будто тем самым ручаясь за все остальное.
Он почти обиделся, когда она спросила его о цене, позвал с огорода одну из дочек, младшую, Ольгуньку, и послал ее хорошенько в доме вымести, а сам пошел в завозню и вместо грязных надел новые и белые, в полосочку штаны и запустил их в голенища праздничных сапог. В этом виде он пошел с нею на земскую квартиру и сам принес все ее вещи в свой дом. Все это расположило к нему Надежду Сергеевну настолько, что она сейчас же, не считая, отдала ему на сохранение все свои деньги и кое-какие драгоценности.
— Иначе я забуду на столе или гулять пойду да потеряю, — объяснила она.
Это, в свою очередь, покорило сердце хозяев, и они, таинственно уединившись в горнице, заставили ее два раза пересчитать деньги, цокая языком, полюбовались ее безделушками и по пути доверчиво открыли ей секрет, где они сами прячут свои ценности.
— Если будем на пасеке либо на пашне, а в деревне — спаси Бог — пожар, так уж ты, сделай милость, это первым делом от огня обороняй...
Новизны во всем: домотканые пестрые скатерти, пестрая сборная посуда, пузатый шкаф с зелено-желтыми занавесочками, красный полог над кроватью в виде балдахина, множество темных икон в красном углу, горшки цветов с крошечными лесенками для поддержания кудреватости — все это насыщало любопытством, смехом и весельем не только детей, но и саму Надежду Сергеевну. И тотчас же после обеда Наташу с Колей увлекла Ольгунька, еще не сформировавшаяся курносая толстушка, а несколько белоголовых, в красных рубашонках соседских ребятишек, с широко открытыми ртами и вострыми глазами, окружили маленьких гостей и наперебой показывали им местные достопримечательности и порядки. Между прочим, с затаенным ужасом показали дырку под плетнем, куда уполз вчера уж, а под скирдом старой соломы на гумне на днях курица “сама тринадцать цыпленков выпарила”.
— Как выпарила? — спросил ошеломленный Коля, чуть-чуть кося напряженно думающие темные глаза.
— Ну выпарила, из яичек! — объяснил таинственным и сиповатым баском сопливый Овдя. — Сама нанесла яичек и выпарила.
— А у нас кошка пять котят выпарила! В Москве-е! — торжественно объявил Коля и засмеялся так, как будто сказал, Бог весть, какую развеселую вольность.
— Эх ты! — просвещал его веснушчатый Гаврилка. — Кошка разве яички носит? Она так рожает.
— Рожает? — переспросил Коля. — А как она рожает?
— Неправда! Она в зубах из крыс приносит... Нам няня говорила, — перебила его Наташа, и между бровей ее, густых и уже черных, появилась складочка. Она откинула назад одну из размотавшихся русых косичек и объявила: — Она, когда крыс ловит, то там бывают такие крысеночки-котятки. Она их себе и набирает...
— Это у вас... в Москве? — сипел пораженный этой новостью Овдя.
Но Гаврилка знал это лучше всех и, засмеявшись, растолковал подробнее. Он даже сел при этом, как для собственной нужды, и просто вымолвил то слово, которое здесь, видимо, не почиталось нескромным.
Но Наташа поспешно взяла за ручку ошарашенного Колю и сказала:
— Пойдем к мамочке. Домой.
—А рыбу удить? — прохрипел Овдя. — У меня удочков есть много... Айдате?..
— На реку мамочка нам не велела, — сообщила благоразумная Наташа и нерешительно посмотрела на бревенчатый домик, в окнах которого мелькала голубая кофточка Надежды Сергеевны, устраивавшей новое гнездышко, и прибавила: — Пойдем спросим мамочку.
Деревня Малая Быструшка лежала на двух крутых берегах горной речки, тут же вскоре падавшей в Катунь, и доносившийся от ее устья непрерывный шум пугал девочку. Во время переправы на пароме, там, далеко ниже, она видела эту страшную, светло-голубую, пенистую реку, заглушавшую крики перевозчика. Но все-таки ей очень захотелось пойти на берег реки. В светло-синих глазках загорелись любопытство и восторг и какая-то природная и сдержанная осторожность.
— Мамочка!.. — кричала она в окна. — Можно нам на реку?.. Коля хочет! — прибавила она для подкрепления просьбы.
— Нет-нет. Без меня Боже упаси вас!.. Подождите! вначале строго, но потом веселее крикнула из окна Надежда Сергеевна.- Ишь, вы какие, я тоже хочу на реку!
И будто все: Коля, Наташа и она — мгновенно поняли тайные причины их желания непременно и прежде всего пойти на берег этой шумной и прекрасной горной реки, потому что все хором звонко засмеялись.
Вскоре на резном крылечке появилась ярко-голубая, светлая, празднично смеющаяся и ласковая мама. Еще был день, но от гор уже лежали на доме и в лугах большие тени, а солнце всюду разливалось теплым, подымающим весельем, и не жгло, как днем, а только радовало и ласкало.
Надежда Сергеевна, и дети, и большеголовые ребятки, и Ольгунька и даже в некотором расстоянии, поотставший Федор Степаныч — все отправились под косогор, в крутой овраг, по которому гремела холодная Быструшка. Продолбив себе широкие каменные ворота, она падала в могучую и грохотливую Катунь вместе с двумя выстроченными по ее берегам узенькими тропинками.
Это поклонение Катуни завелось давно, быть может, с тех пор, как появились здесь первые люди: в радости встреч, в тоске утрат, в бездумии и думах и просто без причин — ходить на ее берег, садиться там на прибрежные камни и смотреть, как мечут пенистую накипь волны, как плещется, и прыгает, и катится куда-то, и, закипая, зыблется, и поет-поет могучая и дикая, суровая река. Поет она века, тысячелетия и будет петь еще тысячи тысячелетий, пока будет всходить и заходить солнце. Поет она зверям и птицам, насекомым и гадам, поет всем поколеньям когда-либо здесь живших людей, и будет, заглушая голоса, непрерывно рокотать ее песня во вски веков — вот в чем секрет и притягательная сила ее, нигде в мире не повторенной, овеянной легендами чистой и прекрасной дочери Алтая — сказочной реки Катуни.
Вот почему Надежда Сергеевна как только вышла из ущелья на берег, как только услыхала давно знакомый шум, вечно шлифующий и перешлифовывающий миллионы мелких камней на дне и берегах, как только увидала могуче движущуюся вперед бурно-голубую, с изумрудными отливами бучил водную стихию, так и замерла на месте, сцепивши руки у подбородка и приподнявши трепещущие от восторга плечи.
— Боже мой, Боже мой! — говорила она, не слыша собственного голоса, и ее губы, и загоревшее в дороге, с резко выступившими и ставшими более крупными веснушками лицо, и полузакрытые от блистательного света глаза, и забранные в тугой узел на затылке волосы — все-все перестало жить своею жизнью, но все передалось этой стихии, отдалось ее течению, замерло под ее шумом, окаменело на целый ряд минут в молитвенном оцепенении.
— На камень, вон туда садись! — закричал над ее ухом Федор Степаныч. — Когда “воздушники” съежаются, дак этот камень никогда порожний не живет. Што твой стул...
Надежда Сергеевна увидела перед собой опершегося на костыль бородача, и все-все то, что было семь лет назад там, на другой, менее могучей, но такой же сказочной реке, встало перед нею, будто с тех пор прошла одна минута, и эти дети не ее, и это все не вновь новое, а то же, новое впервые, невероятно-бывшее, почти былинное...
Сев на камень, она закрыла глаза и опустила голову на обнаженную, тонкую и белую у локтя руку и, слушая реку, отдалась воспоминаниям с никогда не бывшей ясностью, с беспощадными подробностями, со всей силой оскорбления, со всей сладостью испытанного счастья...
И снова утвердила, в который уже раз, и, несмотря на обидное и постоянное отсутствие Василия, — снова сердцем, и умом, и всею кровью, и страданьями, и будущим небытием – всем-всем утвердила заново свою любовь к нему. К нему, к нему, к Василию, к этому неугомонному и тоскующему Ветру-Ветровичу, носящемуся по земле и где-то и сейчас качающемуся на тонких нитях своей ненасытной мысли. К нему, к Василию, не похожему ни на кого, до грубости простому, до загадки необыкновенному.
— Ах, как хорошо, что я сюда приехала! — лепетала она, расставаясь с древним неподвижным камнем, освещенным алым отблеском заката. — Дети! Уже сыро. Идите ужинать. Довольно! — позвала она детей, счастливая тем, что и завтра, и послезавтра, и еще, и еще она придет сюда, на этот берег, слушать ей одной понятный гомонливый язык вечной жизни.
А пока — дети. Эти милые тираны не дают подумать-погулять как раз в хорошие сумеречные часы. Их укрощения, маленькие и большие ссоры, упрощенный, но, однако, все еще довольно сложный обиход укладывания спать, с разыгрыванием сцен, будто раздевается и мама, — все это уже давно, с тех пор как уехал Василий, а Надежда Сергеевна рассчитала няню, — мешает ей побыть одной... Может быть, это и к лучшему. Иначе Бог знает какие мысли и желанья и развлечения заменили бы ей этот беспокойный недосуг с детьми.
А на этот раз пришлось еще придумывать, как уложить детей. Кровать была одна, диванчик тверд и низок, а спать с детьми в разных комнатах, разделенных сенями, Надежда Сергеевна не хотела. Она придвинула диван к кровати, наложила на него узлы, разную одежду и подушки, и кровать стала широкою: что вдоль — то и поперек. Решили лечь все поперек кровати. Мама в середине. Довольные изобретением дети разделись и приступили к вечерней молитве. Коля в коротенькой рубашке без штанишек молился, стоя на кровати, а серьезная, приученная еще нянею к порядку Наташа, прошла в передний угол, подняв глаза к иконе, и сама Надежда Сергеевна затихла позади... И как-то так случилось, что, слушая заученное щебетание детей, сама она на этот раз подумала о самом грешном, о том, что снова ночью — одна, без ласки и без веселых шуток и капризов, и как назло в эту именно минуту вспомнилась простенькая песенка:
“С кем я ноченьку, с кем я темную
Коротать буду?..”
Но тут как раз, уже захлебываясь от торопливости, заканчивал свою молитву Коля:
— “Спаси Господи в пути, в дороге папу и помоги ему в делах его на пользу людям”.
Эту молитву сочинила для детей сама Надежда Сергеевна, но дети читали ее по-разному. Коля в это время уже предвкушал, как он сию минуту хлопнется в постель и, дрыгая ножонками, начнет свою минуту бурной борьбы с мгновенным сном. Наташа же как раз в эту минуту произнесет очень медленно, осмысленно и громко, чтобы шалун Коля своим визгом не спутал ее слов, и это наполняло Надежду Сергеевну жалящим воспоминанием о том, что ведь Наташин папа не Василий, а другой... Что с ним?.. И пусть молитва девочки относится к нему, к ее настоящему отцу!.. И это последнее мгновение и было той истинной молитвой самой Надежды Сергеевны о том, чтобы Викулу послал Бог какое-нибудь истинное утешение. Это случалось с ней и раньше во время молитвы детей, но с особенной силой она почувствовала это здесь, в горах, и в этом домике, так напоминавшем среднюю хоромину в чураевской усадьбе. Наташа уже подошла к ней, чтобы поцеловать ее с
обычными словами: “Покойной ночи”, а глаза Надежды Сергеевны, наполненные слезами, все еще смотрели через потолок куда-то в высоту. И именно здесь, при слабом свете керосиновой лампы, Наташа в первый раз за всю свою маленькую жизнь заметила, что подбородок ее мамы странно вздрагивает, а из глаз катятся круглые, светлые капельки...Девочка стояла с поднятым, испуганным лицом и тихо спрашивала:
— Мамочка... Мамочка! Ты о папе плачешь?.. Мамочка!..
Надежда Сергеевна склонилась к девочке и, прижав ее худенькое, тепленькое тельце, целовала ее и шептала еле слышно:
— Я молюсь за него, милая!.. Я молюсь за него...
И девочка долго широко раскрытыми глазами смотрела в потолок, не смея спросить маму, не случилось ли что с папой в дороге.
Но свет вскоре погас, и рядом с девочкой появилась ласковая мама, с ее милым сладким ароматом кожи и волос, и такая теплая. И в ее объятьях сладостно было прильнуть к груди и заснуть радостно и безмятежно.
Да скоро и перед Надеждой Сергеевной замелькали травы и цветы, кустарники, ручьи, мосты и седые, черные, точно опаленные, смолистые, кедровые, сосновые и лиственные избы сел и деревень — все, что в таком обилии намелькало в эти дни в пути, далеком, утомительном и все-таки счастливом...
Ах, как хорошо растянуться во весь рост и отдохнуть после неудобных и трясучих кузовков-повозок.
Скорее, скорее отдыхать, пока спят дети!..
И, как единый сладкий вздох, промчалась ночь.
Чуть окрасились в восходе солнца занавески окон, а Коля уже топотал босыми ножками по пестрому половику, и его смех, вызванный игрою с голубою юбкой мамы, в которую он наряжался, не только разбудил, но сразу же рассмешил ее.
— Упадешь! Нос разобьешь! — кричала на него Надежда Сергеевна и не могла придать голосу решительного тона. Коля, спрятавшись в юбке с головой, бегал, как карлик-бедуин, и наступал на волочившийся подол.
И все опять подняли спор и развеселую комедию жалоб, обвиненья и преследованья друг друга, умыванья, одеванья и приготовленья праздновать грядущий день, уже зовущий на зеленые и ароматные луговые и лесные косогоры.
Кирсантьевна несла через ограду в свободную горницу кипящий самовар, а за ней следом семенила улыбающаяся детям полнощекая Ольгунька с ворохом румяных, еще горячих вкусно пахнувших оладий.
И пошли дни ровной и веселой чередой, изредка отличавшиеся друг от друга тем, что набегала туча, проливала на деревню дождь, с гор в ущелье налетали мутные гремучие потоки, и река мгновенно вырастала в грозную лохмато-пенистую бурю, а выглянувшее из-за туч солнышко разбрасывало по земле еще больше улыбок, радости и резвых криков рвущихся из всех щелей ядреной, полнокровной жизни.
Заметно налились загорелые щечки Наташи, чуть-чуть расширилась куриная грудь Коли, и явно стал узок корсаж у юбки Надежды Сергеевны. Ей не нравился загар: он был неровным, веснушки на носу и частью под глазницами казались слишком заметными, нарушая матовую смуглость окраски. Под кофточкой же, там, где тело не было доступно солнцу, оно было слишком белым, с чуть проступавшею сквозь кожу мраморною тканью жилок.
— Что это за пегий цвет!.. — рассматривая себя в зеркало, недовольно говорила она, а сама весело и с удовольствием смотрела на свой бюст, который снова стал приподнятым, умеренно очерченным и, как у девушки, — упругим. И во всем теле она вновь почувствовала ту невесомость, легкую подвижность, которая напоминает о себе именно тем, что человеку хочется быстро бегать, прыгать и летать.
Однажды перед зеркалом она расчесывала свои густые темно-бронзовые косы, и когда они струистым водопадом разлились по ее спине и по груди, она невольно погнулась под ними, как под тяжестью, и, круто вытянув длинную шею, опустила вниз лицо, закрыла его руками и стыдливо упилась думами о том, что если бы какой-нибудь распрекрасный рыцарь увидал ее сейчас с этим бюстом, с этим телом, с этой бронзовой волной
волос, он начал бы безумствовать от восхищенья...— “Ну, если ты мне скоро не воротишься! — погрозила она стоявшему на столе портрету, — тогда, брат, на себя пеняй!.. Не хочу я пропадать в этом прелестном одиночестве!”
Она встала во весь рост и раз и два колыхнулась, точно в танце, перед небольшим дорожным зеркалом, но в зеркале не видела всей гибко очерченной, законченной, созревшей для жадных ласк фигуры женщины, а видела лишь шею, отдельно бюст, отдельно — легкую округлость живота и изогнутые линии бедер. И еще больше наполнилась негодованием на благообразное, с острым и далеким взглядом изображение Василия.
В ушах она носила платиновые сережки с черными агатовыми продолговатыми подвесками, и это особенно подчеркивало белизну ее шеи и бронзовый отлив волос, а на левом безымянном пальце был у нее покрытый черной эмалью перстенек, подаренный ей Василием еще в Стамбуле. Он замечателен был тем, что вокруг недорогого сапфира было выгравировано изречение: “И это пройдет”. И вот теперь этот перстенек все чаще стал напоминать ей о том, что все пройдет, а главное, что пройдет молодость, поблекнет тело, вылезут и поседеют волосы и пройдет жизнь...
Чем больше чувствовала она легкость и красоту своего тела, тем чаще ей напоминал о себе этот перстенек.
Иногда она снимала его и по неделям не носила, как будто потому, что приходилось мыть детей, их мелкое белье и свои платочки. Когда же снова находила его на столике среди своих вещиц, то снова вспоминала все подробности прошедших лет, Василия и Викула, и снова шла на реку, которая своим могучим гулом смешивала все ее воспоминания, сомнения и тревоги и как бы примиряла с вынужденным одиночеством.
Между тем на берегу все чаще стали появляться разноцветные, хотя и не совсем изящные платья новых дачниц, сухопарых и немолодых, или же, напротив, очень юных, рослых и неуклюже толстоногих, в коротких платьях и в очках, с книжками или с рабочими корзинами в руках или с собраниями трав, цветов и насекомых. Появились и мужчины: какой-то шепелявый, очень бледный батюшка, затем — с одышкою училищный инспектор, а может быть, и гимназический директор. Надежда Сергеевна предполагала это по чиновничьей фуражке и по типу строго-испытующего взгляда. Этот взгляд знаком ей с пятого класса гимназии, когда в ней стала формироваться девушка. Какой-нибудь геморроидальный старичишка строжится над озорной девчонкой, а сам глазами ест ее пылающие щеки, и особенно чуть намечающийся бюст. Так и этот смерил взглядом ее раз, потом еще и еще, так и казалось, закричит: “Это еще что за декольте до самых плеч?” Ей не хотелось заводить знакомства с любопытными людьми, и она не стала ходить на реку, по крайней мере, в те часы, когда там они толкались. Они приносили на реку какой-то полусветский, полумещанский быт: книжки и сачки, любезные улыбки и неуклюжую манеру городских людей бросать камни в реку.
Тогда она повадилась с детьми ходить на пасеку к Федору Степанычу и лишь рано утром бегала умываться на реку. Ледяная вода бодрила ее крепкой, как крапива, жгучестью и вызывала краску на лице.
И вот однажды утром, придя полуодетая на берег, она столкнулась с господином, который, как показалось ей, слишком подчеркнуто любовался восходом. Он был в английских крагах, в охотничьем замшевом костюме, с какой-то сумочкой через плечо и с морской фуражкою — белая тулья, черный околыш — в руках...
Надежда Сергеевна прошла к воде, умылась и, вытирая на ходу лицо, покосилась на героя из дешевой книжки, как она тут же назвала его. И даже пропела в шутку, уходя к себе:
“Ах, скажите ради Бога,
Где тут к милому дорога?..”
С тех пор молодчик с остренькой бородкою и с кучерявой шевелюрой, маскировавшей начавшуюся круглую плешину на верхушке, стал встречаться ей все чаще, почти на каждом шагу. При этом он всякий раз почтительно уступал ей дорогу, так учтиво кланялся, так молчаливо и тихими стопами удалялся, что молодая женщина насторожилась. Он стал ездить верхом и появлялся на тропинке на пасеку как раз в то время, когда туда или оттуда шла Надежда Сергеевна. Это наконец взорвало ее. Она намеренно отворачивалась от него, стараясь не замечать, строго смотрела мимо, а он все-таки старался попадаться ей на глаза. И даже заговорил, когда однажды в узком месте, соскочив с коня и очищая для детей тропинку, он попятил лошадь в сторону. Он говорил весьма наигранным, вякающим и как бы беззубым баском.
— Пардон, медам! Пажжалста, медам... Не бойтесь, детки... Моя лошадка вас не тронет.
— “Ах, какой несчастный рыцарь!” — сказала себе Надежда Сергеевна, и у ней явилось острое желание поиздеваться над его мармеладною любезностью.
Она сделала очень томную, застенчивую мину и пропела жеманно — театральным голосом:
— Ах, что вы, право!.. Не беспокойтесь, ради Бога!.. — и стрельнула в его сторону с преувеличенно-кокетливой улыбкою.
И он немедленно же, в припадке самой неистовой изысканности, потащил следом за нею подошвы сапог по неровной тропинке, точь-в-точь как петух, когда бороздит то одним, то другим крылом, очаровывая курицу.
Глаза у Надежды Сергеевны из зеленовато-серых стали темными и, оттененные такими же темными и тонкими, высоко приподнятыми бровями, показались почти испуганными и большими, когда незнакомец, бросив лошадь, все решительнее придвигался к ней с явным намерением представиться. Вот он сделал еще два мелких, бороздящих шажка и с гримасою восторженной улыбки что-то промямлил и протянул ей руку. Когда же рука Надежды Сергеевны была робко приподнята, он так церемонно, по-придворному, почти до пояса склонился к ней и приложился, что даже дети, отбежав в сторонку, испуганно смотрели на него и затем в эти круглые, большие, потемневшие глаза матери.
Когда Надежда Сергеевна отняла у него руку, он откинулся всем корпусом назад и, прижав фуражку к груди, шавкающим, очень сладким голосом сказал:
— Как-кие у вас восхитительные дети! — и менее картинно, но все же очень церемонно поклонился поочередно детям, и снова, откинувшись назад и взяв фуражку в левую руку, он правою сделал тот характерный для сухого, законсервированного в канцеляриях или за игральными столами мужчины жест, который скорее напоминал жест руки разухабистой старухи: — Не правда ли, какая здесь прекрасная природа?
Надежде Сергеевне сразу стало скучно, и она даже не ответила. Но чтобы как-нибудь удержаться от резкости, обратилась к детям:
— Ну, идите же по дорожке! Зачем вы лезете в траву?
А на следующий день незнакомец снова встретился, уже пешком, без лошади. Поздоровавшись, промямлил те же восхищения о погоде и пошел рядом, но на почтительном расстоянии, стороною, запинаясь за траву и корни деревьев.
Надежда Сергеевна молчала, а он продолжал:
— Сегодня я пешком, но в общем, как прекрасно иногда проехаться в горы верхом... Хотя, конечно, здешние лошадки оч-очень не... — не подобрав слова, он продолжал: — А эти седла, седла здешние!.. Хотя у нас в манеже в Петербурге...
— “Ну, слава тебе Господи: сорок тысяч курьеров!” — не слушая дальше, подумала Надежда Сергеевна.
Но озорное желание повеселиться снова вернулось к ней и подзадорило.
— Ах, вы из Петербурга?
Он как-то горько и коротко пшикнул и визгливо выкрикнул:
— Ч-черт... Ах, пардон!.. — Да, представьте, куда забросила судьба. Такая дичь: ни общества, ни спорта, никаких удобств... Это ж какая-то ужасная страна! И вот сюда меня послали: ну, что ж, служить так служить. Попробуем в Сибири послужить, раз не повезло в Петербурге. То есть не то что не повезло, а так... Ч-черт!.. Ах, пардон — тут деточки... Жизнь, знаете, так сложилась. А впрочем... М-да...
Он шел бочком, запинаясь, жестикулировал и рассказывал так, как иногда подвыпивший бедняга жалуется на судьбу наедине с собою вслух, отрывочно и скомканно, когда мысль перегоняет всякие слова, а слова не покоряются рассказчику.
— Да что же вы там запинаетесь? — сжалилась над ним Надежда Сергеевна. — Идите по тропинке.
— Ах, да!.. Благодарю вас. О, ничего! Мне очень хорошо и так! — и, не желая стеснять даму или идти позади, он продолжал цепляться за траву кривыми ножками и болтал о себе все, что приходило в голову.
Через полчаса Надежда Сергеевна узнала, что он дворянин, старой русско-польской крови, фамилия его Борзецкий, что его родители были очень богатые и знатные помещики, имели дом в Петербурге, который он “как-то так. Ч-черт! Ах, пардон!.. Пропустил, знаете...”, что ему тридцать пять лет, а вот приходится служить где-то у ч-черта на куличках, “лесным кондуктором”.
— И даже не имею, знаете ли, формы... Да, собственно, здесь можно и без формы. Мужики здесь, собственно говоря, и без формы слушаются... Особенно ежели прикрикнуть... М-да... Чудесная здесь природа! Позвольте мне вашу накидочку... Па-азвольте! Но, в сущности, конечно, пожил я недурно. М-да. Бывало, кучивал. И как кучивал! С какими женщинами!.. Да... В сущности, собственно говоря, для женщин я готов был на все, решительно на все! — он снова откинулся всем корпусом назад, фуражка его, прикрывая сердце, похлопывала по груди, к которой он одновременно и как бы страшно бережно прижимал накидку Надежды Сергеевны. — А сколько я страдал! Хе-хе!.. По-настоящему... Вы не подумайте, что я какой-нибудь там ловелас. О, нет!.. Я всегда, собственно говоря, любил... Да-а, как это говорится: “Л-любовью ч-чистой и свят-той”!
— “Поехал!” — Надежда Сергеевна уже тяготилась этой болтовней.
Но он держал себя корректно, и болтовня его была невинной, довольно простодушной, и, хотя изобличала в нем человека очень недалекого и, может быть, даже пьяницу, все же дать ему понять, что разговор окончен, Надежда Сергеевна не решилась.
На этот раз он проводил ее до пасеки Федора Степаныча, который уже знал его как свое начальство и величал “восподин подлесничий”, что выходило у него: “подлец-нищий”.
Там господин Борзецкий в разговоре с мужиком держал себя с подчеркнутым высокомерием, но еще любезнее бороздил ногами перед Надеждой Сергеевной.
Вышло даже так, что следующие случайные сопровождения его в пасеку или из пасеки показались Надежде Сергеевне занятными и не предосудительными, хотя, когда по службе господин Борзецкий исчезал из своего участка дня на два и уезжал в лесничество, Федор Степаныч спрашивал у Надежды Сергеевны не без хитринки:
— Куда-то запропал наш барин?.. — и в слово “барин” вкладывал немножко насмешки.
Надежда Сергеевна не испытывала скуки или пустоты без этого человека, но улыбалась при мысли о нем: уж очень был любезен господин Борзецкий. Она часто видела, как он страдает, если она не позволяет ему нести свою накидку или корзину, или не пошлет его за кремовыми мальвами на косогор, или не даст ему какого-нибудь поручения: покатать детей на лошади, съездить ей за кумысом.
— Ах, помилуйте: я рожден для служения женщине! — искренно и облегченно говорил он, когда ему удавалось чем-либо ей угодить.
А Надежда Сергеевна внутренне смеялась над тем, что при ней все-таки состоит хоть и совсем паршивенький Дон-Жуан...
Однажды она так и назвала его:
— Послушайте, мой Дон-Жуан: вы совсем покинули вашу даму и пропали на целых четыре дня.
Господин Борзецкий даже не заметил ее пренебрежительного тона. Чутьем самца он угадал томительное одиночество здоровой женщины и с этого момента совершенно обнаглел. Он говорил с ней с прежнею любезностью, но каким-то полушепотом и похватывая и заостряя вверх свою бородку. Он стал пристально и исподлобья, полуприщуренно ей улыбаться и, наконец, когда заметил, что женщина не может справиться со смущением, перешел в стремительную атаку.
Сначала комплиментами по адресу ее фигуры он возмутил Надежду Сергеевну, но, когда на него ее уничтожительный протест не подействовал, она просто изумилась наглости и с любопытством слушала его циничные слова о том, что он, в сущности, имел дело, по крайней мере, с сотнею красивых женщин и с несколькими сотнями менее красивых, но что как раз у безобразных он успеха не имел.
Они возвращались с пасеки по живописной тропинке. Дети занялись ловлею жучка где-то за деревьями, а господин Борзецкий, схватив за руку Надежду Сергеевну повыше локтя, уверял ее:
— Ах, деточка моя, вы ребенок! Вы наивное дитя! Раз я вас, собственно, держу вот так, то уж, поверьте, буду и вот так держать, — и он при этом обхватил ее за талию и прикоснулся пальцами к груди.
— Я ударю вас! — закричала она, отбросив его руку.
— И ударьте! — прищурившись и самоуверенно глядя ей прямо в ненавидящие и прекрасные глаза, беспечно осклабился он. — А все-таки теперь вы уже не в силах сопротивляться моему желанию. Да, в сущности, теперь вы сами меня захотите.
— Никогда в жизни! — прошипела она и, меряя его презрительным взглядом, невольно сравнила его тощую, тщедушную, тонконогую фигурку с богатырским, стройным телом Викула. — “Но почему Викула? Почему не Василия я сравниваю с ним? — попутно мелькнуло в ее голове. — Василий тоже стройный, и он очень возмужал!” — точно защищая перед собой Василия, мысленно дополнила она.
— Да я же пошутил, — вдруг заговорил господин Борзецкий, и на лице его опять появилась отвратительная маска любезности, мольбы и брезгливой усталости. — Ну простите! Разве же вы не понимаете, что я шучу?..
— Как шутите? — изумленно вскрикнула она, как будто это еще больше оскорбило и возмутило ее. — Как вы смеете так шутить?..
— Ну, детка моя! Перестаньте! — с легким смешком сказал он. — Право же, довольно вам разыгрывать наивную девочку... Идите — вот ваши детки бегут...
Когда они подходили к деревне, он учтиво, как бы не смея протянуть руку, издали ей поклонился. Держа фуражку у груди, он откинулся назад и с деланным достоинством промямлил:
— Надеюсь, вы не сердитесь за мой порыв!.. — и прибавил, надевая фуражку: – А, в сущности, мне с-совершенно все равно.
— “Ну и убирайся к черту, пропащий гнусный человечишка!” — подумала в ответ Надежда Сергеевна. Но когда господин Борзецкий скрылся, в ней шевельнулось нечто вроде жалости. И даже не к нему, а именно как бы к нему и к самой себе вместе, будто оба они представляли уже нечто одинаковое.
— “Что это и откуда? — тут же следом строжилась она над собою. — Гнусность какая! Вот еще не хватало связаться с этаким шутом гороховым!”
— “А если бы был покрасивее?” — кто-то ехидно и настойчиво спросил у нее, как будто Василий.
— А там бы посмотрела! — входя в комнатку, вызывающе сказала она вслух.
Наташа робко подняла на нее глазки, и Надежда Сергеевна ни за что накричала на девочку:
— Ну что ты вечно смотришь на меня таким плаксивым взглядом? Ну что тебе нужно? Говори!
Девочка потупила глаза и не ответила. А Надежда Сергеевна закричала уже на обоих детей:
— У-у, как выпачкались! Идите вымойтесь сейчас же. Да хорошенько, раздевшись, в бане. Я сейчас вам принесу туда чистые рубашки.
И когда ушли дети, она одним взмахом сразу расстегнула все застежки, скинула кофточку, сбросила вниз юбку и, перешагивая через нее, осталась в одном белье. Она сразу стала ниже ростом и беспомощно ходила из угла в угол, отыскивая любимый капотик. Нашла, надела, стала у окна и увидела, что на уличке за речкой остановились три мужика верхами на косматых замученных лошадях. Один из них держал еще одну с вьюками, и этот-то вьюк привлек внимание Надежды Сергеевны. На нем был старый желтый чемодан, точь-в-точь такой, какой был у Василия.
Всадник, ехавший впереди, спрашивал что-то у встречной бабы, шедшей с ведрами на коромысле и показывавшей на усадьбу Федора Степаныча. И уже после того, как всадники нырнули в узкую и крутую долину речки, чтобы пересечь ее, Надежда Сергеевна вздрогнула, точно от испуга, и прошептала:
— Не может быть!
И выбежала на крыльцо. И тотчас же из-под косогора, посунувшись вперед на седле, стал подниматься к ее домику первый всадник. Он из-под руки, щурясь на закатывавшееся солнце, смотрел на домик и, кажется, ничего не видел, но его лицо, освещенное солнцем, ясно разглядела Надежда Сергеевна.
— Василий! — закричала она сочным, задыхающимся голосом и, не замечая, что ее капот еще не застегнут, побежала вниз с крыльца.
Она уже подбежала к самой лошади, а Василий все еще смотрел навстречу ослеплявшим его взор лучам солнца, и когда повернул лицо на голос жены, то увидел ее в расстегнутом капоте, и вместо приветствия, потихоньку торопливо, с легким упреком проворчал:
— Наденька! В каком ты виде? — и без запятой спросил: — А где Коля?
Увидев позади еще двух всадников и на бегу застегивая капот, Надежда Сергеевна розовым клубком порхнула снова на крыльцо и в комнату.
В минуты, пока она вновь трясущимися руками наспех надевала юбку и кофточку, она пережила как будто много-много лет.
А Василий быстро спешился и стал подниматься на крыльцо. И опять, точно не замечая самой снова выбежавшей на крыльцо Надежды Сергеевны, тревожно спросил:
— А где же Коля? Он здоров? — и еще тревожнее поправился: — Он жив?
— Ну, конечно! Дети моются, — протянула она и хотела посмотреть в лицо Василия с упреком, но посмотрела с робкою тревогой: так теперь, в тени, лицо его ей показалось темным, исхудалым, почти изможденным.
— “Неужели что-нибудь узнал?.. И что он мог узнать?.. Какие-нибудь бабьи сплетни... О том, что я гуляла с этим?..”
— Ну здравствуй, Наденька! — сказал, наконец, Василий, и по лицу его скользнула усталая улыбка. Он притронулся к плечам жены и посмотрел на нее с грустной лаской. — Где же дети? — снова повторил он.
Надежда Сергеевна при его упоминании именно о детях, а не об одном только Коле, вся зацвела улыбкою и закричала:
— Коля!.. Дети!.. Папа приехал! — и понеслась вниз и затем через ограду в новенькую баню.
А к крыльцу подошел сам Федор Степаныч, только что вернувшийся из пасеки. Не решаясь войти на крыльцо, он поднял снизу бороду и, всматриваясь одним глазом, протянул:
— Откуда, гостенек?
По словам Надежды Сергеевны, он представлял Василия совсем не таким простым и мужиковатым.
Онисим с ямщиком развьючивали лошадей, и возле крыльца в ограде сразу собралась толпа соседей, любопытных баб и ребятишек, и когда среди них появилась Надежда Сергеевна, ведущая к крыльцу Колю и Наташу, — Василий только сейчас поверил, что он наконец-то приехал к своей семье. А Коля и Наташа, запинаясь и робея, не знали, как им быть: бежать ли бегом или ждать, чтобы мама еще раз удостоверила: правда ли, что этот бородатый дядя, ничем не отличавшийся от других, их папа?
Опираясь руками на колени, как бы помогая ими преодолевать высокие ступеньки, Коля торопливо шагал на крыльцо, и его маленькое тельце в одном лифчике уморительно вихлялось, длинные льняные волосы, падавшие колечками на плечи, трогательно вздрагивали, а совсем темные глаза застенчиво смотрели на отца и улыбались робкою улыбкой. Он не знал, что сказать, и потому ненужный язычок жевал во рту.
Ожидая, пока он, как самый главный, влезет на крыльцо, Надежда Сергеевна с Наташей шли за ним следом и обе смотрели на него, как и Василий смотрел на него больше, нежели на жену и девочку, и, когда Коля подбежал к отцу, Василий быстро подхватил его и подбросил на руках на грудь. И сейчас же, никого больше не замечая, потащил его в горницу и уже там, после каких-то бурных слов радости и ласки, подбежал к Наташе и взял ее на руки. И хотя она застыдилась и, тяжеленькая, свисла в сторону, он все-таки обоих детей носил по комнате и лепетал совсем смешным, визгливым голосом:
— Да мои вы милые! Да мои вы бедные!.. Какой у вас нехороший папка, бросил моих маленьких!.. На целых на два года!..
У Надежды Сергеевны засверкали и потемнели от радости глаза, и кудлатая, давно не стриженная голова Василия, поворачивавшаяся то к Коле, то к Наташе, по-новому ей полюбилась, как простая в своей мудрости апостольская голова.
— Наденька!.. Голубчик! — вдруг горячо провозгласил Василий, опускаясь на диван и усаживая детей на колени. — Если бы ты знала, как я постыдно виноват перед всеми вами.
— Да что ты? Милый мой! — вдруг запротестовала она и опустилась на пол, положив на его колени голову.
Он понял это ее движение как заблаговременное примирение со всеми его грехами, но как раз это-то и наполнило его мучительным желанием немедленно рассказать ей о всех своих падениях и грехах — иначе он не может и не смеет прикоснуться к ее нежно-розовым, чистым, с усталою улыбкою сомкнувшимися устам.
Ее тяжелая прическа, развалившись, упала на руку Василия, и он мгновенно ощутил все обаяние этих кос, и белизну и нежность ее шеи, и всю томительную тяжесть ее притихшего, припавшего к ее ногам тела.
— “Прекрасная моя женщина!” — подумал он и, осторожно отстранив детей, взял ее за руки и приподнял ее тело в уровень с детьми. Но вместо поцелуя обнял всех троих и вдруг объявил веселым голосом:
— Ну, мы набело перецелуемся потом! А пока — где тут у вас баня? Грязный я, не дай Господь!..
Надежда Сергеевна пока не рассуждала ни о чем, а о том, в чем ей хотел признаться сам Василий, она не имела времени даже подумать. Слишком сама она была полна желаньями и грешными мыслями, и радость, что он вернулся и вернулся какой-то еще более углубленный — эта отеческая нежность к девочке, — целая эпоха в ее жизни, это настоящее признание девочки своей дочерью. А главное, как хорошо, что так своевременно Василий появился. Не будь его еще неделю-две, Бог весть каких бы глупостей она могла наделать!
День окончен был с большой бурной радостью, в отрывочных рассказах, в смешных признаниях и в уморительном любопытстве ко всему, что было с каждым из них за эти долгие два года.
Тут же после ужина, перерывая свои вещи и белье, Надежда Сергеевна натолкнулась на завалявшееся и исчезнувшее еще на пароходе недописанное письмо к отцу и покраснела, вспомнив, что о старике даже забыла. Василий с тревожной веселостью ревнивца ухватился за письмо, а она разыграла комедию испуга и стыда попавшейся изменницы... Когда же он пробежал письмо, то сам вспыхнул краскою стыда, и радости, и жажды покаянья перед нею.
Дети долго не могли уснуть. А когда заснули, отец и мать полюбовались их затихшими и мило задумавшимися во сне лицами и на цыпочках пошли в другую комнату, где была приготовлена постель для Василия. Постель с ее бельем, с ее одеялом, со знакомыми инициалами на подушках и со всем тем, чем он раньше почему-то так мало восхищался.
— Ну? — спросил он шепотом. — А ты где спишь?
— А я с детьми, — ответила она тоже шепотом. — Они меня пинают с двух сторон.
— А сегодня? – робко, задыхаясь, спросил он и привлек ее к себе.
Она ласково заглянула в его глаза и увидела в них все ту же прежнюю прямоту и строгость.
— А я перед тобою стал совершеннейшим негодяем.
— Ну зачем об этом? После все расскажешь, — закрывая ему рот розовой, ароматичною ладонью, с грустною улыбкой попросила она.
— Какая ты красивая, Надежда! Или это потому мне кажется, что я теперь стыжусь тебя...
— Почему же?..
— Не знаю, почему, но мне стыдно даже поцеловать себя. Неужели ты меня любишь?
— Ни капельки! — серьезным шепотом ответила она и прибавила: — Какой вздор: о поцелуях говорим, как гимназисты...
А сама опустила веки и слабо уронила голову к нему на грудь.
— Неужели это ты, Наденька! Та самая? Московская? Давнишняя?.. — захлебываясь радостным смехом, говорил он и рассматривал ее со всех сторон, точно желая убедиться — действительно ли эта самая, московская, давнишняя, испытанная и пришедшая к нему через такие унизительные муки его возлюбленная?
А она слушала, и закрывала глаза, и ее ресницы удлинялись тенью от света лампы, и все лицо ее, матово-бледное, постепенно разгоралось, расцветало девичьей целомудренной стыдливостью.
Он любовался ею, и все еще не решался целовать ее. Ему хотелось бесконечно длить эту минуту, а она шептала в страстном томлении и стыдливости:
— Погаси огонь.
— Нет, нет! Я долго, долго, до утра хочу смотреть на тебя, моя прекрасная, моя неизреченно-близкая, возлюбленная моя! Моя Надежда, Вера и Любовь!
И на щеках ее он увидел крупные слезинки. Наклонившись, он выпил их губами, а она совсем отяжелела, распустилась и сползла с его колен на пол.
Он поднял ее на руки и стал с благоговейною медлительностью раздевать, все время целуя ее шею, плечи, грудь и шепча никогда раньше не приходившие на ум слова восхищенной, озарившей, ослепляющей его радости. И слова эти были точно из библии или из книги жизни древнего Востока, создавшего бессмертный грех любви.
Изредка он задерживал дыхание и, любуясь ее покорным и прекрасным телом, слушал, как шумит за окнами река и как сладко, благодарно и молитвенно бьется и замирает в нем сердце.
И медлил, медлил, упиваясь наисладчайшею минутой вечности.
* * *
Через несколько дней Надежда Сергеевна закончила письмо к отцу всего лишь несколькими строчками:
“Милый мой и бедненький папочка! Как я, дурища, перед тобою виновата, что до сих пор не послала письмо... Но ты не можешь себе представить, как радостно мне посылать его именно теперь! Ведь мы встретились с Василием!.. И теперь я вижу, что когда ты мне писал твое грозное письмо, твоей рукой водил сам Господь Бог. Вернее, любовь твоя достигла цели. Показавшись мне грубой и эгоистической, она свершила чудо, толкнув меня на мое путешествие сюда... Одним словом, все мы обнимаем тебя с благодарностью, и все мы счастливы, как никогда и как никто на свете”.