Г. Д. Гребенщиков
РОМАН-ЭПОПЕЯ
ЧУРАЕВЫ
том 2
СПУСК В ДОЛИНУ
ПЯТАЯ ГЛАВА
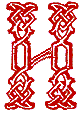
опять шел караван.
Шел он уже по тенистым причудливым берегам горных речек. Где-то тут, совсем близко за хребтами, должна быть и вершина той реки, где лежит родимая Чураевка и где Василий некогда попал в скит Акундиныча... Уж не один ли из ее истоков этот голубой каскад, уносящий пенистые волны с рачительною быстротой?
Виктория Андреевна была здесь особенно разговорчива, хотя шум реки глушил ее нежный голос и ехавший за нею вслед Василий с трудом слышал ее слова.
— Это невозможно, чтобы молодой талантливый ученый не имел ни средств, ни постоянного угла... Нет, вы не смеете на меня смотреть с такой высокомерною улыбкой... Слушайте! — Виктория Андреевна сидела к нему лицом и даже, наклонившись, потрепала по лбу лошади Василия. — У меня в разных странах несколько вилл и имений. Я чувствую, что не имею права содержать их только для того, чтобы на них жирела от безделья и лени моя многочисленная челядь. Поезжайте в Крым — там у меня две дачи в самых живописных местах, — выберите любую. Или, если вы не любите юга, поезжайте в мое финляндское имение... Наконец, Павел Осипович в прошлом году купил мне восточный домик где-то в Туркестане: там уж вам никто не помешает, и дети ваши, и жена будут в сухом здоровом климате. Точно так же и о средствах на издание: могли бы взять в долг хотя бы у моего мужа, если не хотите одолжиться у меня...
Василий учтиво перебил ее:
— Спасибо вам большое. Но сейчас у меня к вам просьба только о трех лошадях из каравана: доехать до Чураевки. В Чураевку! В Чураевку!.. — с грустной затаенной радостью пропел он и прибавил: — А потом надо спешить к семье. Пора!
Виктория Андреевна помолчала, закусив губки, и на лице ее, пониже щек, выступили неправильные розовые пятна. Она улыбнулась, но улыбка вышла злой и горькой.
— Что же это? Бегство от опасных искушений?
В голосе ее послышались ирония и скрытое негодование.
Василий пожал плечами и посмотрел на гриву собственной лошади. Он и сам не знал, что пугало его в этой женщине: ее ли слабость или ее сила?
И еще два дня он терпеливо исполнял обязанности “очарованного спутника”, как он сам называл себя, и подчинялся прихоти Виктории Андреевны: сопровождал и развлекал ее, слушал повести о самых ярких ее приключениях, ради которых она живописно познакомила Василия и с главным из ее романов, героем которого оказался не кто иной, как сам Виталий Афанасьевич Баранов.
— Это он некогда увлек меня восточной экзотикой, — улыбаясь, говорила Виктория Андреевна. — И из-за него я калекой стала, — прибавила она с трогательной беспечностью, как будто даже с удовольствием. — Только он об этом никогда, конечно, знать не должен.
Наконец они были у цели, и, когда караван перед последним подъемом к теплым ключам шел по зеленому и просторному лугу, поблизости, на берегу новой и шумной реки, под лиственницами показалась группа калмыков. В убогих засаленных овчинах, с бронзовыми широкими лицами, с черными косичками, торчащими из-под круглых плоских шапочек, они ютились под стволом дерева, как стайка дикого зверя. На суку дерева вместе с плохонькими седлами висел большой шаманский бубен, а поодаль бродили на траве связанные попарно лошади.
Василий знал, что здесь поблизости алтайские калмыки не живут и что если здесь оказался шаман, то он был выписан с Катуни кем-либо из суеверных больных, лечившихся теплыми водами.
Как только в долине показался караван Виктории Андреевны, среди калмыков произошло смятение. Почти все вытянулись, смотря на подъезжавших, затем засуетились, и два из них поспешно, перекачиваясь с боку на бок, пошли навстречу. Они остановили Парфеныча и в знак особого приветствия поменялись с двумя из проводников-монголов трубками. Потом один из них подошел к Виктории Андреевне и, радостно оскалив прекрасные белые зубы, заговорил на скверном русском языке.
— Здорова живошь, матчка! — приветствовал он хозяйку и протянул ей тонкую сухую руку. — Ну вот, тири диня жидалимся как раз... Привеля я тибя шаман... — он при этом показал на стоящего поодаль жалкого оборванца. — Ис кошим и псе килеби нету... Кожайки нету. Хи-и! — радостно заключил он свой доклад.
Василий ничего не понял, тем более что говоривший был без косы и одет по-монгольски. Парфеныч передразнил:
— Есть хочешь. Хлеба нету. А пошто не запаслись?..
На лице Виктории Андреевны снова появились розовые пятна, и губки ее изогнулись в стыдливую улыбку. Она указала на стоящего поодаль калмыка и спросила:
— Да настоящий ли он шаман-то? Поди, побирушка какой-нибудь... — при этом она избегала глаз Василия. — Мне нужен настоящий, чтобы дети могли видеть настоящее камлание, — прибавила она, глядя на калмыка, но Василий понял, что сказано это исключительно для его сведения.
— Нет, настияша... Не кители даже ехать... Вот, килянелся, килянелся ема... Четира лошадь просит... Настияша!.. Што ти!..
— Четыре лошади? Экому-то сопляку? Да что так много? — строго вмешался Парфеныч, но Виктория Андреевна подняла руку на Парфеныча и опять сказала, явно для Василия:
— Мне хоть восемь не жалко, только бы настоящий... Витя! — позвала она, полуобернувшись, так чтобы зов ее немедленно людьми был передан Виктору, и следом, как бы набравшись смелости, она объяснила непосредственно Василию: — Я хотела детям сюрприз устроить, камлание показать... Как вы думаете — стоит ли такого шамана показывать? Что-то уж очень жалкий...
Шаман стоял поодаль на кривых ногах, в клинообразной меховой шапке, и слезившимися, красными от постоянной жизни в дымной юрте глазами смотрел в сторону хозяйки, как бы ожидая приговора.
Василий понял, что шаман вызван Викторией Андреевной через заблаговременно посланного нарочного и что, конечно, не для забавы детей, а для лечебного молебна, и не знал, что ей ответить. Слишком бурно и внезапно поднялись в нем мысли изумления, жалости и любопытства.
Виктор неспешно подошел и, будто шутя, но довольно крепко стегнул монгола по обнаженному плечу нагайкой.
Нарочный подобострастно улыбнулся, почесал плечо, которое из темной бронзы превратилось в красную медь, и долго и запутанно по-монгольски объяснял историю ухаживания за шаманами, которые не верили ему или не желали продавать свой дар, и только этот шаман отважился, но взял с собой для безопасности, а может, и на случай дележа богатого вознаграждения за камлание трех товарищей, а трое поехали из любопытства и от нечего делать.
Когда все это Виктор передал Виктории Андреевне, она осмотрелась и нашла, что лучшего места для временного лагеря, как этот луг с огромными и редкими коряжистыми лиственницами, нельзя желать, и коротко сказала:
— Вот под теми лиственницами... Паша, Варенька! — крикнула она опять назад.
И все поняли, что здесь будет продолжительная остановка. Варенька сняла с вьюка раскладное кресло, а молодежь с шумной радостью рассыпалась по лугу, выбирая место для своих палаток.
На большом пространстве среди мрачных лиственниц задвигалась цветистая и разрушительная жизнь кочующей и гомонливой толпы города.
Виктория Андреевна пересела в кресло, и, так как луг был кочковат, а в руках прислуги кресло плохо по нему катилось, Василий машинально взялся за передвижение кресла к облюбованному месту для палатки. При этом он подумал: не таится ли в нем настоящей подлой мысли когда-нибудь воспользоваться благосклонным предложением пожить на ее счет.
Он, конечно, отвергал с негодованием такую возможность, но самую мысль об этом придержал в себе, как злую собаку на цепи, чтобы в любую минуту спустить ее на прежнего, благородного и гордого Василия.
Глаза у него были злыми и колючими, когда случайно обернувшаяся к нему Виктория Андреевна взглянула в них.
— Я ведь не просила вас тащить меня! У меня для этого есть люди! — резко сказала она, приняв на свой счет прочитанную колющую остроту в его глазах.
И Василий ей ответил:
— Простите меня, но разыгрывать преданного вам друга я больше не могу...
— Да, я вижу это и никогда ни от кого этого не требую и не желаю! — отчеканила она взволнованно и отвернулась. В профиле ее губ вместе с судорогой оскорбления резко отгравировалась складочка презрения и брезгливости: — Три лошади к вашим услугам! — гордо вымолвила она...
Но Василий уже овладел собой и сказал:
— Благодарю, я обойдусь без ваших.
..Он сейчас же подошел к Онисиму и попросил его переговорить с калмыками, чтобы они доставили его в Чураевку. Те согласились, но сказали, что поедут только после камлания, когда у них будут четыре лишних лошади.
Прошел день приготовления Василия к отъезду, но камлание еще не совершилось. Виктория Андреевна камлание отменила, чтобы ускорить отъезд Василия.
Между тем шаман, не камлавший больше месяца и около недели готовившийся к священнодействию, давно ходил без пищи и питья с невидящими, мутными глазами, переполненными болезненной потребностью камлать. Василий это знал по прежде добытым научным данным и хотел, чтобы камлание состоялось как можно скорее: во-первых, потому, что для шамана и его свиты отказ от камлания убыточен, во-вторых, чтобы калмыки получили обещанных лошадей и Василий мог бы на них выехать в Чураевку, а в-третьих, потому, что самому Василию хотелось видеть это камлание теперешними зрелыми глазами.
Но Виктория Андреевна осталась верной своему капризу и приказала объявить, что камлания совсем не будет, но что лошадей шаману должны выдать из запасных, и немедленно...
Обо всем этом Василию полушепотом сочувствия и сожаления сообщила Варенька. Она к нему питала почему-то почти материнское расположение. Василий пошел в раздумии по лугу.
Кончился и этот день. Пришла прохладная, росистая и незабываемо прекрасная лунная ночь под лиственницей на тюках, почти бессонная в беседе с Парфенычем и Онисимом. А назавтра поздним утром бегавшему по лужайке за своим козленком Котику попался на глаза шаманский бубен. Он схватил его, стал в него бить как в свой игрушечный барабан.
Шаман в это время бродил поодаль от становища. Пошатываясь и запинаясь за корни лиственниц, он походил на спящего или пьяного и даже не интересовался выбором отданных ему лошадей, которым занимались в эти минуты его товарищи и спутники под руководством возмущенного расточительностью тетки Виктора.
Услыхав вой бубна, все калмыки изумленно обернулись. Шаман же замер на месте и, точно проснувшись, увидел, что его бубен в руках чужого мальчика. Он вскрикнул, с безумной яростью бросился к становищу и погнался за Котиком. А Котик, не желая отдать бубна и путаясь в траве, убегал от шамана, виляя среди лиственниц.
Шаман догнал Котика и схватил за белокурые и вьющиеся волосы и, отняв бубен, трепал мальчика как пакостливую собачку.
С исступленным воплем бросились к шаману Алиса Карловна, Андрей Ильич, мадемуазель Марго. А Виктор изо всей силы стал бить нагайкой по лицу и голове шамана. Но подбежавшие калмыки бросились на Виктора, а на них накинулись русские проводники, чтобы разнять схватившихся. В визгливых и рычащих воплях загорелась драка. Мимо Василия освободившийся от Виктора шаман побежал с отобранным бубном к дереву, где висело седло и какое-то тряпье, и быстро начал облачаться в свой тяжелый, сложно-многоцветный и казавшийся сотканным или сплетенным из бесчисленных жгутов, лоскутьев, блесток, медных пластинок, ременных заплат, заячьих лапок и птичьих голов — шаманский плащ-наряд.
Виктория Андреевна в испуге соскочила с кресла и упала на траву. Василий, подбежавший к ней, поднял ее и, толкая ее в кресло в палатку, услыхал, как кто-то крикнул возле драки:
— Камлает!.. Камлать начинает!..
И, точно по волшебному мановению, дерущиеся из остервенелого ревущего клубка превратились в россыпь, брошенную на траву. Они затихли и смотрели теперь на шамана, шедшего по лугу плавно, мелкими шажками и преображенного в расцвеченном, широком и тяжелом наряде.
Василий повернул Викторию Андреевну лицом к шаману, чтобы самому лучше видеть из палатки все происходившее, и сказал удивленно и громко:
— Посмотрите!.. Посмотрите!.. Вот вам и чудо!..
Виктория Андреевна с лицом, дергавшимся от испуга, оглянулась на Василия и тоже повернулась в сторону шамана, который начал уже первые малые круги своего танца. Из всех притихших и крадучись подползших к месту действия людей только один Котик всхлипывал и дрался с Андреем Ильичем, который хотел силою унять в нем плач и, уговаривая его, тискал ему ручонки и угрожающе шипел.
Василию не видно было из палатки всех лиц, но он увидел профиль — с полуоткрытым ртом и недоуменною насмешкой — Виктора, приподнятые в застывшем ужасе хрупкие плечики Марго и широко открытые глаза меланхолической Людмилы.
Василий стоял возле Виктории Андреевны, пока его сменила прибежавшая от реки Варенька.
Возле речки, на мозаичном цветном берегу, под яром она и Христианыч готовили обед и из-за шума реки даже не расслышали криков происшедшего, и потому Варенька даже не понимала, что такое происходит. Увидев же, что все замерли и смотрят на переодетого в длинную странную одежду калмыка и что лицо Виктории Андреевны в слезах и судорогах плача, — Варенька испуганно перекрестилась и прошептала:
— Господи, прости нас грешных!..
Василий незаметно вышел из палатки и, обогнув весь стан, ушел под одну из лиственниц, притулился там к ее стволу и замер, созерцая быль как сновидение.
От него был виден угол девственного луга, ярко-изумрудного, густо обсыпанного сочными цветами. Несколько коряжистых гигантских лиственниц поднимались в высоту, пересекали черными стволами остаток луга, реку, кипевшую молочной бирюзой и сверкающе певшую среди белесых, гладко отшлифованных, точно кисельных, берегов вечные, неумолкаемые никогда псалмы; он видел зелено-мохнатый лесистый склон ближней горы на противоположной стороне реки и далее — совершенно сказочную по своей непередаваемой и сладостно-родимой красоте лиловую и крутосклонную долину реки, уходящую в неведомую синь, где голубеет изломанный горами светло-полуденный небосклон.
И на этом фоне среди пестрой, никогда не бывшей здесь чужой толпы капризных горожан совершено неожиданно, без повода и просьб, без корысти и ожидания оваций и наград дикий получеловек не мог сдержать в себе накопившегося священного экстаза, и вот он отдается его чарам, самозабвенно кружится, и его бубен воет вьюгой... Да правда ли все это?.. Не сновидение ли?.. Может ли это быть в двадцатом веке, наяву?
Василий был ошеломлен, подавлен и восхищен этой картиной.
Нигде, ни в одной чужой стране и никогда не испытывал он столь потрясающего впечатления, как этот нарастающий вихрь пляски дикаря с закрытыми глазами. И это где же? В каких-либо ста верстах от его родной деревни, значит, дома!.. А он искал чудес по всему свету!..
Слабонамеченная черная бородка шамана, прямые полукитайские усы, закрывавшие губы черными поперечными струйками, и жалкая косичка, торчащая из-под засаленной шапки, и бронзовые руки, и весь развевавшийся многоцветный наряд — все сейчас для Василия приобрело значение чего-то непререкаемо-священного и невообразимо-властного. И эта власть была именно в самозабвенности шамана, в том, что, позванный какой-то вне его или в нем самом лежащей силой, он дико и безудержно отдавался ей и позабыл обо всем, что окружало его. Но что это у него так набухла левая щека?.. Кровоподтек!.. Да, да, это от удара плетью, нанесенного рукой цивилизованного человека!..
А шаман делал уже большие круги по лугу, и маленькие ноги его, обутые в оленьи кисы, легко скользили по траве, а голос все отчетливее произносил молитвы, одна другой древнее, одна другой фантастичнее. Василий знал их по фольклору и некогда зачитывался ими, как стихами. И все они были устремлены к духу преисподней, все грозные, или повелительно-властные, или лукаво-льстивые и робко-просительные — все направлены к Эрлику, властелину преисподней, духу зла, похищающему души и бросающему немощное тело во власть земных скорбей. Спутники шамана были хмуры и недовольны: шаман не делал магического “шух-шу-лара”, то есть смертельного удара в шею жертвенной лошади, и, значит, камлание не обещало сытного обеда из свежей конины с пьяной, горячей “аракой” из молока... Камлание вышло бесполезным. Эрлик только рассердится за то, что его напрасно беспокоят, и пошлет на землю одним лишним наказанием больше.
И, несмотря на то, что шаман, изнеможенный и еле дышавший, исступленно прыгал, бил в бубен и хриплым голосом выкрикивал заклинания духов, препятствующих завершить ему последнюю ступень в железное подземное царство Эрлика, — его спутники уже кричали между собою о житейском. Шаман изнемогал, уже близка была минута, когда душа покинет его тело и полетит к Эрлику. Это ничего — пусть падает и хорошенько выспится. Завтра надо заставить его камлать еще раз, только выговорить у хозяйки еще два лошади. А одну из своих, самую старую, надо дать для “шух-шу-лара”. Все-таки хоть раз нужно досыта поесть. Больше месяца не ели мяса.
Обо всем этом Василий услыхал назавтра, когда Виктор решил дать “этим конокрадам” вместо четырех — две лошади, что поплоше, и когда спутники шамана пришли с жалобой к Василию, которого, со слов Онисима, сочли за якши-кижи. Но Виктория Андреевна без всякого вмешательства Василия, а может быть, именно желая вмешательство это пресечь, — строго приказала отдать им все четыре.
Шаман же снова оказался полунемым, подслеповатым, почти придурковатым оборванцем и вяло, полусонно маячил своим товарищам, что он камлать больше не может. Дух уже ушел от него в горы, туда, на высоту, на тихие высокие озера, где живут души его предков, и сюда, к чужим, больше не захочет возвращаться.
Виктор только что о чем-то горячо объяснялся с Викторией Андреевной и, выходя из палатки, возбужденный и багровый, нервно размахивал своей красивою нагайкой. Ощущение сильной боли в боку и в левом колене, приобретенной во вчерашней схватке с калмыками, удержало его от удовольствия раскровенить “собачьи морды”.
И Виктория Андреевна так же внезапно, как и в Терек-Норе, отдала поспешные и решительные приказания отпустить “посторонних людей”, как она громко выразилась, а всех детей под руководством Алисы Карловны немедленно отправить и поселить в ближайшей деревне. С двумя дочерьми, племянницей, Виктором, Варенькой и поваром она сегодня же должна подняться на Ключи, чтобы скорее пройти курс лечения.
Она знала, что на этих чудотворных Рахмановских ключах не было ни одного дома для жилья, а был лишь выстроен из кедров ряд маленьких грязных клетушек, и жить в них могут только те, кто готов дни и ночи проводить в грязи и вони, лишь бы получить желанное исцеление.
— Довольно приключений! — наказывала она Алисе Карловне. На этот раз голос ее из палатки раздавался очень громко. — Пожалуйста, займитесь с детьми как следует и моим именем наказывайте всех, кто это заслужит. А Андрей Ильич, — с непререкаемой властью продолжала она, обращаясь к Мальчевскому в третьем лице, — поможет Алисе Карловне подтянуть девочек. Во время прогулок дети должны собирать коллекцию цветов и трав... И насекомых тоже... — после паузы она прибавила: — И никаких, пожалуйста, уединений! Мадемуазель Марго поедет пока на эти дни со мною. — И снова пауза, которую ни одно чужое слово не нарушило, и снова четкий, властный голос: — Все подчиняются Алисе Карловне без рассуждений! За всех с нее спрошу.
— “Без варягов даже в семье порядка нет”, — улыбнулся про себя Василий, ожидавший возле палатки, чтобы зайти и попрощаться.
Но теперь он растерялся: прощаться ли с Викторией Андреевной, а стало быть, и со всеми ее спутниками, или уехать тихо и незаметно? Но тут же, устыдившись своей робости, решил зайти в палатку и позвонил в висевший возле входа китайский медный гонг, сопутствовавший Виктории Андреевне всегда и всюду и служивший ей докладчиком о входе посторонних. Виктория Андреевна ответила: — “Войдите”, — и продолжала разговаривать с Христианычем, который, как казалось, жаловался ей на Пашу, забравшую у него все большие кастрюли для “младего панства”.
— А на чем же я буду готовить для вельможной пани?.. — робко спрашивал Христианыч в тот момент, когда Василий ждал уже в палатке.
Виктория Андреевна ответила ему по-польски, но, взглянув на Вареньку, нетерпеливо прибавила по-русски:
— Варенька рассудит и разделит вас! — и повернула к Василию лицо с выражением вопроса и внимания. Василий уловил в ее глазах даже болезненную скорбь. Может быть, она в эту минуту думала о том, что Василий явился в ее путешествии как роковое искушение, благодаря которому разрушены последние надежды, сорвано камлание, нарушен весь порядок путешествия.
— Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство! — сказал Василий крепким и твердым голосом. Василий знал силу своего особого, чураевского, голоса и в различных случаях жизни применял его как одно из наиболее верных средств убеждения других и преодоления собственных колебаний.
— Уезжаете? — коротко спросила она с поддельным безразличием.
Василий улыбнулся, так чтобы без всяких слов все стало ясно и чтобы для какой-либо фальши не оставалось места
.— Давно пора, — сказал он и почтительно поцеловал протянутую руку, которую Виктория Андреевна поспешно отняла, и, сделав каменное лицо, произнесла подчеркнуто сухо:
— Счастливый путь!.. — и, повернувшись к Алисе Карловне, стоящей по-солдатски браво рядом с криво улыбавшимся Андреем Ильичем, спросила: Надеюсь, господа, на детях не отразились никакие посторонние влияния!.. — она помолчала и, ни к кому не обращаясь, еще прибавила с раздраженной усталостью: — Нигде нет спасения от этих замечательных влияний. Даже здесь, в этой ужасной пустыне.
Водворилось тяжелое молчание, во время которого все собравшиеся в юрте покосились на Василия как на воплощение этих злостных, хотя и никому неведомых влияний.
Василий постоял еще секунду, поклонился в сторону Вареньки и молча вышел, точно в полусне, не имея силы подавить в себе нелепое чувство стыда. Не прощаясь более ни с кем, кроме Парфеныча, он зашагал к ожидавшей его группе всадников-калмыков.
Прошло минут десять. Василий уже сел в седло и отъехал от палатки, когда запыхавшаяся Варенька догнала его и с таинственною, мягкою улыбкой подала ему крошечную визитную карточку.
— Велела адрес свой вам передать... Извиняется, што карточка не чистая. Только одну нашли в бумажнике...
— Прощайте, Варенька! — сказал Василий задушевно.
Варенька заморгала добрыми, наполненными влагою глазами и сказала стянутыми в узелок губами: — Прощай, мое дитятко!
Василий благодарно кланялся ей, когда она стояла с фартуком у глаз в высокой и густой траве и смотрела ему вслед, как покинутая мать.
Завернув по тропинке за толпу деревьев, Василий еще раз осмотрел визитную карточку и, кроме имени, отчества и фамилии и московского адреса, заметил начатое и зачеркнутое карандашом слово. Он посмотрел на солнышко: карандаш блестел свежей, золотой, еще не осыпавшейся пыльцой, и зачеркнутые буквы намечали, видимо, очень поспешное, взволнованное слово, которое нервно и густо заштриховано так, что можно было разобрать лишь начальную букву “Н”. Это был последний жест Виктории Андреевны, и он сказал так много, что Василию сразу стало легче. И образ больной женщины, и ее рассказы о себе, и поступки Василия утратили свои скверные очертания, и возможность встречи с нею в будущем, может быть, даже в ее гостеприимных виллах, не казалась уже столь безнравственной. Или это оттого так думалось Василию, что слишком хороша вокруг родимая природа. Господи, как хороша!
Василий с напряженной строгостью припоминал: где, в каких иных краях он за семь лет своих скитаний видел что-либо подобное? Какую из дальних стран, кроме только Индии, он мог бы сравнить с этой дикой, мощной, многокрасочной гармонией горных высот и лесных необитаемых, заваленных столетними трущобами пространств, и полудиких, детски чистых и разнообразных местных обитателей, и причудливых капризов климата, а главное, этих ни в какой другой стране не существующих, никогда не умолкающих, никогда не пересыхающих и не застывающих горных потоков, — этой вечно мощной, вечно говорливой, вечно торопливой и неиссякаемой смеси молока и синьки! Василий смотрел с карниза тропы вниз на скакавшие через отшлифованные камни белогривые, шумливые и бирюзовые струи и не представлял даже всего количества таких игриво грохочущих, а главное, неиссякаемых ручьев, потоков, речек и рек на всем пространстве этого гиганта, горно-каменного края... А родная Бухтарма?.. А дикая, льдяная Чуя? А королева рек Алтайских — ни с чем в мире не сравнимая Катунь?!
И снова представлялось ему музыкой, непрерывною симфонией, льющейся из сотен виолончелей, из тысяч скрипок — то, как текут, и шумят, и рассыпаются трели, и обтачивают камни, и шлифуют яшму, и порфиры, и топазы, и горный хрусталь все эти родные реки... Так вот оно, сказочное дедовское Беловодье! Как же раньше он не знал об этом?.. Как же раньше он не чувствовал биения сердца этой жизни? Как же раньше не расслышал и не угадал он мудрость вечной песни этих бирюзовых вечных струй, дающих сказочную жизнь целой стране из камня?
Серенькой коротенькой цепочкою тянулись друг за другом молчаливые калмыки, и в их полусогнутых фигурах, в прищуренных полусонных глазах, в угловатых коленях — во всем их каменном рисунке таилась гордость всеми этими горами, всей таинственной дичью этого почти необитаемого мира и тем далеким прошлым, откуда через тысячелетия пришли их эпос, верованья, сказки и шаманские мистерии.
Василий вспомнил, что ведь, в сущности, его деды и прадеды вторглись сюда сравнительно недавно и, вторгнувшись, отпугнули, а частью вытеснили и истребили вот таких древних людей, внесли сюда свои обычаи, свой язык, свой быт и свою веру, не менее нелепую, пожалуй, еще более примитивную, а подчас и очень вредную, особенно если взять сектантские междоусобия и Анкудинычевский способ достижения истины... И все-таки Василий горд, что эти горы — его родина, что для него здесь, и именно здесь, самое теперь чувствительное место на всем земном шаре. Сегодня он точно снова появился на свет Божий. Так сладко было знать, что в этих вот горах родился, прожил красочную пору своей жизни и умер его родитель, что здесь еще живут и носят то же давно сшитое и еще не изношенное праздничное платье его сестры, что где-то здесь поблизости и вокруг стоят давно, задолго до его рождения построенные избы и дома, а главное, еще живет и много лет все ждет и ждет возвращения его, Василия, ослепшая с тоски по нем его старушка мать... Ждет ли? — вдруг кольнуло в сердце, и Василий ощутил в своей душе настоящую, глубокую и жалостливую любовь к матери... Как же, почему же раньше он не чувствовал в такой именно степени подобной жалостливой любви к матери?.. А если ее нет в живых? Что, если, не дождавшись и не узнав о его ласке, о настоящей сыновней нежности, которой он теперь так сладко переполнен, она ушла навеки и бесследно и унесла с собой неутоленную, оставленную без ответа тоску по нем?
— А почему мы едем все куда-то на север? — спросил он Онисима, когда они перевалили седловину одной из гор и стали спускаться в новое ущелье.
— Ну, они тут слепком пройдут как надо, — успокоил Онисим.
И Василий снова жил часами ожидания встреч с родными, с их голосами, их досугом и недосугом, со всем тем складом, что так давно и так небережливо выронил он из своей отравленной цивилизациею памяти.
— Прежде всего пойду на пасеку... Жива ли там часовенка, где отец молился?.. Грунюшка, небось, обсыпалась детьми... Ведь и Кондря теперь мужик, давно женатый. Все, все, все — как сладко чувствую я все по-новому!..
Здесь Василий задержал дыхание, как будто сердце в нем остановилось и не смело биться. Так было важно и огромно то, что неожиданно огромной тенью заслонило думы:
— “А брат Викул?..”
Василий как бы сорвался с обрыва в черную, обугленную яму. Он снова взглянул вниз, и снова там, глубоко под обрывом, плескалась и гудела новая бешеная, вспененная речка и чернели пихты вдоль тропинки. Ему показалось, что едут они совсем в противоположную сторону, а не в Чураевку.
— Онисим! — спросил он дремавшего или задумавшегося Онисима. — Куда же, ты думаешь, мы едем?
— А вот подымемся на первые хребты, Белуху будет видно...
— Да ведь Белуху видно с каждой маленькой вершины. Я тебя спрашиваю: куда мы едем, как ты уговорился с калмыками?
— Как куда? — изумился Онисим и в свою очередь спросил: — А разве вам со мной не по пути?
— Чудак ты человек. Ведь ты же едешь на Чуйский тракт?
— Да я их и рядил через Уймон.
— Да ведь Уймон-то на Катуни, а Чураевка на Бухтарме!.. — вдруг испуганно и строго закричал Василий.
Онисим смотрел на Василия как на больного или пьяного и, ухмыльнувшись, тоже закричал:
— Дак а калмыки-то с Катуни!.. По пути у нас Уймон, а не Бухтарма вовсе. А где же ваше-то семейство?.. — изумился Онисим.
Василий промолчал, напряженно думая, что же теперь ему делать?
— Вы же мне сказали, — продолжал Онисим, — что семейство, фамилия то есть ваша, и сынок — где-то у Бийска, а родня — с Парфенычем судачили — возле Уймона! Я и думал, что вы заедете повидаетесь с родными, да и к фамилии — со мною вместе.
Василий продолжал молчать и горько-горько понял, что ведь он, действительно, не рассказал Онисиму точного направления к Чураевке, да и забыл ему сказать о том, о чем думал сам в уединении. Теперь ему стало ясно, что, конечно, калмыки на Бухтарму поехали бы только за такую же награду, как четыре лошади: слишком это им не по пути... Плохо, плохо знает он даже родной свой край... А Россия-то?.. Как же велико и необъятно это сказочное государство!.. И снова вспомнил Викула. Ведь это он когда-то удивился по приезде в Москву долготе путей Российских. И внезапно вставший образ брата Викула, и рядом с ним случайное насилие в перемене пути, и Чуйский тракт — с заманчивою, близкой встречею и с женой и сыном — показались чем-то почти фатальным, может быть, даже счастливым случаем, как знать?
— Ну, значит, не судьба! — сказал Василий тоскливо, и вспомнил, что подобными случайностями полон его трудный путь, начиная от полузабытых, полудетских устремлений быть начетчиком и толкователем отцовской секты
.— “Хотел защитить маленького семейного Бога, а потерял великого, всемирного”, — сказал Василий и опять, подняв глаза к горам и опустив их на бушевавшую внизу реку, задумался.
— “Может быть, потому я и не мог справиться со своими намерениями, что мною управляло то непостижимое, что ближе к истине... И пусть управляет! Как хорошо иногда чувствовать, что Бог потому и существует, что Его нельзя нащупать и привлечь для маленьких, всегда корыстных людских намерений. Иначе достопочтенное человечество растащило бы Бога по кусочкам и все равно сделало бы Его ходким товаром для будничного обихода. Важно не то, что существует горный дух, живущий где-то тут, на белом ледниковом недосягаемом престоле, а важно то, что какой-то полудикий дремлющий шаман верит в него безгранично и при всей убогой внешности способен превращаться в чудотворца и пророка...”
— “И прекрасно! — размышлял Василий. — И прекрасно, что я сознаю свое ничтожество в сравнении с этим дикарем и в своем безверии тайно завидую его вере. Может быть, когда-нибудь и человечество этим путем познает всю несостоятельность своих безбожных идей с его культурой, этикой, социализмом и обретет мир и счастье в полусонной жизни во что-то верующих дикарей... Только ведь горе, — улыбнулся вслед за тем Василий, — если мы, люди цивилизации, одичаем, то ведь мы утратим и эту, детски наивную, принятую от древности и эпически простую веру... Если мы одичаем, то будем жалкими бесшерстными животными, хилыми и обреченными на истребление друг другом и суровой природой... А эти как
жили, так и будут жить, не зная о существовании цивилизации, но веря, что их жизнь самая неистребимая и правильная воля Божия...”И опять думы и думы стали всей сущностью Василия. Не его тело, не его прошлое и будущее, не его родные и семья и родина, а именно думы, их утомительное реяние и в нем и вне его — вот во что снова превратилось все вокруг него: и его спутники, и небо, и земля, и эта узенькая тропинка по карнизу горы над рекою. Он понимал, что только здесь, в полудремотном одиночестве, под маревом прохладного дыхания синих гор и смолистого бальзама пихт, лиственниц и медоносных трав, смешанных с горячим запахом камней, — только здесь может быть чувствуем и сознаваем самый драгоценный сосуд жизни — мысль!.. Не потому ли там, в прекрасных и удобных храмах Запада, все достижения человеческого искусства направлены именно в сторону легенд, грез и вымыслов, подобных той действительности, которая окружает сейчас Василия... Что может быть заманчивее для композитора, чем этот лепет черемуховых листьев, и шепотливый ветерок, и шум реки, и теплое, разлитое на тысячи квадратных верст, чуть вздрагивающее марево из ароматов натуральных смол...
Василий вспомнил жалкое цепляние перенаселенных городов за крошечные лоскутья зелени в садах и парках и за все то, что хоть отдаленно напоминает чистоту и девственность природы, а между тем все миллионы людей так рабски льнут к цивилизации, к мишурным развлечениям, к искусственному смеху, у утонченным, разлагающим наслаждениям, к греху, подобному тому, который так уронил его самого на этих днях... А он, Василий? Что он ищет? Во имя чего поднял руку на родительскую веру, на прочные основы родной семьи?.. Не во имя ли освобождения от наивных предрассудков и слепого изуверства?.. И что же? Увидел ли он сам какой-либо свет, и в чем собственно его освобождение от уз отцовских суеверий?.. Не в том ли, что, освободившись от сетей сектантства деревенского, он запутался в сетях полнейшего безверия всемирного?..
— “Да, хорошо здесь думается! — сказал Василий. — Останусь здесь на целый год, а может быть, и дольше, пока подрастет мальчик...”
Проверив эту мысль и раскритиковав ее со всех сторон, он заколебался и спросил Онисима:
— А что, Онисим, если бы здесь где-нибудь заимочку купить да и зажить, как старики живали?.. А?
— А што же, дело доброе! — сердечно отозвался тот и, подумав, серьезно предложил: — Готовую купить — не продадут, а снять у Кабинета землю да свою выстроить. И я бы с вами за компанию из деревни нашей выселился. — Он помолчал и прибавил: — В деревне нынче жить — не приведи Господь: такое озорство, распутство, пьянство! Молодяжник прямо не дай Бог, какой разбойный нынче, того гляди: сожгут. Я и сам вот еду да и думаю: приедешь — сна лишишься, скажут, ездил два года, денег привез много, тому дай, другому одолжи. А не дал — худой, такой-сякой... Ружье, дескать, хорошее. Где взял? Убил, дескать, кого-нибудь. Не дай Бог нынче жить в крестьянстве... — Онисим оживился, поправился в седле и продолжал: — Старики, которые покрепче, все поумерли, а которые остались, стали стары, их никто не слушает. Староверие как-то все расстроилось, а молодяжник ни тебе в моленную пойти, ни тебе в церкву, — а вот только бы накуролесить, да напакостить, да выпить, да хайлать всю ночь песни, да у кого-нибудь окно выбить либо ворота высмолить... Безобразие!.. Прямо уж такая безотцовщина пошла — не приведи Господь!
Василию стало опять не по себе, и то, что говорил Онисим, ему показалось совершенно одинаковым с тем, что думал сам он перед этим, только у Онисима в масштабе деревенском, а у Василия в масштабе общечеловеческом.
И тем не менее он повторил:
— В компании с тобой я бы охотно где-нибудь поселился, право... Не знаю, как моя жена, но думаю, что она уехала из Москвы сюда потому, что здесь ей больше нравится. Давай подумаем, когда приедем на место.
— Дак а што же? Я со всей охотой... Конечно, ежели с умом да с вашей грамотой — человек же вы трезвый, — вам лучше где-нибудь тут волостным писарем либо учителем поступить. Все какое ни на есть жалованьишко.
— Ну, нет, мне некогда. Я все-таки буду писать книгу о своих путешествиях, — подумав, сказал Василий, словно испугался роли волостного писаря или сельского учителя.
Онисим промолчал. По его понятиям, писание книг — занятие здесь неподходящее, и продолжил свои соображения. Теперь Василий удивился его языку, очищенному от безобразных, исковерканных книжных слов, какие тот любил употреблять еще на днях.
— Ведь ежели бы наши писаря не пьянствовали, они бы тут как сыр в масле валялись. А то ведь пьют все без просыпу. Да и опять же дело у них такое: каждый угощает, а не выпил — значит, разобидел. Учитель у нас старый не пил — все его чурались, барином обзывали. А новый стал пить — тоже плохо, потому что ребятишек учить некогда. Хотели жаловаться, даже приговор составили, а чем кончилось — не знаю, я как раз уехал в
эту пору в научную вашу экспедицию. Сад завел один у нас, откуда-то с Кавказа приехал, Федосеев по фамилии, — продолжал Онисим размышлять вслух. — Ягоды и даже вишни и там всякие малины, ну и пасеку развел, маялся, сердечный, лет тут восемь — дак ведь выжили, проклятые. То пчел известкой залили, то кусты малиновые выкосили у него литовками. А потом как-то залезли в сад — он мед уехал продавать — и все вишневые кусты повыдергивали с корнем! Плакал человек, на сходке говорил: лучше я вам даром все бы отдал, только не губили бы мои труды, семь лет трудился — ягода как раз уже пошла... Фулиган на фулигане стал народ! — заключил Онисим, и, сверкнув белками глаз, тряхнул рукой, вооруженною нагайкой.Вообще по мере приближенья к дому Онисим становился все угрюмее, и прежняя мужиковатость, даже мужицкое благообразие в лице и взгляде возвращались к нему снова.
— Может быть, он чем-либо сам вреден был для них?
— Окромя добра, никто от него ничего не видел. Всех ребят бездомных у себя кормил-поил. Школу помог выстроить. Только што, действительно, был он молоканской веры и мяса не потреблял. Вот вся и вина его.
Василий молчал, как бы не доверяя словам Онисима, а Онисим, точно почуяв это недоверие, повысил голос:
— Да што Федосеев! Это был, по крайности, чужестранный человек. А тут в позапрошлом году, как раз перед нашим отъездом, я на суд в свидетели к мировому попал. Из-за потравы там судились. Дак там как раз допрос снимали по такому делу, што и сказать прямо стыд... Кабы не сам слышал — не поверил бы. А то они тут же принародно спорили промеж себя и сами себя выдали. Сваливали все друг на дружку, оправдаться хотели...
— А что же именно?
— А то, што девки девку изнасильничали!.. Да ведь какую девку? Говорят, на весь уезд такой другой пригожей не было...
— Да как же это?
— А так вот: собрались три хари — плюнуть в рожи жалко, такие-то не баские, заманили ее в лес, по ягоды, и там, где-то в забоке, повалили да палкой надругались... А за што? За то, што их до двадцати трех лет никто не сватал, а к ней с шестнадцати годов — жених за женихом, отбою не было. Ведь вот какая сволота!..
Василий слушал и не мог глядеть в глаза Онисиму, точно тот плевал ему в лицо. А Онисим продолжал:
— Дак мировой тогда сказал, што, дескать, статьи такой в законе нету, чтобы девка девку изнасильничать могла! — и он добавил с наболевшим вздохом: — Вот поживете, дак узнаете, какой это народ.
— Да, надо будет пожить! — твердо сказал Василий и про себя добавил: — “Всю жизнь сижу за книгами, скитаюсь по чужим краям, а своего народа, даже родной деревни хорошо не знаю...”
Солнце низко повисло над горою и скоро совсем за нею спряталось. Там, где-то над равнинами, оно еще стояло высоко, но здесь, в горных ущельях, наступили уже сумерки, с прохладой и усталой думой о ночлеге. С калмыками ехать было безопасно. Эти тихие и молчаливые люди, несмотря на то, что их было семь человек и ехали они с винтовками, сами боялись двух русских спутников, вооруженных лишь одним ружьем. Все были рады маленькой избушке, затерявшейся, точно в сети пойманной, среди запутанных жердяных пригонов и дворов с толстым слоем многолетнего коровьего навоза.
Возле избушки никого не было, кроме привязанной собаки, которая лаяла на них незлым, откликавшимся в разных концах гор и леса металлическим лаем. Похоже было на то, что все окрестные скалы населены собаками и лают хором, — так множилось здесь эхо собачьего лая, а собака, слушая эхо, не могла успокоиться и лаяла уже не на людей, а на свое эхо.
Остановились. Онисим слез с коня и обошел избушку. Дверь была заперта щеколдой, и в пробой вместо замка была просунута тоненькая палочка. Над крыльцом, под крышею, стояла крынка молока, накрытая свежим румяным калачом.
Онисим взял молоко и калач, отломил от него половину, подал шаману, а вторую разделил между собою и Василием и подал ему крынку. Василий размешал кусочком хлеба сливки, чтобы не выпить их одному, немного отпил и, пропитав молоком кусочек хлеба, стал есть, а крынку отдал Онисиму и попросил его оставить молока шаману.
— Пасет по холодку коров, — чавкая хлеб, сказал Онисим. — Теперь пригонит уж, когда стемнеет. Ишь, свежий помет кругом — значит, скотина весь день билась дома, днем в лесу-то овод донимает.
Шаман съел хлеб, ни с кем не поделившись, но остатки молока отдал товарищам. Те выпили понемногу каждый, и один из них отнес крынку на место.
Внизу над быстрым потоком речки крутилась длинная и узкая бочка, устроенная на вращающейся жерди. Жердь была продета в большое мельничное колесо, которое нижним концом лежало на воде и силою напора крутилось, кланялось воде своими лопастями и крутило бочку.
— Вот к утру и масло свежее будет готово, — сказал Онисим, указав под косогор на бочку.
Василий рассмеялся примитивной маслобойке.
Калмыки слезли с лошадей и, не расседлывая, пустили их на траву. Спешился и Василий и, чувствуя приятную истому в ногах, пошел вокруг заимки, удивляясь грубой примитивности во всем устройстве дворов и какой-то ленивой запущенности в хозяйстве.
Прошел в лесок, постоял и услыхал, что где-то поблизости щелкнула сухая ветка. Оглянулся и встретился с широко раскрытыми испуганными глазами. Смотрела молодая, сильно загоревшая баба с палкою в руках и в домотканом сине-пестром сарафане.
— Здравствуй, тетушка! — приветливо сказал Василий.
Баба почуяла робость незнакомого человека, и немедленно испуг ее перешел в пугающую строгость:
— Здравствуй, голенастый! — громко и недружелюбно произнесла она. — Чего это ты тут высматриваешь?
Тут же за кустарником паслись коровы. Видимо, хозяйка уже знала о приезде незнакомцев, но сидела здесь в засаде и случайно выдала себя с испугу.
— Уж ты не посуди, — примиряюще сказал Василий, — мы у тебя там крынку молока и калач съели...
— На то и поставлено, — тем же голосом сказала она и чуть мягче спросила: — Откуда и куда путь продолжаете?
— Мы с Бухтармы, — солгал Василий.
Но баба строго оглядела его с ног до головы и не поверила.
— С Бухтармы-ы?.. А чей ты с Бухтармы-то?
Она смотрела так строго, что напомнила Василию сноху Варвару, жену Анания. Василий пытливо на нее прищурился:
— Да что ж, ты разве всех наперечет там знаешь?
— Всех не всех, а знаю... Я сама бухтарминская. Тамотко и брачилась с моим-то, — в свою очередь недоверчиво прищурясь на Василия, она спросила: — Знавал, поди, там дедушку Платоныча? Дьяка нашего, стариковского?
Василий даже задохнулся и не сразу мог ответить. Баба продолжала испытующе смотреть в его глаза и по-своему истолковала его замешательство.
— Как не знать Фирса Платоныча? — с трудом промолвил Василий, и баба сразу отвела от него острый и пронизывающий взгляд.
— Вот у него и брачились лет семь тому, как раз об эту пору, — и доверчивее продолжила: — А не слыхал, чем дело-то у них теперя кончилось?
Василий быстро заморгал, не понимая:
— Это насчет Анания?
— А говоришь, што с Бухтармы!.. — резко перебила его баба. — Признавайся-ка, пошто обманываешь?.. А то вот я пойду да гаркну мужиков — не побоюсь, што вы тут с ружьями...
— Подожди ты! — зашептал Василий не от страха перед мужиками, которых, вероятно, здесь и не было, а оттого, что, в самом деле, не умел больше лгать. Но и не хотел сознаться в правде. — Что же там случилось-то в чураевской семье?..
Баба не могла понять смущения незнакомца, но уже не могла ему и не верить: слишком хорошо он знал все имена.
— Да как же! Ведь об этом вот уже сколько лет по всему Камню слух идет. Про сынишку-то про младшего слыхал, небось? — строго спросила баба, и в голосе ее была уничижительная нотка в этом “про сынишку”.
— Ну как же не слыхать? — сказал Василий и даже добавил тусклым, чужим голосом: — Сбежал он будто бы в Москву опять. Проклял, говорят, его старик-то...
— Проклял, да, видно, не душевредно. Надо быть, жалеючи проклинал, коли столько горя от него доспелось.
Баба бросилась на высунувшуюся из кустов рогатую корову и закричала сочным, властным голосом: — Сы-ыля! Куда тебя окаянный, прости Господи, несет!..
Она ударила палкой одну, другую, третью и прогнала поглубже в лес все стадо.
Василий остался около одной из елей без единой мысли и не знал, стоит ли идти и допрашивать об остальном чем-то глубоко и, может быть, справедливо возмущенную молодую бабу?
Между тем на голос бабы от избы пришел Онисим и, подмигнувши ей, весело заговорил особым, вкрадчивым и хитрым голосом:
— Здорово ты живешь, Маринушка! Вот Бог послал нам андела.
— А вот я тебя как огрею палкой, ты узнаешь, как меня зовут...
— Ну, Федосьюшка? — короче сказал Онисим.
Баба вытянула шею, подняла к горам лицо, и губы ее, приоткрыв белые красивые зубы, перекосились в трубку.
— Корне-ей! — завопила она высокой, резкою нотою, и эхо покатилось по горам и слилось с новым взрывом многоголосого собачьего лая.
— Ну, во-от, ты уж и караул кричать! — весело взмолился Онисим. — Да мы тебя што, грабим што ли?.. Экая ты, право!..
— А вот придет, он те покажет андела!..
— Ну, и покажет... Вот беда-то: напугала!
— И меня не напужаешь! — огрызнулась баба и впилась в Онисима таким же испытующим взглядом, с каким только что допрашивала Василия. — А вот ты скажи-кась: откудова вас Бог али нечистый-то принес сюда?
— Ну вот и чертыхаться зачала. Экая ты необразованная, право. Едем по своему делу из Монголии... Не веришь?..
Глаза бабы немедленно стрельнули в сторону Василия, и она еще истошнее завопила:
— Ко-о-рне-е-е-й!..
Онисим поглядел на нее пристально и вдруг расхохотался:
— Да будя тебе кричать-то: по глазам ведь вижу: нет сегодня твоего Корнея... Ишь, не отозвался. Не пугайся, мы тебя не изобидим, — продолжал он с той мягкостью, с которой может говорить мужик, когда хочет понравиться незнакомой бабе. — Вот отдохнем, покормим лошадей да на зорьке и поедем дальше, а если милость твоя будет, да покормишь нас послаще, мы и вовсе тебе сто спасиб...
— Дыть кто вас знает, — сбавив тону, перебила баба, что вы за люди. Один говорит, с Бухтармы... другой — с Монголии... — и все еще сторонясь незнакомцев и не выпуская из рук крепкой суковатой палки, она все же приблизилась к Василию, точно опасаясь оставаться с одним Онисимом, и явно продолжала лгать: — И куда это он сегодня так далеко убрел, докричаться не могу...
И будто позабыла о начатом с Василием, мучительном для него и прерванном на полуслове рассказе. Василий же не знал, как ему быть. Хотелось продолжать расспросы о семье Чураевых, но не хотелось выдавать себя бабе, стыдился и Онисима. Стоял и ждал, безвольно и сурово.
— Да как зовут-то тебя, Михайловна? — допытывался плотоядно ухмылявшийся Онисим.
— Зовут зовуткой, величают уткой, — сказала баба, швыркнув носом, и ее полные крепкие груди затряслись под нарукавником от еле сдерживаемого здорового смеха.
— Ну вот, давно бы так! — обрадовался Онисим. — А то Корнеем вздумала пугать. Признавайся, што Корней у те далеко. В солдатах, што ли?
— Вот те Истинный, ушел на пасеку. Вот туточка, версты не боле полторы, — упорствовала баба, и ее лицо сквозь загар и густые веснушки зацвело румянцем, молодостью и лукавою улыбкой. В серых крупных глазах отразилась зелень елей и травы. Онисим приосанился.
— Неужели ты одна тут со скотиной управляешься? — спросил он голосом готовности в чем-либо помочь ей.
— Да пошто одна-то: две золовки у меня, свекровь, сношенница и мой Корней. Их у нас теперь только дойных двадцать четыре, где же мне одной управиться?.. Ой, матушки мои — темнеть уж стало, заболталась я... Ведь, надобно доить коров!
С девичьей прытью она бросилась к избе, сняла с кола опрокинутые два деревянных подойника и закричала звонко, песенно, зазывно:
— Т-пру-ка! Тпру-у-ка-а!..
И опять посыпались и защелкали по горам умноженные трели ее эха, и снова начала с ними перекликаться неопытная собака.
Василий сел на старый пень и безучастно слушал болтовню хозяйки и Онисима, который услужливо и весело носил за нею от коровы к корове ведра с молоком, поворачивая коров и отгоняя быков.
Казалось, ничего не видели ставшие большими и запавшими глаза Василия, ничего не вспоминала и не думала его большая голова. С трогательною беспомощностью выглядывала из-под запотевшего воротника рубашки частица нетронутой загаром шеи. Если бы была поблизости знающая всю его жизнь женщина, она подошла бы к нему и нежно бы поцеловала его в эту частицу белой, почти девической шеи: так чист и молод, невинен был он именно в этом кусочке шеи. А между тем сколько он успел посеять зла своими вечно добрыми намерениями, своей, казалось бы, безвредной, отвлеченно-идеальной жизнью! Хотел ли он когда-нибудь кому-нибудь вреда?.. Хотел ли он себе какой-либо корысти, или славы, или жизненных личных успехов?.. Он никогда не знал даже скромных удобств для своей работы. Всегда в полунужде, всегда в труде, в скитаньях, он мечтал лишь о возможности служить добру и истине и следовать за высшей совестью, чтобы этим путем познать божественное в жизни. И вот ему уже тридцать три года, а каковы результаты его личных достижений? В одиночестве, почти в нужде живет с детьми жена. Ученый, лучший друг Баранов лишает его всякого доверия. Молодая, пьяная от страсти Гутя не замечает его жадной влюбленности. Случайная пресыщенная и больная женщина делает его утехою своих капризов и роняет в собственных глазах, ставя на край падения... А первая попавшаяся баба в трех небрежных словах, как презрительный плевок, бросает ему в лицо всю сумму содеянного им зла в отцовском доме!.. Как же, с какими же глазами хотел он возвратиться домой? Зачем? И какое вообще имеет он право о чем-то еще размышлять, к чему-то готовиться, что-то отдавать на суд людей?.. К чему же лгать перед собою, когда сам же изломал и свою жизнь, и жизнь жены, и жизнь брата Викула, и жизнь отца и разрушил весь уклад родного дома?.. И во что, во что он верил, когда решился разрушить веру отцов? И где, где эти светлые радости, и новые глаголы, и солнечная правда, во имя которых он стал убийцею родной семьи и получил орден проклятия?..
— Да перестань ты, мужик: молоко-то опрокинешь!.. — донеслось совсем хмельное и веселое из-за кустов. — Вот я те как хвачу орясиной. Бесстыдник!
И соблазнительный смех бабы острой злобою ударил в голову Василия.
— Вот вздор! — вдруг произнес он вслух и, решительно зачеркивая мрачные раздумья, встал с пня, поднял лицо к ярко пылающей заре и дернул себя за бородку: — Рассантиментальничался, разгильдяй!..
И, стиснув зубы, сжав кулак, начал сам себе вычитывать:
— “Хотел на небо влезть живым, аскетничал, грехов боялся, а грехи-то, значит, похитрее: давненько забрались в самую кровь, выкормились там, выросли и подкараулили... Подшутили!.. Нечего теперь разыгрывать невинного подвижника. Жить хочу! — сказал он крепко и, помолчав, еще крепче прибавил: — Грешить так грешить теперь же!.. А то будет поздно... К черту всю эту божественную беллетристику! Будет дурака валять!.. Любить хочу как следует, кого хочу и как хочу... И к черту все с моей дороги!..”
Вихрем закружились и смешались в нем все мысли, чувства и желания, и, чтобы как-нибудь их обуздать, чтобы сдержать напор внезапно вспыхнувшей в нем животной силы, он пошел на голос хозяйки и Онисима и, еле сдерживая какой-то сатанинский, клокочущий в нем смех, заговорил:
— Ну, ты теперь повеселела, расскажи-ка, что такое натворил меньшой сынок Фирса Платоныча?
— Спаси меня Господи, помилуй, на ночь-то об этом говорить!.. Да еще под кормилицей!.. — ответила хозяйка.
Онисим полулежал возле полного ведра с молоком вблизи от хозяйки и посмотрел на Василия как на чужого человека: с удивлением и недружелюбием. Василий же деланно расхохотался и распевисто спросил:
— Во-от как! Значит, там считают его за проклятого и за нечистого?
— Понятно, за нечистого! Раз, значит, погубил отца и мать и брата — разве человек он?..
Оторвавшись от коровы, баба оглянулась, и глаза ее в сгущающихся сумерках метнули искры нового негодования.
Василий вдруг осекся и спросил:
— А разве мать-то его, бабушка Филатьевна, тоже умерла?
— Э-эвона! Хватился! — злорадно выкрикнула баба. — Теперь уж больше года как похоронили.
Онисим все еще не понимал, о ком идет рассказ, да и не любопытствовал. Он занят был своим. Василий только рассердил его своим приставанием к бабе.
— Ну-тко, дядя, ежели ты добрый, отнеси ведро да вылей в кадку, в сенцах! — отдавая полное ведро Онисиму, сказала баба.
Онисим молча взял ведро с пахучим молоком и молча понес в избу.
Между тем наигранное сатанинство у Василия совсем исчезло. Он снова поник и головой и телом и еще спросил, но уже еле слышно:
— А что же сталось с братом Викулом?
И баба отвечала ему с тем же глубоким вздохом, в котором он почуял старую, но еще неизжитую обиду в добрых людях от всех чураевских злоключений.
— А вот когда Анания-то монголы замучили, зятек-то, муж меньшухи, услыхал об этом, да все в свои руки и забрал... А как забрал всю домашность-то, да опосля и Викула в толчки. А тот сперва все пил да тосковал по сучке-то московской. А когда узнал, что с ней опять братишка-то связался да уехал в чужестрание, остепенился, стал жить на пасеке и, говорят, што все там молился. Там ведь дедушку Платоныча-то схоронили... Ну... Четыре года в рот не брал вина-то... А тут, когда Анания-то загубили, он опять и запил да затосковал. Пил да пил, да и допился до того, что начал поджигать дома в Чураевке. Тут его и спохватали — да вот веснуся суд был — пять лет на каторгу! — и баба выкрикнула с возраставшей жуткой угрозой: — Ну-ка, посуди-ка сам: кто же это, как не дьявол, мог доспеть?.. А доспел-то все это родной сынок и братец!.. Поученый, говорят, штоб ему в смоле кипеть кипучей, окаянному!..
Баба перешла к новой корове, и Василий слышал, как певучими струйками падало в подойник молоко, но позабыл, что это: сон, явь, кошмар или безумие?
В это время подошел к нему вернувшийся Онисим и, видимо, по дороге обдумавши свои намерения, сказал сердитым шепотом:
— Ты отойди пока! А то все дело мне испортишь, — и пошел к хозяйке.
Василий безответно подчинился Онисиму и отошел к тому же пню. Вскоре Онисим принес к нему новое наполненное молоком ведро.
— Попейте, ежели желаете, — сказал Онисим воровским и добрым голосом. — И погляди, штобы коровы не выпили.
Василий слышал и не слышал. Думал и не думал. Он пнем сидел около пня.
Из леса, со стороны хозяйки и Онисима, доносились еле понятные отрывки слов, смешанные с звонким пением молочных струй, и все глубже отступали в лес. Онисим все тише и все вкрадчивее служил бабе. Но Василию было уже безразлично, о чем они ведут беседу, и расскажет ли Онисим бабе о том, кто сидит у пня в темнеющем глухом лесу.
Василий растянулся на росистой траве и долго так лежал неподвижным трупом вниз лицом, вдыхая в себя запах влажной и пряной земли. Одна из коров тихо подкралась и, понюхав его голову, шумно дохнула на него горячим паром. Потом отошла к подойнику, наполненному молоком, и стала глубокими глотками пить.
Василий быстро поднялся и отпугнул корову.
Точно от теплого и шумного вздоха коровы, им овладело состояние тупого равнодушия ко всему. Ни жалости, ни угрызений, ни стыда, ни боли — все это умерло в нем в тот момент, когда он услыхал, что корова пьет молоко. И глаза были сухими, и сердце билось ровно, и даже мозг работал совершенно правильно. Первой мыслью было:
— Покорит Онисим бабу или нет? Во всяком случае, они сегодня весело проведут время.
А вторая мысль была еще проще:
— Это молоко все равно коровы выпьют. Пойду я, отнесу его калмыкам. Да, кстати, и сам попью немножко... А потом спать и спать... Завтра — послезавтра будь, что будет!.. Муки мои будут долгие, и будут жечь они меня огнем вечным, бесконечным... Ну и пусть их!.. А сейчас я безумно хочу молока и спать!
Он припал к ведру и пил долго, медленными глотками, наслаждаясь теплым ароматом, белизною и обилием молока.
Потом отнес ведро к калмыкам, уже спавшим серыми комками прямо на земле рядом с винтовками. Растолкав их, отдал молоко, а сам тут же рядом с ними сунулся на землю. И запах сальных, прокопченных и прокуренных зашевелившихся калмыцких тел показался ему сладостным и пьяным, как упоительная радость сна — единственного утешения от грешной, жуткой яви.