Г. Д. Гребенщиков
РОМАН-ЭПОПЕЯ
ЧУРАЕВЫ
том 2
СПУСК В ДОЛИНУ
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
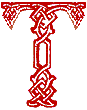
олько в походе Василий пересчитал всех спутников и спутниц Виктории Андреевны. Кроме тех, кого он видел за утренним чаем в юрте, и кроме мелюзги, которой он еще не мог различать по именам и лицам, а различал по роду и цвету платья, его заинтересовали трое взрослых, не принадлежавших к числу родни или прислуги. Эти взрослые держались около детей и изредка, по особому приглашению, появлялись за общим столом. Из мелюзги же центром внимания взрослых, и в особенности самой Виктории Андреевны был Котик, самый маленький член экспедиции, первый и последний сын одного из братьев Торцова, богатого мукомола, недавно овдовевшего и сдавшего мальчика на попечение влиятельной снохе. Мальчик путешествовал с любимыми игрушками, среди которых наилюбимейшими были большая замшевая обезьяна, живой китайский пестро-серый кот и маленький козленок, которого Котик облюбовал в одном из табунов около Улясутая.
В караване были еще две собаки — светло-коричневый чистокровный сеттер, спутник четырнадцатилетнего Коли, единственного сына Виктории Андреевны, вооруженного по всем правилам английских путешественников и охотников, по Куперу, и Волчок, серый темномордый озорной дворняга — друг и сторож повара Христианыча, очень сухощавого и раздражительного поляка. У Котика с утра до вечера, да и во время ночных пробуждений было главною заботой пасти кролика и охранять кота, который все стремился убежать от пугавшей его непрерывной бездомности и от дерзких и веселых псов. Приставленный к Котику в качестве гувернера Андрей Ильич Мальчевский, студент-филолог из полесских белорусов, заросший, несмотря на свои молодые годы, большою черной бородой, имел всегда очень угнетенный, даже оскорбленный вид, и вот почему это лицо одним из первых бросилось в глаза Василию. Пока обязанности Андрея Ильича заключались в успокаивании Котика и в подавлении собственного раздражения на козленка, на кота, на Котика, на Викторию Андреевну и на весь белый свет, в котором не нашлось для него лучшей должности, кроме как пастьба козленка и таскание на своих руках кота. Кроме того, Андрея Ильича обременяла нараставшая вражда к Алисе Карловне, пожилой балтийской немке, очень молодящейся и всегда пахнувшей хорошим мылом. Она часто и жестоко осуждала русскую неопрятность, а главное, преследовала молоденькую мадемуазель Марго. Мадемуазель была недавно привезена Викторией Андреевной из Франции и взята в дом не столько для занятий с детьми, сколько для того, чтобы девицы да и сама она почаще говорили с подлинной француженкой. Опытный глаз немки еще в начале путешествия, в Кяхте, заметил, что студент влюблен в француженку, и если они еще не сблизились, то только потому, что он не знал французского, а мадемуазель русского языка. И тем досаднее была эта взаимная симпатия для честной немки. Василий наблюдал, как девочки-подростки следили за мадемуазель и, в особенности за Андреем Ильичем, и без церемоний вышучивали их, устраняя смешные объяснения нарочито искаженным переводом тех или иных фраз влюбленных. Впрочем, среди девочек и мальчиков в долгой дороге тоже начались уединения, перешептывания и явные и тайные симпатии друг к другу. Поэтому все трое воспитателей: немка, мадемуазель и Мальчевский — поневоле объединились на платформе шпионажа за детьми и вдохновенно их возненавидели.
А дети, оторванные от обычной обстановки, от удобств, от книг и детских игр, заброшенные в степь, под удары зноя и ветров, с жадностью набрасывались на всю ту реальную экзотику, о которой слабо говорили им страницы детских книг, — и почувствовали себя здесь взрослыми, с большим аппетитом, с волчьими ухватками в борьбе за лучшие куски или места, с зорким взором на примеры старших, опьяненных жаждой чувственных сближений. Случайно на привале Василий вынес поучительные наблюдения за некоторыми из подростков.
Коля, воображавший себя взрослым и за что-то недолюбливавший мать, служил предметом тайных вздыханий трех его двоюродных сестер: Кати — толстой девочки с курносой, доброй мордочкой, Тани — гимназистки с длинной рыжею косой и прищуренным лукавым взглядом и Любы — совсем еще бесформенной, в коротком платьице, малютки лет двенадцати, которая, однако же, шустрее всех оплетала Колю сетями искусного и ласкового лукавства. Выходило все это по-детски, но в том, как она спорила с Катей и как при этом щурила на нее высокомерный взгляд поддразнивающей победительницы, Василий уловил подлинную хитрость женщины и не мог не запомнить забавного разговора всех трех девочек, осадивших мальчика на маленькой лужайке у скалы, куда он только что вернулся с непродолжительной охоты.
— Коля, Коля! — с вызывающей насмешкой допрашивала Катя. — Правда, что ты Любе сделал предложение?
— Люба ж мне двоюродная сестра! — сердито возразил Коля, и во взгляде его было беспокойство.
— А Тася с Витей тоже ведь двоюродные? — вставила Таня.
— Да Коля так поступит, как ему захочется! — вдруг перебила Люба и неотразимо улыбнулась Коле. — Коля, правда ведь? Что они к тебе пристают?
— Да мне еще жениться рано, — уклонился он от щекотливого вопроса.
— Ага! — поймала его Таня. — А если бы не рано, значит, женился бы на Любе?..
У Коли, видимо, было какое-то обязательство и по отношению к Тане, и он спасовал перед нею, в то время как она смелее наступала на него.
— Ты же, Коля, сам мне говорил, что на Кавказе женятся четырнадцати лет?
— А у киргизов женят еще совсем малюсеньких, — поддакивала Катя. — Ты же мне говорил...
И здесь опять перебила Люба:
— Коля, да будь мужчиной: спроси их, что им надо от тебя?
— Идемте на стан, а то Алиса Карловна опять пожалуется маме...
— Да Люба же к тебе пришла на свиданье! — вдруг ревниво выпалила Таня и, взяла за руки Катю, побежала первая с лужайки.
А Люба осталась наедине с Колей и, совсем по-книжному отвернувшись от него, сделала очень угнетенное лицо, присела на камень и сказала драматическим шепотом:
— Пожалуйста, можете идти за ними...
— Ну Любочка!.. Я же ничего им не сказал такого...
— Такого!.. Какого такого?.. — вдруг повысила тон Люба. — Я теперь все понимаю: ты, значит, с ними целовался!..
— Н-ну во-от, ей-Богу! — тоном скучающего мужа произнес Коля и сейчас же предложил условия мира:
— Ну, давай скорее поцелуемся да надо ужинать: я кушать хочу!..
Василий не вытерпел и засмеялся за кустом.
И оба: Коля и Люба,- не успев поцеловаться, как перепуганные кролики, затопали ногами и без оглядки побежали к стану. Только сеттер, знавший о засаде, подбежал к Василию и, учтиво помахав пушистым хвостом, деловито обнюхал все кусты и понесся следом за хозяином.
Дня через два, уже совсем в горах, когда остановились на обед на пустынном альпийском плато и когда десятилетний двоюродный брат Коли, сухонький, но очень строгий Кирик, достав свой атлас, с которым он путешествовал, пристал к Любе и начал ее экзаменовать по географии, Василий снова очутился возле детей и с любопытством наблюдал за рассеянным и озабоченным личиком Любы.
— А ну, покажи мне Хинган, — строго говорил Кирик, показывая Любе карту.
— Вот он, твой Тянь-Шань, — смело и уверенно ткнула Люба пальчиком.
— Я же говорю: Хинган!
— Ну, я же говорю, что где-то вот тут.
— Где тут? — домогался Кирик, и тонкие брови его страдальчески извились змейками.
— Ну, значит, вон там! — показала Люба в противоположный конец карты.
— А куда впадает Нил?..
— В Египет! — уже совсем победоносно отвечала Люба, видимо уязвленная прищуренным и молчаливым наблюдением Тани.
— А Египет разве море? А ну, скажи: куда шли евреи?
Люба вспыхнула и с раздражением ответила:
— Вот очень нужно знать!..
И Любочка, вся розовая, с серьезною внимательностью устремилась на карту.
Кирик же в эту минуту все тем же строгим и ровным голосом задал ей насмешливый вопрос:
— А ну, покажи мне, где Нил и где на нем крокодил?
И Люба очень долго искала по карте нежным пальчиком крокодила.
— Любочка! — засмеялась Виктория Андреевна.
А Любочка, совсем несчастная и багровая, серьезно и упрямо ткнула пальчиком в Индию.
— Вот здесь, на островах Цейлона...
— Что на островах Цейлона? — недовольно спросила Виктория Андреевна. Василий почувствовал, что ей неловко за тупую и упрямую племянницу.
— Ну да. Он так карту положил! — взмолилась девочка и продолжала уверять, что крокодил, конечно, на Аландских островах.
— Любочка! Ну перестань говорить глупости, — сказала Виктория Андреевна, и ниже уха, между щекой и шеей, у нее появилось розовое пятнышко.
Но девочка хотела на своем поставить. Она выпрямилась и сквозь слезы, задрожавшими губенками сказала:
— Конечно, если карту перевернуть — значит, здесь, — и, захлебнувшись самым натуральным детским плачем, выбежала из палатки.
Виктория Андреевна на этот раз не справилась с собою и недовольно сказала Андрею Ильичу:
— Я думала, что вы немножко лучше занимаетесь с детьми. Мне казалось, что в путешествии детям легче всего географию преподавать...
Увидевши все это на первых же привалах и ночлегах, Василий почувствовал себя не совсем удобно среди разнохарактерной, издерганной от дорожных неудобств большой семьи. Он старался быть поближе к Виктории Андреевне, но настолько, чтобы ей не показаться назойливым. Старался развлекать ее, рассказывал ей некоторые случаи из путешествий, сам склонялся из седла к ее кабинке и подолгу слушал ее слабый, мелодичный голосок, который плел, как тонкие кружева, отрывки повести все той же ее личной, красочной, полной утонченных удовольствий в прошлом и затушеванных полуиронией, полуулыбками и тихими вздохами страданий в настоящем. В общем, ему было жаль ее и было скучно с нею. Он и здесь завидовал молодежи, жившей своей ароматной и замкнуто-эгоистической жизнью и нет-нет вспоминал о Гуте... Иногда он даже удивлялся, что не очень спешит домой, не выражает нетерпения видеть жену и сына и ощущает в сердце острую тоску при воспоминании о Гуте. С какой стати? Почему?
Между тем снова начались большие горы, пока еще безлесные, но каменистые и крутые, с отвесными и извилистыми оврагами, в которых посверкивали горные ручьи и по карнизам которых местами рискованно и легкомысленно вилась тропинка, часто исчезавшая в кустарниках или каменистых россыпях. И началась опять многообразная симфония красок и капризного излома линий, разбежистых уклонов пустынных вершин и таинственно-серых потемок овражистой мелкой поросли с ее земляными норками зверьков и тончайшим кружевом из перламутровых нитей паутины. Все горячее волновало приближение родимых мест, так мало Василием изученных, так давно им виденных и таящих в себе невыразимо сладкую тоску о прошлом... Древняя и вечная необитаемость вершин Алтая и его далекие муаровые складки, спрятавшие совсем чужую этому краю, самовольно вторгнувшуюся сюда бегло-каторжную и раскольничье-неистовую Русь, — казалось, таили в себе какие-то новые, никем не прочитанные знаки, которые, быть может, суждено прочесть именно ему, Василию.
Но чтобы прогнать от себя новые раздумья, Василий заговорил с Андреем Ильичом, который не любил, вернее не умел, ехать на лошади, а предпочитал все время идти пешком. Тот сперва недружелюбно отмалчивался, а когда заговорил, то Василий увидел его кривую, кислую улыбку, ряд почти старческих, полусъеденных и пораженных чернотою зубов, и от этого улыбка Мальчевского казалась отвратительной гримасой. Однако голос его был певуч, приятен и с оттенком грусти. После нескольких фраз, сказанных Василием спокойным сильным голосом, Мальчевский вдруг размяк и начал откровенничать на счет своей судьбы, то и дело взвизгивая от ребяческого смеха или пересыпая свои фразы повторяющимися словечками: “вот понимаете”, “черт возьми”, и черт у него выходил по-белорусски: “тцшорт”. В конце концов Андрей Ильич прочел Василию несколько своих стихотворений. Василий, строго посмотрев в глаза Мальчевского, сказал:
— Совсем не плохо.
Андрей Ильич по-детски засмеялся, взвизгнул и заговорил высоким тенором, причем Василий обратил внимание на его походку. Андрей Ильич делал широкие шаги носками внутрь и с каждым шагом как бы пробовал под собою крепость почвы, раскачиваясь, пружиня ноги и полусогнув весь корпус. Он был мал ростом, но широк и мускулист, и когда взглядывал на Василия снизу вверх черными, большими и красивыми глазами, то казался старым евреем, несущим на себе бремя тысячелетних унижений, и Василий подумал, что Андрей Ильич, может быть, и сам не знает, что в нем течет кровь западного, польского еврея.
Андрей Ильич совсем размяк и разболтался, то по-детски взвизгивая от смеха, то октавой излагая многочисленные цитаты из разных умных книг и, наконец, сделав грозное лицо, доверительно сказал Василию:
— Мне теперь абсолютно некогда работать над моим “Небом”...
Это он сказал так, будто уже весь мир знает, что он работает над “Небом”. Затем он еще доверительнее прибавил:
— Вы же видите, какие у меня дурацкие обязанности!
Видя, что Василий никак не реагирует на это, он возмущенно продолжал:
— И вообще, вы понимаете, я ни-че-го не понимаю в этом нашем путешествии!.. Не то она лечится, не то она паломничество совершает, не то она хочет настигнуть где-то мужа, — предостерегающим шепотом говорил он. — Я ни-че-го не понимаю... И зачем ей было всю эту ораву тащить?
— А разве самому вам не интересно это путешествие? — спросил Василий, чтобы приостановить дальнейшие разоблачения Виктории Андреевны.
— Поми-луйте!.. Как не интересно? Для моего “Неба” это ж прямо (у него выходило: “прамо”) фантастический случай... Но вы ж поймите: я превращен здесь в прислугу этого капризного мальчишки!
При последнем слове большой, с обезображенными зубами рот Мальчевского приоткрылся, и из него брызнула слюна и слово “мальчишки” опять сказалось: “мальцшиски”. Чтобы так или иначе прекратить этот разговор, Василий позвал Онисима. Но Онисим был ординарцем у Парфеныча, важно ехавшего впереди каравана и рассылавшего с Онисимом свои донесения по начальству и свои распоряжения конюхам. Подъехав к Василию, Онисим впопыхах сказал:
— Сейчас зачнется перевал! – и, не слушая Василия, закричал всем кучерам по-киргизски:
— То-ота-а! (Стой!)...
Караван остановился. Онисим стал руководить перетяжкою, пробою подпруг, не спали бы седла, не порвались бы подпруги, не задушили бы коней нагрудники. Соскочив с лошади, Онисим закинул повод на седло и побежал вдоль каравана, усердствуя, как распорядительный начальник. Поравнявшись с беленькой, закутанной в вуаль француженкой, он крикнул ей:
— Ну, што, запарилась?.. Погоди, ужо вот на гору поднимемся, замерзнешь.
— Comment? (Как) — пропела та испуганно и умоляюще взглянула на Василия, и Василий, с трудом выговаривая французские слова, успокоил ее:
— Il vous demande: êtes vous fatiguée? (Он спрашивает: не устали ли вы?)
— Non! Non! Monsieur! Pas du tout! Je me toute bien. (Нет! Нет! Сударь! Совсем нет! У меня все хорошо.)
Ответив, француженка тотчас же спросила:
— Monsieur! Vous parlez francais? Vous avez en France? (Сударь! Вы говорите по-французски? Вы бывали во Франции?)
— Oui, mademoiselle. De passage. (Конечно, мадемуазель. Проездом.)
Видя, что Василий объясняется с француженкой, Андрей Ильич весь просиял и признался:
— Вот, понимаете, мое несчастье: ничего не понимаю по-французски... И с нами ни одного французского учебника!
В это время от кабинки Алисы Карловны донеслось:
— И ошень карашо, што ви не понимайт.
— Вот ужасная женщина! — взмолился шепотом Андрей Ильич. — Она следит за нами, как шпионка!..
Василий слез с коня, подтянул подпруги и, предоставив лошади свободно схватывать стебли дикой горной кашки, дал понять Андрею Ильичу, что он уже не столь охотно его слушает. Но Андрей Ильич приблизился и снова начал полушепотом:
— Вот, понимаете, семейка!.. Этот молодой оболтус только что женился и уже изменяет молодой жене с каждой встречной девчонкой... Даже за монголками охотился!
И, рассказывая это, сам Андрей Ильич смеялся с таким сладострастием, будто Виктору завидовал. Василий же опять вспомнил о Гуте, и ему показался смех чернозубого, большого рта противным. Василий не ответил и нахмурился.
Андрей Ильич вдруг омрачился и замолк, но через некоторое время с тем же полудетским хохотком опять заговорил:
— А все-таки, черт возьми, все это наше путешествие замечательно... Я вот, понимаете, непременно в моем “Небе” введу самостоятельную главу об этом нашем взлете над пустыней...
Василий не ответил.
— Айда-а!.. — скомандовал Онисим.
Караван тронулся, и длинная цепь светлых лошадей тонкой, узловатою гирляндою повисла на первом косогоре. Василий заметил, что передняя кабинка сильно накренилась назад, так что фигура Виктории Андреевны клонилась вперед и испытывала явное неудобство. Василий подбежал к ней и предложил:
— Советую вам пересесть лицом назад.
Остановили караван и по-новому устроили сидение Виктории Андреевны.
Степные холмы и предгорья стали опускаться все ниже и ниже.
— Боже! Как дивно хорошо!.. Девочки! — крикнула она назад. — Чудесно! И удобно.
Она с благодарностью взглянула на Василия и откинулась совсем назад, как в кресле. Качаясь, закрывала глаза или прищуренно смотрела вниз на широко развертывавшуюся панораму взволнованной стихии безлесных холмов, напоминавших ей спокойное волнение океанской зыби.
Почти все пересели лицами назад, даже ехавшие в седлах дети. Только у Любы закружилась голова, и караван был снова остановлен, чтобы переложить ее в кабинку.
— Не случилось бы дождя на перевале, — сказал Василий. — Боюсь, не простудились бы.
— За детей я беспокоюсь, — сказала Виктория Андреевна, и, тронутая этой заботливостью, жмурясь от укачивания в своей люльке, она томно прибавила:
— А все-таки хорошо, что я придумала для них эту поездку!.. Если бы в моем детстве было такое путешествие, я бы, кажется, всю жизнь иначе прожила...
— Грешно вам жаловаться на свою жизнь.
— Ах, вы не знаете моей жизни, — грустною ноткою отозвалась она. — Да, все это было весело, красиво, беззаботно... Я помню свою юность как какой-то сплошной танец — так много для меня устраивали вечеров... Мы жили тогда в Иркутске. Мама выписала из Москвы для обучения меня танцам одну из лучших балерин... Я танцевала с упоением и никогда не уставала. И, кажется, действительно своими танцами производила впечатление. Я помню эти сотни обращенных на меня влюбленных глаз. О, этого нельзя забыть!..
Она замолчала, и Василий увидал, как из ее глаз покатились капли, которые она украдкой, движением восковых дрожащих пальцев, смахивала, но они снова сыпались из-под ресниц.
Василий, придержав лошадь, намеренно отстал, чтобы не смотреть на ее задергавшийся подбородок. Он посмотрел назад, вниз, на тупые желто-зеленые черепа холмов, и гирлянда каравана, красиво повисшая на крутом пустынном склоне горы, показалась ему грустной фразою из красочной жизни этой женщины. Затем он снова поравнялся с нею и задушевно сказал:
— А вот я верю, что наша природа вылечит вас лучше всяких европейских знаменитостей.
— Ах, нет, я знаю... — по-детски всхлипнув, горько начала она, и все лицо ее перекосилось судорогой безнадежности. — Отплясала!.. — совсем задохнувшимся шепотом прибавила она и прикрыла рукою глаза, как бы желая удержать непослушные складочки на лбу и вокруг рта... — Это уже тянется четыре года...
Виктория Андреевна не могла больше говорить, достала платочек, вытерла глаза, высморкалась и стала плакать тихо, доверчиво, не стыдясь.
— Айда-а!.. — опять пронеслась по каравану высокая нота Онисима, увидевшего поднятый Парфенычем кнут с белой тряпкой на конце.
И снова ожила бело-пестрая цепь каравана, и поползла по узенькой, едва заметной щербинистой тропинке, и понесла недосказанную драму Виктории Андреевны куда-то выше, к белеющим пирамидам горных вершин.
Василию казалось, что в мареве струящегося над горами воздуха звенят чуть слышные ноты глубочайшей безнадежности для избалованной богатой женщины, беспомощно влачащей ноги по земному шару... Но потому, что временами она забывает о своей болезни, весело болтает, шутит и смеется, в душе еще цветут какие-то надежды и необычайные пути к несбыточному чуду. И это хорошо, и это так и должно быть.
Когда по знаку Парфеныча караван опять остановился для передышки, Виктория Андреевна спокойно вытерла глаза и с грустью вымолвила:
— Я все собираюсь записать историю моей жизни и во всем, во всем покаяться...
Василий насторожился. Но Виктория Андреевна снова замолчала и смотрела грустным взглядом на опускавшуюся все ниже и ниже взволнованную ширь земли. Лишь после длинной паузы голос ее зазвучал отчетливо, причем она смотрела так же вдаль, мимо Василия.
— Скажите: вы верите в какого-нибудь Бога?
Вопрос этот был настолько неожиданным, что Василий не решился сразу ей ответить.
— Нет, вы не придумывайте ответа, а скажите сразу, — потребовала Виктория Андреевна и посмотрела испытующе в его глаза.
В эту минуту Василий почему-то вспомнил о поэме Андрея Ильича. Его внезапно заинтересовало: что такое мог сказать о небе этот косолапый выродок, полулевит, полуеврей? Не отрывая глаз от гривы лошади, он не сразу и уклончиво ответил:
— Ваш вопрос застал меня в самый критический момент моих исканий и сомнений...
— Слава Богу, что вы не ответили мне иронической улыбкой, как множество моих просвещенных друзей, — с нервной поспешностью сказала Торцова. — Ах, как я их возненавидела за эту манеру — шутя ниспровергать все то, чего они не понимают...
Светло-карие китайские глаза Виктории Андреевны вдруг потемнели и потеряли свое натуральное, мягкое выражение.
— И я хотела бы дожить до того дня, когда сегодняшние нигилисты начнут разбивать себе лбы от молитвенного экстаза.
Виктория Андреевна говорила так, как будто хранила в себе какую-то сокровенную тайну и берегла ее, как угрозу или как священный феникс. Не в этой ли сокровенной ее тайне покоится смысл ее эзотерического путешествия? Неизлечимо больная миллионерша, изверившаяся во всех культурных способах лечения и обратившаяся в поисках здоровья с исступленными мольбами к Богу, она, может быть, попала в те же мучительные тенета противоречий, в которых путался все эти годы сам Василий. Но самое чудесное то, что они встретились именно здесь, в этом месте тысячелетней необитаемости и в этой необычайной обстановке.
И Андрей Ильич, сочиняющий свое “Небо” и строящий какое-то свое миросозерцание, и эта утонченная и разочарованная искательница приключений — оба стали для Василия особенно значительными, даже более значительными, нежели его недавние ученые друзья, спутники по экспедиции. Почему так?
— “Не потому ли, что у этих больше обостренного, правдивого стремления к истинно важному и непреложному?”
Но в следующую минуту Василий дернул себя за бороду: не навязывает ли он своих мыслей этим незнакомцам?
Теперь он стиснул зубы, и брови его над глазами нависли, как у старика, а глаза сузились и пристально смотрели на Викторию Андреевну, как бы отыскивая в ней нечто другое, более ценное, чем ее хрупкое больное существо. Затем снова дернул себя за бороду и, остановивши свою лошадь, стал поджидать Мальчевского. Ему захотелось исповедовать этого неврастеника. Тот теперь ехал в кабинке, рядом со спящим в своей качалке Котиком, и держал кота и ягненка на руках. Ворот его рубашки был расстегнут и обнажал густую, черную растительность на груди, такую густую, что она как бы являлась продолжением бороды Андрея Ильича. На Василия пахнуло чем-то дремучим от этого человека, как от фавна или как от сказочного человека-лошади. Мальчевский при всей своей сладкозвучной лирике, при всей девической стыдливости красивых глаз и нежных взвизгиваний смеха, должен быть животно-похотливым существом. И, несмотря на свое уродство, должен успевать у женщин. Затем Василия кольнула одна деталь из признаний его жены, которая однажды в сокровенную минуту шепнула Василию о том, как сладко прикосновение к ее телу жестких мужских волос. Василий тогда же сравнил себя с волосатым Викулом и должен был признать себя младенцем по сравнению с братом.
— “Волосатый, дремучий зверь-мужчина — вот кто настоящий бог для женщины, а вовсе не прекрасный Аполлон!.. А посему: не в дебрях ли лесных, не в недрах ли зеленых живет всесильный Бог? Причем тут небо и высоты?” — с раздражением спросил себя Василий и потерял желание говорить с Мальчевским.
Догнав Викторию Андреевну, он решил поддразнить ее волосатостью Мальчевского.
— Этот воспитатель вашего Котика, оказывается, весь в шерсти... Прямо как горилла.
— Да что вы говорите? А где вы видели его раздетым? — Виктория Андреевна как бы всполошилась, но Василий уловил в ее глазах желание сейчас же посмотреть, действительно ли воспитатель Котика в шерсти.
— Он так распоясался от жары, что нераздетый виден.
— А где же Тася?.. Неужели она видела его? — забеспокоилась Виктория Андреевна не за девиц, а именно за молодую женщину, и с головой выдала себя Василию.
Тогда он посмотрел на ее порозовевшее от жары и возбуждения лицо и с любопытством и с несвойственным ему бесстыдством спросил:
— А скажите по совести: для женщин волосатые мужчины желаннее, нежели такие, как Аполлон?
Виктория Андреевна с внезапным легкомысленным смешком призналась:
— Ах, знаете, как чудесно описал это Мопассан... Рассказ у него такой есть “Усы”... Конечно, надо прочитать именно французский текст... Ха-ха!..
Василий ощупал взглядом всю фигурку Виктории Андреевны, и она под этим взглядом продолжала хохотать, точно от щекотки, самым откровенным, дразнящим и похотливым смехом.
Тогда Василий наклонился к ней и сказал со сдерживающим упреком:
— Все вы бесстыдницы! Какой вздор, будто существует для вас Бог и целомудрие!
— Ха-ха-ха! — продолжала зазывающе смеяться Виктория Андреевна и, поворачиваясь с боку на бок, как бы нечаянно обнажила до колена свою тонкую ногу в туго облегающем ее белом шелковом чулке. Но Василий вспомнил, что эти ноги не упруги, не резвы, почти неживые, сконфуженно потупился и замолчал.
А Виктория Андреевна все еще ловила его взгляд и, смеясь, выкрикивала:
— Ну, ну!.. Философ!.. Не разыгрывайте светлую невинность. Лучше расскажите-ка о ваших восточных победах... О-ох, жестокий вы лукавец!..
— “Ну, вот и я наконец начинаю успевать у женщин”, — с горечью подумал о себе Василий и с внезапной злобой мстителя напомнил спутнице:
— А ведь ту, в фактории-то, молодую женщину вы сказнили, даже не узнав, насколько она виновата!..
— Какую молодую женщину? — спросила Виктория Андреевна и, увидев неприятно-дерзкий взгляд Василия, сразу вспомнила. — Ах, эту!.. Ну, знаете... Не будем говорить об этом! — коротко прибавила она, и Василий ощутил некоторое облегчение при этом изменении ее настроения. Теперь у него был повод сухо замолчать и прекратить опасную игру в нетрудные победы.
Но он еще не знал, что Виктория Андреевна впервые в жизни столкнулась с подобной неприкрытой неприязнью мужчины. И как только она поняла свой промах и эту неслыханную дерзость, она тотчас же похолодела от стыда и затаила мстительную ненависть к Василию. Но в следующую минуту она с собою справилась и даже постаралась повернуть все сказанное в шутку, хотя во взгляде ее змеился нехороший огонек. Василий это понял. Он пожалел обиженную и больную женщину и начал бить отбой, чтобы смягчить нанесенный ей удар. Но было уже поздно. Это лишь усиливало оскорбление, так как женщина, почти царица, властная и гордая, избалованная и капризная, почуяла в этом унизительную жалость и превосходство над собой какого-то случайного проезжего, столь неблагодарно платившего за ее гостеприимство. Почуял это и Василий и не только понял свою неделикатность по отношению к женщине, но и должен был сознаться, что он поступил как невоспитанное, хамское отродье. По крайней мере, это он отчетливо прочел в полуприщуренной улыбке внешне успокоившейся и умолкшей спутницы.
Лошади все чаще стали останавливаться, ноздри их расширились и покраснели, мышцы дрожали, и за ушами взмокла шерсть — признак крайнего напряжения сил. Кроме того, они целый день не ели.
Между тем стал подувать холодный ветерок, и совсем исчезла древесная растительность: караван был выше пределов леса.
Парфеныч посматривал на небо и вперед на отлогое и далекое альпийское поле, по которому, как лилово-красные мадежи, разбросаны были твердые, вытканные столетиями мхи и чахлые кустарники черничных ягод.
Андрей Ильич опять пошел пешком и продолжал останавливаться с широко раскрытой грудью и засученными рукавами. Лицо его было угрюмым, вокруг глаз и носа обозначились синие впадины, а глаза приобрели тоскливый, почти скорбный блеск. Кота он поручил мадемуазель Марго, которая, сочувствуя Андрею Ильичу, самоотверженно решила принять на себя все молниеносные насмешки Алисы Карловны. Козленка же взял к себе Онисим, и из его мешка, привязанного сзади к седлу, выглядывала белая, ушастая чертячья мордочка. Она беспомощно болталась, изредка бархатный ротик открывался и испускал приятный, серебристый вопль.
Пошли альпийские, смешанные с острым гравием и мхом болота.
Все поглядывали на горизонт открывшегося широкого луга, и все ждали: вот еще сто шагов и конец подъема... Но проходили двести, триста, а впереди опять такое же отлогое, широкое и мшисто-вязкое альпийское болото, на котором нельзя было остановить для отдыха лошадей, ибо они начинали увязать, засасываемые холодной, жидкой смесью щебня, мха и глины.
Рожденный где-то здесь, поблизости, в горах, Василий никогда еще не поднимался выше лесного предела своей родины и не знал, что на высоте этих гор лежат такие безжизненные, широчайшие равнины, столь же неприступные и необъятные, сколь и мертво-бесполезные. Он задумался над тем, могла ли когда-нибудь культура победить или использовать эти пустынные высоты, овеянные молчанием тысячелетий... И то, что вот больная женщина копытами своего каравана нарушила это молчание и проследует через пустынные высоты, — будет значительным, единственным событием на расстоянии тысячелетий. Василию стало грустно, и жалость к обиженной им женщине, обреченной на бесследное исчезновение с лица земли, внезапно примирила его не только с Викторией Андреевной, но и с неуклюжею фигурой Андрея Ильича, шедшего поблизости.
— Ну, что, поэт? — спросил он с холодной иронией. — Чувствуете ли вы, что вы приблизились здесь к небу?..
Мальчевский обернулся, растянул ярко-красные губы сомкнутого рта и снова зашагал. Даже не раскрыл губ, не показал своих гнилых зубов, не улыбнулся, быть может, не слыхал вопроса, а лишь посмотрел и вновь ушел в свои, должно быть, очень тягостные размышления. Следом за ним устало шли собаки, изредка поднимая вздрагивающие носы навстречу ветру и подозрительно вынюхивая что-то в воздухе.
Онисим и Парфеныч что-то часто наклонялись с седел и рассматривали тропинку, разводили руками, тыкали кнутом и озирались на Волчка, трусливо поджимавшего свой хвост. О чем они говорили, никто не слыхал. Но Василий пригляделся к тропинке и в тех местах, где лошади не размешали грязи, увидал следы больших когтей: четыре в ряд и один отдельно. Свежий медвежий след. Местами след делал росчерк всеми когтями вправо или влево: значит, скользил, спешил. Значит, идет впереди и недалеко. Василий подъехал к Виктории Андреевне. Она закуталась в пуховой капор и большое беличье одеяло и, подозвавши Вареньку, приказала обойти детей, сказать, чтобы оделись потеплее.
Солнце покатилось быстро со средины неба вниз, а перевал все еще продолжал манить своей недосягаемой близостью, и, казалось, никогда не кончится холодная, бесплодная, мшисто-щебнистая дуга альпийского болота.
Василий знал, что медведь не может причинить какого-либо вреда в пути, но боялся переполоха женщин, и особенно детей, и не посоветовал бы ночевать на высоте. Это опаснее медведя. Ночью может разразиться буря, завалить тропинку и повторить тяжелый случай на Памире. А солнце не ждало, и лошади измучились, да и люди, особенно все дети, переутомились. Уже слышны были нотки раздражения, жалоб и капризных слез.
Парфеныч и Онисим это понимали и молчали о следах медведя. Но Андрей Ильич, увидев след, точно обрадовался ему и крикнул:
— Господа! А впереди медведь идет...
Котик заревел и задрожал в испуге. Караван остановился. Весть о медведе молнией всех облетела, многих рассмешила, но многих напугала так, что даже Парфеныч, опытный охотник, старый зверобой, смутился и стал уговаривать:
— Христос с вами да Богородица! А мы — на што?.. А ружья-то у нас на што?
Но тревога нарастала по мере приближения ночи, вместе с резким и холодным ветром, вместе с раздражающей усталостью и невозможностью подняться на вершину перевала. Раздавались голоса за остановку до утра, но Василий настоял спешить во что бы то ни стало. И опять послышался надсадный храп измученных лошадей, тогда как люди замолчали... Все почувствовали себя как перед бурей в океане на беспарусном и утлом челне.
Но вот неожиданно и быстро впереди открылась ширь... Это потрясло даже видавшего виды Василия. Ширь эта явилась настолько внезапно, точно она спустилась с неба необъятною и изнурительной завесой. Даже нельзя было поверить, что это наяву... Но и во сне этого никто и никогда не мог увидеть, ибо это был какой-то невзрачный, лилово-синий и волнистый, уходящий в молчании и неподвижности хаос.
— Господи Иисусе!.. Русь-то!.. — воскликнул Онисим, снял картуз, перекрестился, и предзакатное солнце заиграло мягкими чертами радости на его шерстистом лице.
— Да, это Россия начинается... — сказал Василий, запечатлевая в памяти неповторимую даль, и ширь, и синь, и глубину видения. Он недоумевал, почему такая густая черная эмаль разлита во всем этом просторе? Ах, это потому, что там уже солнце закатилось и в ущелья спустилась ночь. С вершин же заоблачного хребта солнце было еще видно и стало доступным простому глазу, осев на горизонте огромным сгустком пламени и крови. Но там внизу, в этом океане сине-лиловой эмали, — там уже ночь!
И в эту ночь надо было начинать крутой, извилистый, опасный спуск...
Лошади понуро стояли, устало подгибая ноги под седлами, вьюками и под носилками. Тянул холодный, пронзительный ветер. Проводники снова подтянули подпругами отощавшие, ставшие тонкими животы лошадей и по-новому перевязывали и укрепляли жерди носилок и кабинок. Кабинка Виктории Андреевны была привязана передними концами жердей прямо к уровню седельной луки, тогда как задние концы носилок были спущены на уровень колен лошади. Василий опасливо поглядел на причудливые украшения балдахина и на эти громоздкие дуги над кабинкой. Внизу, где тропа пойдет густым леском, балдахин каждую минуту может зацепиться и, повиснув на суку, сбросить и окончательно изуродовать больную.
Виктория Андреевна заметила раздумчивую медлительность проводников, смущенных размерами ее балдахина, но, не уловив никакого беспокойства во взгляде Парфеныча, главного руководителя каравана, успокоилась и продолжала любоваться величавой, темно-синей, развернувшейся внизу и первозданно-молчаливой стихией. И было в ее взгляде нечто ястребино-строгое, грустное и неуловимо жадное. Казалось, что, несмотря на предстоящие опасности, она переживала минуту упоения, которое недоступно более, быть может, ни одной женщине в мире... И если даже она погибнет именно на этих высотах, — о ней останутся легенды как о героине, погибшей в поисках достойного ее героя.
Окинув взглядом караван, Василий на лицах молодежи прочел испуганный восторг. Особенно ему бросилась в глаза тоненькая фигурка француженки. Мадемуазель Марго вытянулась на своем седле и что-то говорила наедине с собою... Ее хорошенькое личико, окрашенное пламенем заката, по-птичьи вытянулось вперед, как бы заглядывая в пропасть. Полудетские глаза казались ослепленными, не видевшими ничего вокруг, а губы самозабвенно лепетали с картавой благозвучною родного языка:
— Oh, que cela est beau! Oh, que cela est terrible!
С упоением и восторгом любовался ею Андрей Ильич, самовольно посматривая на синий хаос как на собственное творение, которым он доставил этой нежной, женственной и хрупкой чужестранке такой незабываемый момент.
Безразлично к окружающему вели себя молодые супруги. Между ними продолжались сцены ревности, упреки или трагическое молчание, которое было для них теперь сильнее всех опасностей и важнее всех красот.
Парфеныч подозвал к себе всех мужчин, ехавших самостоятельно верхами, и, когда все встали в ряд, лицами к закату, составилась, как отлитая из чугуна, группа всадников-богатырей. Четыре из них были бородаты, неуклюжи, и бороды их горели пламенем... Василий был именно в этой группе и, слушая наставления Парфеныча о том, кто, где и как при спуске должен ехать и следить “за барынями и за ребятишками”, едва понимал, что группа в семь всадников с огненными лицами, обращенными к лиловому хаосу, была сказкой наяву, вознесенной на заоблачную высоту символической, огнелицей Русью. Заметил это и запомнил только Коля, но бессознательно и смутно и тотчас же похоронил в своей беспечной полудетской памяти, быть может, до поры до времени, быть может — навсегда.
— Ну, с Господом! — провозгласил Парфеныч и медленно поехал первым вниз, взяв накоротко повод лошади, идущей в передних оглоблях главной кабинки.
Сидевшая теперь лицом вперед Виктория Андреевна сразу очутилась точно на катушке, откинулась назад и схватилась руками за обочины кабинки. У нее закружилась голова от разверзнувшейся под нею крутизны, она расширила глаза и вскрикнула:
— Какая пропасть!..
— Ничего... Не бойтеся, — успокаивал Парфеныч, но Василий видел, как три лошади, едущие впереди его, почти сидя поползли по скользкой и кривой тропинке. И одновременно быстро покатилось солнце за эмалевую грань. Еще два-три скольжения неокованных копыт по извилинам тропинки — и караван спустился в ночь, в первую морщину горной древности.
— Держи межу-у!.. — кричал Парфеныч нарочито громко и веселым голосом, чтобы пугать медведя и ободрять пассажиров. За ним, как эхо, так же громко и весело, повторяли Василий, Андрей Ильич, Онисим и Коля, охранявший Любу под строгим наблюдением Алисы Карловны, сидевшей гордо и браво в седле.
Но межу держать было не так легко, лошади катились, не переставляя ног, местами сгруживаясь по две и по три в кучу, грозили смять одна другую, сломать кабинку или уронить вьюки и седоков.
А ночь сгущалась, и скоро послышалось откуда-то снизу журчание потока. Все причудливее виляла тропа, и повороты были так круты и неожиданны, что кибитка Виктории Андреевны повисала над бездонной пропастью, в то время как лошади каким-то чудом, точно муравьи, ползли по скользкому карнизу.
А Парфеныч все покрикивал и даже начинал напевать. В его голосе не слышно было фальши, ибо он спокойно доверял судьбу Виктории Андреевны лошадям. Он знал, что теперь все зависит от цепкости лошадиных ног. Но сама кабинка то и дело наполняла жутью наблюдавшего за нею Василия. Когда передняя лошадь прыгала через камни и рытвины или невольно катилась быстрее задней, а задняя не попадала в такт прыжку, то ремни, привязывавшие жерди кабинки к седлам лошади, натягивались, как струны,
и грозили каждую секунду разорваться... И тогда Виктория Андреевна немедленно попала бы под копыта задней лошади или могла полететь с отвесной кручи в темную невидимую глубину. Но голос Парфеныча все веселее и все громче раздавался в гулкой круче ущелья, ему вторил голос Онисима, а еще дальше позванивал Коля, и потому Василий, а за ним и все остальные, напряженно слушая это наигранное веселье, молча прятали в себе страх за каждую грядущую минуту.И потому минуты длились долго и мучительно, и все быстрее караван скользил в глубь темной пропасти. Все яснее стали выступать на небе звезды. Приглядевшиеся глаза уже отличали камни, рытвины и длинные полоски скользящих копытных следов. Смолкшие было, люди начали понемногу разговаривать, освоились, слепо доверились цепкости и силе лошадей, или судьбе, или, быть может, еще кому-то, наиболее осмысленному и милосердному...
— Сто-ой! — вдруг закричал Парфеныч. — Дорожку тут размыло. Господи, помилуй!.. Стой!.. Держи-и!.. Слезайте все с коней, скорее... Бары-ню!.. Барыню главную!.. — и голос Парфеныча сорвался.
Василий в первую минуту оробел и не подчинился, но, так как лошади не могли стоять и медленно плыли, оседая на хвосты, он свалился с седла и, бросив свою лошадь, побежал к Виктории Андреевне.
— Давайте руки... Ну, обнимайте же за шею!.. — кричал Василий, скользя ногами по сырой земле.
И только он успел схватить Викторию Андреевну и, качнувшись с нею в сторону с тропинки, в неловкой позе повалился на огромный угловатый камень, как лошадь Парфеныча метнулась через рытвину. Передняя, в носилках, толкаемая задней, тоже прыгнула вслед за Парфенычем, но задняя заартачилась и, упершись, на полпрыжке удержала ее на ремнях, и потому передняя не могла перескочить овраг и, оступившись, полетела вниз, поставив стоймя жерди и сдергивая вниз вторую лошадь. Но остававшаяся на яру рванулась от испуга в сторону и, растерзав кабинку, обломила жерди и с свирепым храпом бросилась назад, производя смятение среди сгрудившихся следующих лошадей.
Парфеныч бросил свою лошадь и, увидев, что хозяйка спасена, кричал:
— Лошадь!.. Лошадь пособите выручить!.. Онисим!.. Османгу-ул!..
— Османгу-ул!.. — подхватил Онисим.
Но Османгул кричал что-то из хвоста каравана, и Парфеныч понял, что тому нельзя оттуда отлучиться.
— Вот, барыня хорошая!.. — крикнул запальчиво Парфеныч. — Говорил я тебе утресь, што надо пораньше отправляться, а ты мне: “Жалко молодость будить...”, вот те и молодость: лошадь-то, однако, ноги поломала!.. Ах ты, Господи, сердешная!.. гляди-ка — сломала ногу заднюю!.. Да будь же она проклята, эта повозка!.. Кто ее выдумал, и тот не добрый человек.
Виктория Андреевна сидела на камне, поддерживаемая Василием, и дрожала нервной дрожью, не смея даже возражать на грубость своего проводника.
А Парфеныч все кричал:
— Эй, Онисим!.. Ну-ка, вели там скорее отстегнуть от задних лошадей все эти дроги-то... Да лошадь мне пособи расхомутать... Ишь, как бьется: надобно убить ее, сердешную... Хомут-то снять сперва!..
— Не надо!.. Не надо убивать! — взвизгнула Виктория Андреевна, и в голосе ее послышалась мольба и страх и слезы.
Василий обхватил ее за плечи и прижал к себе, как маленькую девочку.
— Успокойтесь и не вмешивайтесь. Позади ведь дети...
А Парфеныч уже совсем вышел из повиновения и строго наставлял:
— Как это не надо!.. Што же ей тут, может, целую неделю маяться придется... Што ты, барыня, Христос с тобою!... Тпрру, матушка!.. Тпрру-у, Господи благослови.
И ущелье охнуло от выстрела, вслед за которым раздался отчаянный, совсем не лошадиный рев из широко оскаленного и дрожащего рта лошади...
— Эх, дробью ведь заряжено!.. Я и забыл!.. Онисим! У тебя не пулей ли? Давай-ка поскорее.
И Парфеныч стал карабкаться на кручу к державшему лошадей Онисиму. Взял у него трехстволку и вновь спрыгнул в овраг. Приставив дуло к голове бьющейся лошади, он снова выстрелил и с дрожью и глубокой обидой в голосе сказал не торопясь:
— Ну вот, сейчас отмаешься, Христос с тобой, скотинушка сердешная! — и начал с теплой еще, трясущейся предсмертной дрожью лошади, снимать сбрую и выручать поломанные части балдахина.
А Виктория Андреевна билась на груди Василия в истерике, и Василий не находил места, где бы поудобнее с ней сесть, и успокаивал ее, лепетал ей братские, нежные слова, слышал тонкий аромат духов от ее платья и ощущал трепещущую слабость тоненького, беспомощного, доверившегося ему тела, которое уже само льнуло к нему в рыданиях и мольбе.
— Не брось ты меня, не покинь, не оставь!.. Господи, Господи!
— А лошадь-то ведь у меня ушла, — вдруг вспомнил Парфеныч и бросился вниз, крича:
— Заваливай ее, Онисим, камнями. Овраг-то засыпайте поскорее!
Онисим, Коля и приблизившийся наконец Андрей Ильич начали быстро погребать под крупными камнями сидящую на заду в овраге лошадь.
А Парфеныч снизу обрадовано кричал:
— Нет, вот она, травку ест... Эй, ребята! — совсем весело закричал Парфеныч, — тут равнинку Бог послал... Надо тут утра сождать нам... А то мы ночью всех лошадей перекалечим.
Услышав это, Виктория Андреевна вдруг сквозь рыдания рассмеялась.
Василий понял ее смех и весело вступился за Парфеныча:
— А конечно, какое ему дело до людей?.. Он должен беспокоиться за целость лошадей!.. Мужик, видать, хозяйственный!
Скоро через заполненную лошадью и камнями рытвину началась медленная и осторожная переправа.
И то, что ниже оказалась ровная площадка, величиною в сто квадратных сажен, сразу оживило и развеселило всех. Явилась надежда на спасение, а может быть, на некоторую возможность поесть и выспаться.
Не пугало даже соседство медведя, и вся молодежь, захвативши самое необходимое с вьюков, побросала лошадей на попечение конюхов и проводников и зароилась на площадке, как тетерева на току. Одни смеялись и горячо делились радостью, другие рассказывали о жутких наблюдениях спуска, третьи жадно пожирали куски жареной баранины, а все остальные озабоченно служили им, ухаживали за лошадьми, устраивали господам постели, готовили закуски и всевозможные удобства детям.
И кто скажет, почему? Потому ли, что люди обрадовались спасению, или, напротив, потому, что были все еще близки к краю гибели, но в эту ночь особенно свободно все держались парами. Не только помирились Тася с Виктором, не только Андрей Ильич устраивал постель для мадемуазель Марго и кутал ее в собственный тяжелый плащ, но и Алиса Карловна нашла поклонника в лице Онисима, но и Любе не мешал никто под рыцарской охраной Коли довольно далеко уйти искать дров для костра. Впрочем, до лесного предела они не рискнули спуститься и за целый час отсутствия смогли принести лишь маленькую охапку сырого вереска. Однако это всех развеселило, так как сырой вереск вспыхивал, как магний, и когда он разгорался, лежащая в своей палатке на сырых от росы и в темноте плохо разостланных коврах Виктория Андреевна тихо говорила низко наклонившемуся к ней Василию:
— Что это за дерево?.. Смотрите, каким оно лилово-синим огнем светится!..
В голосе ее еще слышны были остатки слез, но побеждало любопытство к окружавшей всех суровой и волшебной обстановке.
— Мне кажется, что я нахожусь сейчас где-то на другой, совсем особенной планете!.. И почему, почему мы не умеем нашу жизнь устраивать на земле так, чтобы она была действительно прекрасна?..
Василий молчал и в это время вспомнил о первой и последней ночи среди вереска, где-то тут же, может быть, в ста-ста пятидесяти верстах, в совсем иной, не сказочной ли тоже, не сочиненной ли его фантазией обстановке?..
А Виктория Андреевна, пользуясь наступившей после ярких вспышек вереска темнотою, пугливо жалась к Василию, и Василий чувствовал, что он вот-вот сорвется с этой альпийской высоты и полетит в какую-то зловещую пропасть... Он закрывал глаза от стыда и ужаса, но руки его, против воли, тянулись навстречу горячим и тонким, жадно трепещущим чужим рукам...
И вспоминая Наденьку в далеком прошлом, ту, грешную, которую впервые уводил в ночную степь Викул, и Гутю в настоящем, тоже грешную, которую унизил на его глазах случайный человек, Василий слышал вкрадчивый и нежный голос:
— Думала ли я, что именно здесь, где-то под небесами, над пропастью, в промежутке между ужасом и смертью, я найду эти прекрасные, волшебные минуты?
При этом она в такт своих наиболее сильных слов робко пожимала его руку. Василию казалось это фальшью, он презирал себя за то, что слушает ее, и вместе с тем какая-то ранящая жалость к ней или острая обида за нее и за себя и за оставленную Гутю, а может быть, за неверную, давно покинутую Наденьку, его жену, — толкали его к этой женщине на явный черный грех, на обидное, неотвратимое падение... И, как в бреду, с безжалостной, ожесточенной страстью он стал ласкать ее со слабым стоном, как в глубоком обмороке, распустившееся тело.
— Вы забываетесь! — вдруг услыхал он в тот момент, когда была перейдена им грань стыда и нежности, — и Виктория Андреевна, точно стальная пружина, оттолкнула от себя Василия. Он хорошо запомнил, что даже ожили и оттолкнулись от него ее парализованные ноги...
Он был унижен, отмщен за давешнее издевательство и, как никогда, оплеван в собственных глазах.
И когда назавтра он хотел себя уверить, что это был кошмарный сон, — она сияла откровенной радостью победы, и в глазах ее, рядом с восторженной покорностью, светились самодовольство и мистический восторг. Она просто и доверчиво подозвала его к себе.
— Теперь я верю в Дьявола и в Бога! — вдохновенно лепетала она. — Потому что уверовала в неодолимую власть женщины. Я захотела необыкновенных приключений — и я их испытала. А вы, — прибавила она, прищуренно глядя в его лицо, — вы по-прежнему считаете, что властелином женщин могут быть лишь волосатые гориллы?
Василий не мог ни отвечать ей, ни глядеть со вчерашней прямотой в глаза людей. Ему чудилось, что все глаза несут в его сердце стрелы, отравленные презрением, а ничем неутолимое раскаяние наполнило его отчаянной, ядовитой горечью и желанием скорее убежать куда-нибудь в окрестные медвежьи трущобы, обрасти там шерстью и сделаться гориллой, смешаться с дикими зверями... До такой степени в нем затуманилось
все то, что так еще недавно освещало его человеческое имя.