Г. Д. Гребенщиков
РОМАН-ЭПОПЕЯ
ЧУРАЕВЫ
том 2
СПУСК В ДОЛИНУ
ВТОРАЯ ГЛАВА
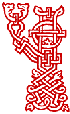
ерез несколько дней после спуска с высоты, когда обе экспедиции длинной узловатой цепью двинулись по направлению к Андижану, откуда Василий, не обладавший средствами, хотел с каким-либо попутным караваном двинуться к Зайсану и затем на родину, — к нему, пиная старую, плохо оседланную киргизскую лошадку, подъехал Онисим и заговорщицким шепотом сказал:
— Василий Фирсыч! Вот тот кривой, Курабайка-то, из Булун-Тохоя...
Василий посмотрел в бирюзовое, с выцветшей перистой бороденкой лицо мужика, к которому так не шла помятая и расплющенная долгой ноской и размытая дождями суконная фуражка с кантом почтового ведомства. Вокруг ее околыша со всех сторон загибались кольцами пыльные, ржаного цвета волосы.
— Ну так что же из этого? — после паузы спросил Василий.
Онисим передернул на плече ремень винтовки, сверкнул белками глаз на соседнего верблюда, на котором полусонно качался Ручеборов, и еще таинственнее просипел:
— Дак он же, Курабайка-то, на Кашгар своротит... Он не хочет в Андижан-то...
— Ну так что же? — все еще не понимал Василий.
— Фу-ты, Господи!.. Дак он же с нас недорого возьмет — ему попутно, он монгольский, — понял?..
В голове Василия мгновенно повернулась целая пластинка с внезапными готовыми догадками.
Такие пластинки и цилиндры с десятками написанных молитв Василий видел при входе в храм ламаистов: повернул — и сотни молитв мгновенно отправлены на небо. Ему стало ясно, что Онисим от кого-то узнал о его, Василия, отъезде и узнал, очевидно, не хорошо, раз говорит об этом воровски. А хуже всего — и в то же время лучше для Василия, — что и сам Онисим, видимо, решил из экспедиции бежать. Ведь Онисим взят Барановым в проводники по дороге в Кош-Агач, как раз на Чуйском тракте, на Алтае.
Мгновенно все это сообразив, Василий все-таки спросил Онисима:
— А профессор-то тебя отпустит?
У Онисима в течение долгого встревоженного взгляда на него Василия тоже, видимо, успело обостриться решение, и, чтобы отрезать все пути и успеть все одним ударом отрубить, он залепетал с вызывающей, фальшивой смелостью:
— Дак у меня же семья — мал мала меньше. Што же... баба третий год с ребятами... А я опять же не в контракте...
— Что такое ты тут затеваешь? — пропел с пренебрежением Ручеборов.
Онисим смутился и замолк, и по лицу его Василий понял, какого усилия стоило ему подавить в себе вспыхнувшую дерзость и вместе с тем ребяческую пристыженность. Поперхнувшись отказавшимся служить ему языком, он едва вымолвил уже совершенно робким голосом:
— Нет, ваше скородие, — я это так, вот с его благородием говорю.
Василий перехватил на себе подозрительный взгляд зоолога, и это ему показалось оскорбительным. Не столько из заступничества за Онисима, сколько из простого озорства Василий обратился к Ручеборову:
— Послушайте, неужели без Онисима вы не могли бы обойтись? Ведь вы же такой превосходный стрелок!..
Ручеборов вместо ответа только крякнул. Все в экспедиции знали, что близорукий Ручеборов не убил ни одного зверя, ни одной птицы, но выдавал себя за лучшего стрелка и многие трофеи Онисима, при безропотном молчании последнего, присвоил себе, показывая их перед кинематографом. Слова Василия прозвучали не только явной насмешкой, но и угрозой, ибо уход из экспедиции Онисима быстро и воочию докажет беспомощность и хвастливость зоолога. Больше того: без Онисима некому будет так или иначе добывать дичь на мясо. И мелкая охотничья обида Ручеборова мгновенно выросла в способность клеветать.
Не успел Василий хорошенько расспросить Онисима о том, почему он, в самом деле, решается уехать столь внезапно и потерять такого господина, как Баранов, к Василию подъехал сам Баранов и с нескрываемым негодованием спросил:
— Вы, кажется, с собою сманиваете нашего незаменимого слугу?
Василий обладал многими дурными свойствами, но то, в чем обвинял его достойнейший из спутников, показалось ему почти гнусным. Даже Баранов вдруг утратил в его глазах свое обаяние и достоинство. Если Баранов мог поверить столь унижающей Василия клевете — и он сам, Баранов, такой же мелочный и подлый, как этот Ручеборов. А если так — пусть же он получает по заслугам.
— Да, я нашел, что Онисиму со мною больше по дороге, нежели с вами, — тихо и высокомерно произнес Василий. Всегда в нем жившая опасная, обоюдоострая сила нанесла сразу два удара: одним острием — одному из самых близких и достойнейших людей, Баранову, а другим — самому себе. И ты сударь, хорош!
Баранов, пока Василий отвечал, как бы успел раз и навсегда переоценить его и вынести свой приговор. Он чуть прищурил удивленные глаза, плотнее сомкнул губы и, отвернувшись, не сказал Василию ни слова.
— “Кончено!” — с тоской прозвучало в глубине сознания. И с этого момента показалось подлым даже то, что Баранов с ласковым вниманием наделил Онисима всем необходимым, подарил ему прекрасное ружье и дал всего гораздо больше, нежели необходимо одному. Василий понял, что Баранов хотел раздавить его своим сверхчеловеческим достоинством и благородством.
И отпустил их обоих с внешней ласковостью, как полагается большому человеку отпускать от себя маленьких, ненужных и, может быть, даже опасных слуг.
В этом поведении Баранова Василий, в первый раз за много лет, познал тягчайшее из унижений. Он сброшен с высоты, на которую попал случайно, по недосмотру стражей. Он разжалован в первобытное состояние, в мужики, уравнен с простодушным разболтавшимся Онисимом, обрадованным больше всего тем, что Баранов, сверх жалования и ружья, прибавил ему четвертную и подарил свои еще совсем хорошие брюки.
Василий покачивался около верблюда, сидя с правой тенистой его стороны в особой плетеной корзине, и полудремотно, беспорядочно припоминал подробности последних дней. Кроме неприятного воспоминания об этом расставании, в котором пренебрежение к Василию выказал даже Торцов и даже торцовский Петрович, — он невольно вспомнил, как во время спуска с Памира статистика Прибылева подшиб и сбросил с кручи мутный поток. Василий видел, как этот костлявый и длинноволосый человек повис на суку лежавшей поперек лесины, зацепившись карманом куртки. Как забавно хохотал Аркадий Нилыч при виде трепыхавшейся в мутной воде вдвое сложенной человеческой фигурки. Не будь этой лесины или не выдержи крепкий мужицкий холст кармана куртки, быть бы Прибылеву смолотым в песок в грозном водопаде.
И вообще невероятно, что каких-нибудь пять дней тому назад они могли погибнуть от мороза или в бурных водопадах — так было жарко и сухо здесь, на знойной и полупесчаной Кашгарской степи.
Багаж висел с противоположной стороны верблюда и был легче Василия, поэтому корзина перетягивала, и часто, очутившись возле грязного и потного брюха животного, Василий слышал неприятный запах и боялся, что упадет под ноги верблюда. Цепляясь за подпруги, он приподнимался вместе с корзиною, иногда садился на природное седло верблюда и все чаще оглядывался назад, на удалявшиеся высоты, маячившие в дымке сине-голубой резьбою, отчеканенной в широком тускловатом, знойном небе.
Оставшаяся в сердце червоточинка напоминала о разрыве с хорошими, в сущности, людьми, которые, конечно, все так и остались в убеждении, что Василий оказался подлым человеком.
Онисим сидел на втором верблюде верхом, обвешенный охотничьими сумками и узлами, среди которых был один с дорогими ярко-цветными индусскими тканями. Это был самый важный результат его путешествия с Барановым и самая большая радость его торгового таланта. Червоточина, сверлившая Василия, приобретала новый, еще более дурной придаток. Вспомнивши, как однажды Баранов стыдил Онисима за обман доверчивых индусов, Василий легко представил, как теперь статистик утешает Баранова по поводу избавления от “оборотистых сибирских мужичков”. Поэтому Василию неприятно было слушать непрерывную болтовню Онисима, который то отставал и говорил с Василием, то догонял проводника, сверкая стволами подаренного ему Барановым ружья.
Раздражали Василия и те господские словечки, которым Онисим научился у Ручеборова и которые часто портили его самобытное наречие.
Но вот Онисим неожиданно разболтался по тому же щекотливому вопросу, который беспокоил и Василия.
— Баба у меня больно аппетитная, брат ты мой... Два года ждет-ждет да, небось, возьмет и согрешит. А что ты с ней доспеешь? Кабы в карман можно положить да унести ее секретку-то... А то ведь не положишь и на ключ не замкнешь. Хи-хи-хи...
Василий вспомнил особый металлический прибор, который он видел где-то в одном из европейских музеев. В этот именно футляр рыцари, уезжая на ратные подвиги, замыкали сокровенные места своих супруг. Бывшая с Василием в музее жена отвернулась и с негодованием сказала:
— Какая гадость! Рыцари
!..Гоня от себя мысли о возможности измены собственной жены, Василий все-таки спросил Онисима:
— Ну, а если согрешила, как ты поступил бы?
У Онисима глаза сощурились, как у кота, которого хотят ударить по носу. Он поглядел куда-то в степь, почесал кнутовищем в реденькой бородке и ответил, обращая щупающий взгляд в глаза Василия:
— А надо, чтобы ничего не знать об этом... Ежели узнаешь, конечно, уж тогда прощай спокой.
— А ежели сомнение одолеет? — допытывался Василий.
Онисим уже перенес это сомнение на самого Василия и дружески посоветовал:
— А тогда надо глядеть: как она, баба твоя, поступила: от кокетства али в силу обстоятельств? Тут, брат ты мой, бывает — и рад бы в рай, да грехи не пускают...
И Онисим начал исповедовать Василия:
— А сам-то без нее, небось, имел какую-нибудь кралю?
— А ты? — прищурился Василий.
— Я-то? — ухмыльнулся мужик и, тихонько захихикавши, прибавил. — Ишь, не признаешься. На меня повернул...
— Да ведь про тебя разговор-то шел, про твою бабу!
— А я думал, про твою, — хихикнул Онисим. — Моя что? Моя чернорабочая. Ей не до того. А до работы моя баба — ох, и строга, прямо суспензория. Нет, моя, парень, ребенка растит, по четвертому годочку, Степка. Наверное, теперь уж, ух! — какой ориенталист, парнишка.
Он пожал плечами и пояснил:
— Это я третьеводни соврал, что у меня мал мала меньше. У меня только один... Степкой звать, Степан... Да.
— И у меня сыну скоро пять исполнится, — сказал Василий и почему-то глубоко вздохнул.
Ну, вот и у тебя, значит, растет наследство, — серьезно и успокаивающе закончил Онисим. Отвернувшись, он тоже призадумался:
— Н-да-а, жисть прожить — не поле перейти, говорится... Абсолютно верно сказано.
Раньше Василию казалось, что Онисим вставлял в свою речь господские словечки для веселья, для насмешки над непонятной ему книжной мудростью, но теперь он понял, что это искренняя, хоть и уродливая стремительность к образованности, которую Онисим понимал по-своему.
А Онисим между тем продолжал излагать перед Василием свою точку зрения на смысл жизни и науки.
— Кабы меня сызмальства просветили, я бы, может, тоже зачал проблемы исполнять. Кто есть Петр Григорьевич Ручеборов? Сын простого фельдфебеля, а новую породу земноводную открыл! Для нашего брата, мужика, все это ни к чему, конечно, а для гениальности науки — мировой шедевр и русскому царю почет со стороны даже республиканского французского прынца. И говорят даже, самый технический мост в Париже для всемирной августейшей встречи родителя его величества открыли — вот тебе и русский индивидугм!
Василий почувствовал острый личный стыд за всю эту Онисимову чушь, будто он все это сам сказал. И так как Онисим еще больше вдохновлялся, Василию даже неловко было остановить его. Он лишь успел спросить:
— Сколько тебе лет, Онисим?
— А скоро тридцать третий стукнет.
— Значит, мы одногодки.
А Онисим, занятый своими мыслями, продолжал с обидой и горячностью:
— У меня братишке двадцать семь, и он уже редактур печатного дела и собственный корреспондент газеты, а я едва-едва по-церковному читаю. Когда был на службе, то из-за грамоты и в старшие не произвели. Почитай што три года ефлетуром болтался. Только на четвертый в младшие произвели. Вот што значит — ирония природы. Конечно, в нашем роду тоже течет образованная кровь. Мой дедушка по матери был кантонист его величества императора Николая первого, а дядя, отца моего двоюродный брат, служит и сейчас горнозаводским штейгером. И сейчас одежу носит великатную и пензион получает шесть целковых в месяц.
Василий сердито перебил Онисима:
— А не для потехи ли учил тебя Ручеборов всем этим словам, Онисим?
— Чего это? — не поняв, переспросил Онисим, а потом загорячился снова.
— Помилуйте настолько, они мне даже часто на уроки задавали и заставляли вытвердить. Так что даже предлагали мне помощником швейцара поступить в музей в Московский.
— Потешались они над тобой со скуки!.. — уронил Василий и замолчал, нахмурив выцветшие брови.
Онисим посмотрел на Василия, опять сощурился и тоже замолчал. Потом сказал как бы с сомнением:
— Ну неужели такие они люди?.. Хотя, впрочем, действительно, веселые они господа! А выругаться любят просто даже, как мужик. Конечно, из простого звания. Может, и шутили надо мной.
Василий не ответил, взялся за подпруги и встал на ноги в корзине. Он оперся грудью на горячий и пушистый горб верблюда и снова стал смотреть назад, на удалявшиеся, почти призрачные горные высоты.
Что-то засосало у Василия под ложечкой. Может быть, голод, может быть, от укачивания зыбкою верблюжьей поступью, а, может быть, и то, что уходили от него все дальше и, конечно, навсегда все те места, где он с такой углубленностью, в таком разнообразии соприкасался с древним, вечно юным и расточительно-богатым миром восхитительных фантазий и откуда возвращался теперь все в ту же бестолковую Россию с миллионами Онисимов.
Беседа с Онисимом его вконец расстроила. Стало жаль недавних минут сближения с леденящей правдою природы, не оскверненной человеком, не опошленной его убогими словами. Стало стыдно перед покинутыми товарищами, которые сейчас все встали перед ним во всех подробностях, со всеми недостатками. Все эти недостатки так чрезмерно вырастают при каждодневном и долговременном общении с людьми и вдруг делаются пустяковыми, когда люди утрачены и, может быть, никогда с ними не встретишься.
Снова спустившись на дно своей корзины и закрывши глаза, Василий заставил себя думать обо всех, кого так вероломно бросил в пустыне и кому он, в сущности, теперь завидовал.
Но, как всегда это бывает, он не мог управлять думами. Они чередовались с разными нелепостями или заслонялись какой-либо внезапной мыслью, грандиозной и почти безумной, или же куда-то вовсе уплывали. И сознание Василия было поглощено только запахом верблюжьей шкуры или одинокой старой могилой, похожей на куб с опрокинутым на нем серым полушарием из древней глины. Или же, наконец, перед глазами на бесконечном горизонте подпрыгивали и торчали две головы: проводника — молчаливого, кривого Курабая, в полуоблезлой тюбетейке из засаленного бархата, вышитого полинявшим золотом, и Онисима, в серо-зеленой, смятой и надетой на ухо почтмейстерской фуражке.
В эти минуты Василий точно и отчетливо представлял всю сумму прошлых своих ощущений. Бесчисленные и чувствительные пластинки мозга восприняли и навсегда отпечатали на себе разнообразные явления жизни. Все они были в конечном счете необходимы лишь для самозащиты от бесчисленных врагов, а человек от скуки и безделья выдумал играть этими пластинками и создавать из них поэзию, фантастику, искусство красок, звуков, слов, науку...
За долгие годы скитаний по земле Василий весь стал сотканным из этих пластинок.
Вот одна из них, без очереди, без всякой связи с предыдущим и последующим, выпрыгнула и показала:
“Магомет был безграмотный человек”.
Василий намеренно не хотел управлять этим сбитым в кучу телеграфным шрифтом мозга. Пусть он покажет кунсткамеру своей бессмысленности без хозяина, которому так неудобно, жарко и тошно сидеть в корзине и дышать потом верблюда вместе с запахом степной полыни. И выскочила другая пластинка, а за нею третья, похожая. Она написала:
“Нет ничего прекраснее Таджской мечети в Агре, ибо она построена на прахе красивейшей из женщин Востока, жены мудрейшего повелителя правоверных...”
Нет, это не изречение, не текст какой-либо арабской или индийской книги, это только собственное воспоминание Василия.
А вот пластинка, похожая, нарисовала высочайшую в мире башню, наверху которой положил султан почившее тело своей возлюбленной и сказал: пусть она вечно любуется голубыми водами родимой Джумбы.
— Ах, вот к чему! — тихо рассмеялся, как во сне, Василий. — Они сами, мои мысли, находят основную тему. Любовь, любовь безграмотного Магомета превратилась в мудрейшую религию народов, и Любовь же величайших властелинов низвела их славу к праху женщины...
О, как мало дано человеку для выражения любви! А еще меньше дано для самой любви! И как малы и ничтожны все объекты для любви. Не потому ли сердце Василия, разбросанное кусочками по всему миру, все еще не знает, кого оно и что по-настоящему любило. Смешно сказать, какая малая частица любви сейчас ведет его к семье. Даже сын, в котором все будущее, мог бы, как бабочка, вспыхнуть в ее страшном пламени, если бы захотел по-настоящему любить Василий. Что же он мог полюбить? Кого? Женщину? Какую?.. Весь мир? За что?.. За то, что он многие тысячелетия венчает и развенчивает своих богов? Все мироздание?.. За что? За синюю холодную гробницу, в которой навек закованы бесчисленные миры?.. Что же и кого же? Себя?.. За что? За жалкую беспомощность управлять этими пластинками, вобравшими в себя так много и так бесконечно мало?
— Чем утолю голодную и жаждущую любовь свою? — глубоко вздохнул Василий и с болезненной отчетливостью ощутил себя среди пустыни, рядом с верблюдом и двумя людьми, полудикарями, которым никогда нельзя доверить или даже объяснить того сокровища, которое Василий в себе носит, как в сосуде, уже ровно тридцать и три года.
— Боже, Боже! Какое отчаяние, если Тебя в действительности нет! Какие мы несчастные сироты и как нужны хоть какие бы то ни было забавы: географии, археологии, ботаники, зоологии и прочие пытливые занятия, водящие нас по пустыням через тяжелые, преждевременно старящие нас испытания.
И представилась в эту минуту давно-давно им знаемая женщина — жена. Представилась в минуту ласки, в минуту самой сокровенной близости, и он знает, как, истосковавшийся по ней, он будет теперь проливать на нее весь переполнивший его экстаз любви. Но почему без радости он думает об этом, почему в нем запевает песню такая жалобная грусть?
Василий наконец-то овладел своими думами, и основной мотив их была грусть, и даже не грусть, а глубокая, запевшая в нем всеми песнями тоска.
Может быть, в такой вот тоске и в безмолвии пустыни и у Кон-Фуцзы родилась первая и основная истина о том, что в мироздании все заранее начертано и предопределено. Идеал человеческой мудрости не в создании новых ценностей, а в том, чтобы прочесть хотя бы малую долю того, что необходимо для постижения Сотворившего законы неба...
Как, по сравнению с этой истиною, невежественны все человеческие науки и религия. Даже Христианство и Буддизм — эти прекрасные религии только тем и сильны, что примиряют людей с оскорбительной покорностью.
Только в пустынной, полудремотной, вечной тишине, после стольких разнородных и многолетних дум и впечатлений могли прийти к Василию такие размышления, и, как он ни боролся против обобщений, они все же отпечатывались на его пластинках и дерзостно твердили:
— Не в наказание ли, не в месть ли миру древний, самый живучий еврейский народ выделил Христа? Не спровоцировал ли он на расстоянии тысячелетий идею всепрощающей любви только для того, чтобы в конце концов восторжествовал единый Бог Израиля?.. Жестокий, умный и карающий Единый Господин рабов земли!
И Василию представился внеземной божественный концерт, которым управлял старый Иегова. Над невообразимой какофонией разнородных и бесчисленных религиозных культов доминируют четыре основных враждующих между собой мотива. На тесно населенном Западе мощными строгими созвучиями возносится молитва воинствующего Католичества о справедливом распределении земных благ и о приспособлении человеческого разума к унизительным земным законам.
На Востоке тихо и дремотно крутит свои воющие цилиндры с заранее написанными бесконечными молитвами незлобивый, самобичующий Буддизм. Здесь все земное испытано, разгадано и презрено: только мудрое смирение и небытие прекрасны.
На Юге, вонзившись бесчисленными минаретами в небо, бескорыстно и наивно славословит Всемогущего преклоненный, скорбящий о целомудрии Ислам. Но он не может быть целомудренным, ибо самая южная природа вся соткана из знойных нитей страсти и любви, из сказочной неги и соблазнов. И южный Бог-аскет — одна пародия на непогрешимость.
На Севере же бессильные побороть суровую природу как христианские, так и языческие народы совершают вечную литургию покорности судьбе, ибо здесь они должны больше терпеть, нежели преодолевать. И особенно закованная в холода Россия в вечной борьбе своей со стихиями природы волей и неволей должна всегда молиться за врагов и супостатов!
А рассеянный по всему миру народ Израиля терпеливо подслушивает режущие его ухо звуки и ждет века и тысячелетия своего Мессии и жестокого возмездия за тысячелетние гонения его во всем мире.
Проводник резким пастушеским окриком остановил верблюдов и, слезая с седла, выкрикнул:
— Оготоно!.. Чуп бар-ма...
Онисим, разделяя радость проводника, крикнул Василию:
— Сенца Бог дал. Гляди-ка, в деревню сусличью приехали.
Василий, как после обморока, открыл глаза и посмотрел на степь. Он вылез из корзины и, разминая ноги, ходил, шатаясь по земле, осматривая целый городок из круглых кучек свежесобранного мелкого степного сена. Около каждой кучки была норка, и кое-где из норок поднимались живые серенькие столбики “оготоно”. Они с тревожным любопытством осматривали редких и, может быть, еще невиданных чудовищ и, мелькнув пушистыми хвостиками, исчезали в норках. Между тем верблюды в два-три хватка съедали их кропотливо собранные на целый год запасы и, разжевывая сено, гордо поднимали кверху головы и фыркали от удовольствия. Онисим же и проводник проворно бегали и собирали остальные кучки сена в дорожные мешки, радостно болтая о находке.
Василий грустно улыбался этому ничтожному примеру божественного попустительства беззаконию сильных.
Вокруг была холмистая, кремнисто-твердая, с тощими и низкорослыми кустиками терескена безводная земля, а пламенное солнце отбросило на землю темный крестик — тень орла, очевидно, хорошо знавшего этот городок из сусличьих жилищ. Люди помешали ему вовремя позавтракать, и он бросал им из-под неба клекот непримиримого небожителя, презирающего ползающих соперников.
Курабай свалил с плеч подпоясанный на нем халат и грязную рубашку и, до пояса голый, с болтающимися лохмотьями рукавами, весь потный и бронзово-блестящий, привязал мешок с сеном к вьюку, дал еще немного верблюдам и, бросив в сторону Василия дружественную улыбку, сел на землю, чтобы набрать в свои трепещущие ноздри темно-зеленой табачной пыли.
Онисим достал из сумки убитую вчера и зажаренную на костре куропатку, растерзал ее на три неравные части и, дав самую большую Василию, а самую маленькую проводнику, деловито перекрестился на Восток, сказав в эту секунду, будто пробормотав молитву:
— Ну, язвит ее, и жарища! — и мастерски рванул зубами птичье мясо так, что сразу в руке осталась только голая косточка. Он оглядел ее, швырнул в сторону и обратился к Василию:
— А помните, как мы ворон-то ели?.. Ведь вот пришлось же тогда натерпеться...
Но Василий в это время вспомнил про другое. Однажды в первое его путешествие по Монголии целая черная туча воронов жадно навалилась на караван экспедиции и начала живьем терзать верблюдов. Ни выстрелы, ни крики не могли укротить этой кошмарной хищности. Проводники монголы, считая воронов священной птицей, не смели убивать их и, разоривши цепь каравана на мелкие части, велели всем рассыпаться поодиночке по песчаным холмам. До глубокой ночи разрозненные члены экспедиции собирали старые коренья трав и терескена и помет диких лошадей, чтобы днем спасаться от новых нападений дымом.
Монголы говорили тогда, что такие случаи бывают в сто лет раз и предвещают великое несчастье всему миру.
И мысль Василия снова перепрыгнула на новое воспоминание. Астроном Аркадий Нилыч как-то показывал ему кривую повышения и падения солнечных протуберанцев. По его словам выходило, что в период грядущего десятилетия действие солнечных пятен, обращенных к земле, достигнет наивысшего напряжения и что на все органическое на Земле это должно отбросить особый нервный транс. Василий вспомнил при этом и лицо Аркадия Нилыча. Оно очень ласково и углубленно улыбалось, как бы простирая эту улыбку в запредельность, а мягкий тенорок, чуть-чуть поскрипывая, равнодушно цедил:
— Надо думать, что солнечная система вообще очень изощрена, и через несколько тысячелетий наша маленькая Земля начнет умирать. Собственно, во всей вселенной такие умирания происходят, надо думать, ежедневно, ежечасно.
Василий еще тогда, глядя на этого маленького, с полусогнутыми тоненькими ножками человека, подумал, что он сам как будто не с Земли, а перелетел для научных наблюдений с другой планеты и даже из какой-то другой, наиболее отдаленной, вселенской туманности.
Как и тогда, Василию теперь стало очень грустно, и яркий знойный свет и убаюкивающая теплота и вид далеких прозрачно-лиловых горных линий — все это показалось ему еще более родным и близким и органически чувствительным, как живое существо, которое когда-то, через какие-то тысячелетия умрет и навсегда оледенеет, навсегда повиснет в холоде бессмысленным трупом... О, бедная человеческая мысль, так далеко и жадно простирающаяся в запредельность! Найдешь ли ты где-либо приют или и ты умрешь и никогда, ни в каком углу вселенной не отзовется твое трогательное эхо?..
Василий снова закрыл глаза, как от усталости, и будто сорвался с Земли и полетел в бездонность и, улетая, чувствовал вместе с замиранием сердца, что никогда, нигде не встретит больше такой родной, такой прекрасной, такой ласковой планеты, как Земля. И не свою бренную жизнь, не жизнь своих современников, даже не жизнь всех величайших в земном мире и во все века: бывших или будущих великих императоров или мудрецов, ваятелей, поэтов или музыкантов — безумно жаль ему, а именно корявой и по-звериному мохнатой или по-змеиному холодной и ядовитой — цепкой земной коры, с ее лесами, травами, букашками, с ее тучами голодных воронов, с ее полураздетыми и потными текинцами, с ее всем тем действительным, физически неоспоримым, что вчера или когда-нибудь существовало... И будет прекрасным даже то, что вот Земля умрет и понесется по пространству мертвой глыбой, а на ней все-таки где-то подо льдом или под пеплом будет вечно и нетленно оставаться и след Адама на каменных вершинах над пучиною Индийского океана, и бесчисленные письмена в усыпальницах Египта, и истертая за тысячи лет поцелуями молящихся грязно-бурая Кааба в Мекке! И идолы Китая, и изваяния Греции и Рима, и чудеса архитектуры, и саркофаги императоров — все это, как след какой-то бывшей мимолетной сказки, понесся по своей черте в пространстве. К вечному забвению, к небытию!.. Пусть так... Пусть это даже без следа исчезнет и сотрется в пыль, но оно было, оно сделало своим существованием какой-то знак во вселенской летописи, отметило в бесконечности дату своего разумного бытия! И это так значительно и важно!
— Но для чего? Во имя чего? По чьей воле?.. — Василий произнес эти слова резким голосом.
Стоящий поодаль Онисим шагнул к нему и переспросил:
— Чего изволите?
И увидев, что Василий еще не притронулся к своему завтраку, догадался.
— Вам сухарик? Соли?
Василий, как спросонья, посмотрел на Онисима, потом на кусок куропатки и улыбнулся так, будто ему только что вернули отнятую жизнь со всею мелочью: с поджаренной на костре дичью, с корзиною вместо седла, с Онисимом и верблюдами и со всей этой пустыней, мудро дремлющей и грозящей извечными вселенскими снами.
Он взял соли и горсть ржаных сухарей и начал есть, чувствуя, что ест с необычайной жадностью и что в это время его мозг, перегруженный неисчислимыми пластинками всего когда-либо виденного, слышанного или созданного только мыслью, захлопнулся, и только зубы с удовольствием терзали мясо и жевали его, а глаза рассеянно блуждали по серой, покрытой редкою душистою полынкою земле.
Когда он съел мясо и сухари, то даже икнул, как самый подлинный дикарь, и извинил это себе, потому что нечем было запить. Затем он деловито вытер рукавом рубашки губы, бороду и пот с лица и строго приказал:
— Ну, пошел-пошел, ребята, дальше!
И сверил с солнышком свои стальные, с потертой и проржавленной крышкою часы.
Однако, как только пошел верблюд и корзина снова закачалась, Василий опять закрыл глаза, и снова, без порядка и без связи стали возникать и гаснуть в нем пестрые, далекие, мудрые и глупые бесчисленные воспоминания и картины. Он раздражался на себя за неумение ими овладеть, но понимал одно, что медленно и грустно спускается с вселенской высоты, откуда он увидел жизнь как многообразный всечеловеческий концерт. Со всех концов земного шара несется разноголосая, но все одна и та же тоскливая песнь-мольба о каком-то далеком и неведомом, покинувшем мир Боге, которому так же мало нужды быть похожим на людей и слушать их прошения, как и человеку до судьбы песчинок, уносимых бурею по пустыне...
А путь был длинен, утомителен и скучен. И потому думы были все одни и те же. По мере приближения к родине Василий все острее чувствовал в себе эти два начала: гордые взлеты фантастики и робкую привязанность к земле. По временам мысли принимали даже некоторую сухость и будничную озабоченность. Волновала предстоящая встреча с женою. Тревожила судьба ребенка. С беспощадными подробностями раскрывалось прошлое, и с новой болью вспоминалось, что жена его была женою брата и что, кроме сына, у нее есть дочь, родившаяся от его брата Викула. Никогда еще, вспоминая о жене и детях, он не
думал о девочке с такой отчетливостью, как теперь, перед предстоящей встречей.И, как главную заботу, стал обдумывать план будущего своего отчетного доклада.
Но что нового может сказать Василий, ознакомившись с деталями древнейших языческих и мусульманских религиозных культов? Ведь сам же он сказал Баранову, что прежде чем дать что-то новое и целостное, надо самому во что-нибудь поверить. Верит ли во что-нибудь Василий?
Может быть, возле семьи, в уединении лесов и гор, придут необходимые слова и мысли, и собранный материал не будет выпирать из головы такой сумбурной и противоречивой стихией. Но удастся ли там, где его ждет, быть может, будничный и непрерывный недосуг, выдвинуть и отточить основную мысль доклада так, чтобы, если она окажется слишком острой и опасной и покажется еретичеством в литературе или возбудит против себя вражду, — чтобы хватило силы защитить ее или с честью за нее погибнуть.
— Да, да, да. Всякая новая мысль прежде всего не нова и всегда враждебна людям, и обнажение ее всегда рискованно для автора. Он должен твердо знать, что может или победить, или погибнуть. Но вялой, блеклой, рыхлой середины здесь не может быть. Только или блеск разительной остроты и силы, или молчание...
Василий сам еще не знал, вернее сказать, не исповедовал перед собой души своей и мысленно вышучивал себя за столь торжественную подготовку.
Он твердо знал только одно, что готов на жертвенность во имя Божие, то есть во имя откровения какого-то неоспоримого всечеловеческого блага. Надо отыскать в своей душе истинное плодородное зерно идеи новой или давно позабытой, но именно всечеловеческой. Он предчувствовал, что в нем складывалось что-то как бы само собою, по воле вне его ума лежащей силы. Его душа, напитанная впечатлениями Востока, сама с особой чуткостью улавливала главное, что, как семя, будучи бесконечно малым, дает мудрый и искомый плод.
— Да что же я, магометанство новое собираюсь открыть, что ли? — смеялся над собой Василий одним краем души, а другим опирался на нечто такое, что, может быть, действительно надо бросить миру как откровение, как новую религию.
Он знал, что откровение это явится во всей ясности и в свое время, в процессе мышления, быть может, за листом бумаги. А может быть, где-либо при трубных звуках маральих песен в горах. Или в рисунке облаков на небе. Или в тишине мерцания далеких звезд. Где-либо на мхах альпийской высоты. Или же при взгляде в чистые глаза ребенка.
И опять встал собственный ребенок, снова прервалась нить идущей и хрупкой мысли, и личное, простое любопытство к сыну — каким он стал за эти годы — низвело Василия до тех же будничных забот о всей семье, о старушке матери, о братьях, о всех тех болях, радостях и обидах, которые так глубоко засели в нем с тех пор, как он покинул родину.
А тут еще мешал Онисим. Дергая поводом, продернутым одним концом в ноздрю верблюда, он поравнялся с Василием и показал на отдаленный ряд курганов, уходящих по равнине длинной цепью с севера на юг.
— Вот раскопать бы их до дна, как следно быть... Добыча в них богатая нашлась бы!..
— Да ведь наверняка раскопаны.
— Здесь-то?.. Кто их мог тут тронуть?
— Хищники и воры родились, брат, прежде всех времен! — резко сказал Василий.
И Онисим принял это как закон и даже от себя прибавил:
— Дак, а иначе как жить-то? У одного много, а у другого нет ничего. А они в курганы-то еще и на тот свет зачем-то брали зерно да золото. Небось, ведь Бог-то на небо не принял: тут же и лежат в земле...
А Василий продолжал свое:
— Да, живые мертвых даром не поминают. Да и не следует поминать мертвых, если они после себя ничего не оставили живущим.
И про себя еще дополнил:
“В этом, может быть, и заключается вся сладостная грусть наших рукотворных и нерукотворных памятников о себе”...
А зыбкая поступь верблюда все укачивала и будила беспокойный мозг Василия, рождая, умножая и видоизменяя в нем пытливые вопросы все о том же, еще не родившемся, но уже зачатом в душе его новом вещем слове. Но всякий раз какая-либо внешняя, слишком будничная и земная мелочь вспугивала его мысли, путала их углубленный бред и пробуждала к прозаическому созерцанию ровной, серой, почти бесплодной равнины и этих двух голов: острой, бритой — дикаря-киргиза и волосатой и тупой — широколицего Онисима. И до усталости зрения, до боли в голове Василий снова плавал в хаосе образов и размышлений. Он пытался ничего не думать, но это удавалось ему лишь в прохладе ночного привала, когда он пригвожден был к теплой и твердой земле усталым сном, сладким, как любовь, и властным, как смерть. Радостно было лежать пластом и все забыть, слиться с небытием. Но Онисим и киргиз снова поднимали его, помогали сесть в корзину и, неутомимые в своей стремительности к северу, снова везли его куда-то в молчаливую степную темноту.
И тут уже по-новому, по ночному грезил мозг, и качалось над головою небо, все усеянное светлыми мирами, и казался путь Василия извечным среди этих звезд, и думы его в это время не имели ни начала, ни конца, сплетая пестрые и многоцветные узоры из того, что видел он и слышал и о чем когда-либо грезил во сне или мечтах. И чаще всего в этих грезах видел он себя малюткой в красной рубашке на руках сестры — подростка Анны. Она держала его перед матерью, румяной и нарядной, в пышной головной повязке из тяжелой кашемировой шали, в сине-зеленом сарафане. Мать же подавала ему маленький зеленый катышок, и в катышке этом играли радугой свежеокрашенные двери хоромины, и темно-зеленые вершины гор, и солнышко, плывущее по небу, так похожее на крышку высветленного медного рукомойника — такое оно было маленькое и веселое, — и был в тот день весь мир для него как будто только что купленный на ярмарке, как и этот катышок стеклянный, привезенный матерью из далекой и неведомой Лосихи...
Помнит он, что была тогда весна, шумела мутная река, кудахтали крикливые куры, играли большенькие ребятишки красными яичками на мураве-траве возле ворот, на улице... И были на воротах, для красы, светлые ряды из жестяных пластинок, приколоченных гвоздиками, и эти-то пластинки на воротах после и всегда вспоминались ему, когда он видел звезды...
И снова грусть, как сладостная музыка, баюкала Василия, и снова проникали мысли его в беспредельность. И видел синюю холодную бездонность, в которой похоронены все эти светлые, так молчаливо и покорно горящие во тьме или сверкающие погребальными покровами миры Вселенной.
— Милая, родная земля!.. Умрешь ты! Застынешь навсегда. И будешь грустной, тихой звездочкой мерцать в тиши ночной... Кому?.. Кому?..
Василий шептал и чувствовал, как в глазах его играют теплые слезинки, а в слезинках путаются и дрожат, как будто падают с небес, все звезды. И в эту минуту перед ним вставали чьи-то нежно-жалостливые, прекрасные глаза, давно знакомые. Чьи?.. Матери, сестры или жены?.. Где видел он их так часто?.. Где?.. Во сне или в мечтах?..
О, как хотел он в этот миг видеть их возле себя живыми, наяву, смотреть в них, как в небо, упиваться красотой их лучистой ясности, как звездами, и любить их, эти женские глаза, самой слезною, самой прощальною любовью, любовью обреченных к смерти...
— А знаете, Василий Фирсыч? — громко, по-ночному, закричал подъехавший Онисим. — Ежели не врет Курабайка, то завтра будто к вечеру мы придем уже в пункты.
— В какие пункты?
— Ну, в населенные, в факторию одну монгольскую, как говорится, география по карте.
Василия это известие вдруг опечалило. Значит, скоро кончится одинокое и напряженное раздумье в пустыне!..
— Ну, что же? — произнес Василий. — Хорошо бы отдохнуть немного... — и он зевнул с истомой усталого, но полного земных желаний тела.