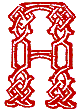 вгуст золотой поступью настойчиво прогуливался по горам и жирной кистью разукрашивал косогоры и поляны, берега реки и мелкие кустарники в лугах.
вгуст золотой поступью настойчиво прогуливался по горам и жирной кистью разукрашивал косогоры и поляны, берега реки и мелкие кустарники в лугах.
Г. Д. Гребенщиков
БРАТЬЯ ЧУРАЕВЫ
ЧАСТЬ III
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
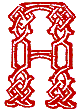 вгуст золотой поступью настойчиво прогуливался по горам и жирной кистью разукрашивал косогоры и поляны, берега реки и мелкие кустарники в лугах.
вгуст золотой поступью настойчиво прогуливался по горам и жирной кистью разукрашивал косогоры и поляны, берега реки и мелкие кустарники в лугах.
Все чаще стали раздаваться любовные песни маралов. Через горы перекинулись первые станицы журавлей, высматривая дальний путь.
Василий явно заскучал в родном гнезде.
Много нелепого скопилось у него в душе. Нелепее всего было смутное, но непреодолимое влечение к Наденьке, а между тем от Наденьки он все время бежал, стараясь не встречаться с ней, не разговаривать и даже не глядеть в верхний этаж, откуда - он это знал и чувствовал - она искала и звала его затосковавшими глазами, несмотря на то, что Викул ревновал, следил за нею и мучился.
Надо было как-нибудь решать задачу: что же будет дальше?
Не о себе Василий беспокоился и думал, и даже не о Наденьке, хотя она тоскливой струной звучала в его сердце дни и ночи... Надо было найти выход для себя, для Наденьки, для брата Викула, для сестры Груни и для всего чураевского дома, попавшего в какой-то крепкий узел из противоречий... Нельзя было только уйти из дома и успокоиться. Кроме того, тревожило и волновало самое главное - совесть... Та большая совесть, которая впервые шевельнулась еще там, на кладбище былых московских преступлений.
А тут еще это личное, волнующее, тайное, почти преступное, преследовавшее его с того солнечного полудня на берегу реки, когда он увидел, как воплощение земного божества, прекрасное и полное одуряющих чар женское тело.
Много накопилось у Василия в душе. Так много, что ему казалось, он не может долее носить все это в себе, и вот-вот прольет, как огромный, могущий все затопить поток горящей лавы, и тогда все то, во что он верил и к чему стремился, сразу вспыхнет пламенем и рухнет и нелепо похоронит под развалинами всех без разбора.
Надо было найти выход. Надо было мучительно подумать и не поддаваться окружавшим его темным призракам.
И вот Василий захотел уединиться.
В один из погожих дней он оседлал коня, взял винтовку и припасы и, к удивлению Наденьки, переоделся в самое плохое мужицкое платье и уехал в верховья реки на неопределенный срок.
Как только он проехал крутой обрыв, на котором в первую ночь по приезде столкнулся с горем Груни, у него непривычно закружилась голова при взгляде вниз, где в каменной постели бешено металась бирюзовая река.
Вихрем закружились над ним мысли, похожие на те желтые и оранжевые листья берез и осин, которые медленно и беспорядочно срывались с увядающих деревьев и летели, летели вниз, как обрезки золотой парчи.
Напрасно он хотел их привести в порядок и построить мост для перехода через зияющую пропасть, которая открылась перед ним.
Он видел одно, что к своей цели, давно для него ясной и заманчиво красивой, он идет не прямой дорогой, а какими-то уступами и закоулками. Так же, как эта узкая тропинка, ползущая по отвесному скалистому карнизу, путь его висит над пропастью, и неизвестно, что ждет его впереди, какие там стоят еще препятствия и искушения, какие заклятые пути-дороги.
Кроме того, он презирал себя за то, что слишком много приобрел в Москве рассудочного, книжного, интеллигентского, всего того, что ограничило его порывы, притупило искренность. Он стал похож на хорошо воспитанного юношу, в котором недостаточно тверды моральные устои. И он нередко в минуты угрызения совести скрежетал зубами и мысленно кричал себе с презреньем:
“Худосочный белоручка!.. Слизняк!”
Еще в Москве он как-то с плохо скрытой сектантской яростью заспорил с Никитиным, забрасывая его дерзкими словами:
- Не могу я выносить этих ваших честнейших публицистов!.. Это какие-то все жалкие оплешивевшие младенцы. В статьях своих скучнейшие, а в жизни - циники и лицемеры. И молодежь ваша, обсахаренная, ленива и тупа, и потому так часто со студенческой скамьи она хватается за теплые доходные места и за розгу.
Теперь наедине с природой Василий был трезвее и спокойнее, и все-таки, вспоминая удивительно корректные, великодушные слова Никитина о неумолимости исторических законов, проворчал, сердито натягивая повод лошади:
- Ах, уж это мне благовоспитанное рабство!
Дорожка стала извиваться густым лесом. Солнце никогда не проникало сюда, в тени тропинка была грязная, с глубокими наполненными водой ямками, в которых засасывались копыта, и лошадь шла с трудом, скользя и запинаясь за обнаженные корни пихт. Местами иглистые ветви били по лицу Василия, и ему казалось, что это бьет его мохнатой звериной лапой сама природа.
Кода же выезжал он из прохладной и сырой тени густого леса и снова видел темно-зеленые, золотистые, пунцовые, лиловые и пегие участки беспорядочно нагроможденной горной панорамы, залитой ярким солнцем августа, ему хотелось петь всей грудью какую-нибудь сильную, простую песню. И снова вспомнилась Наденька.
- Удивительная женщина!.. - повторял он тихо и с глубоким вздохом и, промолчав, не то с ехидством, не то с горечью прибавил громко, - Искательница приключений!..
- Путем тебе дорожкой!.. - раздалось позади Василия суровое приветствие...
Василий оглянулся. За ним, почти у хвоста его лошади, шел человек с винтовкой и мешком через плечо, очевидно, только что вышедший из густого леса. Из черной широкой бороды сверкали белые зубы, обнаженные насмешливой улыбкой, а из тени надвинутой на брови войлочной шляпы смотрели пытливые и острые глаза.
- Откуда, кто такой? - не дожидаясь ответа, спросил охотник.
- Божий! - уклончиво и неприветливо ответил Василий.
- Вижу, што божий, обшитый кожей! - сурово отозвался человек, - Да по обличию-то, видать, не нашенский... Чей ты?..
Василий знал об этих людях много жуткого и все-таки не уступал:
- Ты сперва скажись!..
- А у тебя шапка не свалится?
- Что такое?
- Глаза у те не выскочат на лоб?
- Что ты за богатырь такой? - вызывающе остановился Василий.
- Богатырь не богатырь, а залетной птицей не побрезгуем!.. Про Мясника Еремку не слыхал?.. Чего за винтовку-то хватился? Испужался!
Василий почувствовал, что голос у него осекся, и язык не двигался, как в тяжелом сне.
А Мясник схватил его за ногу выше колена и протянул с презрительной усмешкой:
- Ху-у, какой жиденький! Покурить найдется? - вдруг спросил он с искривленной усмешкой.
Василий выпустил из груди воздух и сказал негромко:
- Не курю.
- Ну, может, што перекусить достанешь? - и Еремка хлопнул заскорузлой рукой по кожаному вьюку Василия.
- Давай, сворачивай туда вон, под лесину! - приказал Еремка и уверенный, что Василий не ослушается, пошел впереди в густой лесок.
Василий ехал за ним, чувствуя, что цепенеет, но все-таки сурово хмурился и не высказывал боязни.
Еремка сам развьючил сумы, снял их с лошади и, сбросив свой мешок, винтовку и серый арестантского сукна заплатанный зипун, сел под пихту и скомандовал, оскалив зубы:
- Ну, угощай! И терпеливо стал ждать, пока Василий достанет куски жареной говядины, соль, хлеб и туесочек с медом.
Когда Василий подал ему мясо, он по-звериному рванул его и, блуждая глазами по сторонам, стал жадно есть, глотая не дожеванные куски и не произнося ни слова.
Не знал Василий, за что был сослан на каторгу Еремка, но еще в детстве слышал, что Мясником его прозвали за многократные убийства, и Прасковья Филатьевна не раз пугала маленькую Груню: Вот он, Еремка-то, сейчас придет”, - и украдкой барабанила по стенке пальцами, будто Еремка уже стучится, желая взять и съесть прижавшуюся в угол Грунюшку.
Василий подкладывал куски Еремке, молчал, ловил его короткие увертливые взгляды и изредка посматривал на свою лошадь, оседланную дорогим седлом, обложенным чешуйчатым китайским серебром.
Вдруг острый взгляд Еремки впился в его седло, а челюсти перестали жевать. Потом Еремка пристально уперся в лицо Василия и с переполненным едой ртом хрипло спросил:
- Да ты Фирса сын?
- Фирса Платоныча!.. - поправил Василий, напоминая о непочтительности бродяги.
- Хым!.. Еще Платоныча! - передразнил Еремка и, давясь непрожеванной пищей, глотнул ее, как селезень глотает круглое зерно, и ткнул по направлению к седлу куском хлеба, - Седло-то мы с Анашкой вместе добывали.
Василий вопросительно глядел на волосатое четырехугольное лицо Еремки и вспомнил о крепком, с железной дверью, амбаре, в котором у Анания лежат еще более дорогие седла.
А Еремка еще раз посмотрел на седло и вдруг заерзал по траве, как бы желая поплотнее опереться на землю.
- Анашке-то бы тоже надо сгнить в остроге... Вывернулся!.. Откупился! - и Еремка ехидно пошарил по лицу Василия своими проросшими красными жилками глазами.
- Как это так? - не выдерживая взгляда Мясника, слабо спросил Василий и часто заморгал, как маленький попавшийся воришка.
- А так! - давнул Еремка голосом и взглядом и, отвернувшись, снова стал жевать уже лениво и сосредоточено.
У Василия пошли зеленые, и желтые, и красные круги перед глазами, а от усилия воли над собой зазвенело в ушах, и всегда нежное и румяное лицо Василия стало багровым, почти синим.
Наконец он быстро передернул плечами, как бы стряхивая с себя кошмарный сон, и потянулся за винтовкой.
- Не балуй! - самоуверенно, спокойно проговорил Еремка, и потому, что он не шевелился с места, не готовился к защите, Василий окончательно потерял волю.
- Досказывай... все... - глухо попросил Василий, опускаясь на землю.
- Чего досказывать-то?.. - презрительно сказал Еремка, - Не на одном иноверце с ним винтовки-то пристреливали!.. Да не в том обида! - опять заерзал Еремка, - А в том, что я вот, как медведь, четвертый год брожу по Камню, места не найду... Да в каторге семь лет провел!
.. А он в воде сухой, маралов расплодил! Дом новый выстроил!.. К Бо-огу живым на небо лезет!..Еремка закрепил свои слова тяжелой скверной руганью и, придвинув к себе туесочек, стал медленно тянуть прямо через край загустевший крепкий мед.
Василий сквозь туман догадок видел ясно и отчетливо одно, что каторжник не лжет. Напротив, видно было, что Еремка многого не договаривает. В черных лохматых волосах Еремки серебрилась седина. Еремке давно за сорок. Еремке не до оправданий, не до клеветы. Ярмо преступника
въелось в его душу тяжелыми веригами, через могучие плечи проржавело до самого утра. Как старый волк, бежавший из капкана с переломанным хребтом, он все-таки прибрел в родные дебри, чтобы издохнуть поблизости от той норы, возле которой он видал свои нехитрые утехи...Еремка, выпив меду и не утирая усов, лег на спину в тени пихты и глухо крякнул, как будто застонал...
Василию теперь он показался обессиленным, безвредным. Он подождал немного, придвинулся к Еремке и, забыв об оскорбительных словах, тихим голосом спросил укрощенного едой злодея:
- Скажи, а совесть мучает тебя когда-нибудь?
Еремка не ответил. Казалось, что он спал, ровно дыша сквозившим через дырявую холщовую рубаху чирьеватым животом.
- Совесть - ты сказал?.. - вдруг подскочил Еремка, как будто вопрос Василия прожег его до сердца не сразу, а спустя две-три минуты, - Нет, ты сперва скажи мне, какая она, совесть? Как так она других не мучает? Вон Данилко Анкудинов со мной убил кожевника Авдея Савватеича... Старуху-то всю ночь душил в подполье, все
денег домогался... А как показала, где корчага, убил да пятки ей ножом истыкал... А теперь веру новую, слыхал, открыл, богородицу свою зовет!.. Где совесть-то? Аль вправду он всю ее сожрал, когда старухе Авдеевой, убитой, с пяток кровь слизывал?Василий наклонился к Мяснику и бледный, неподвижный, спрашивал глухим, потускшим голосом:
- Пятки?.. Языком?.. Зачем?!
- Штобы не блазнила!.. Штоб совесть эту самую сглотнуть!.. - авторитетно, и как бы между прочим, объяснил Еремка и продолжал, еще сильней повысив хриплый страшный голос, - А твой-то батюшка святой?.. Из-за кого моя мать с утеса в реку бросилась?.. Из-за кого?! Кто ей ребенка прижил да покинул?
Еремка кинулся к Василию с ножами вместо глаз, и у Василия совсем поблекло небо, горы, лес... Лицо Василия мучительно задергалось, отцветшие белесые брови ощетинились, а редкую клокастую бородку он с силой дергал и все-таки не мог прийти в себя, не мог проснуться от кошмарного, чудовищного сна.
Он понял наконец, что завершился темный круг его догадок и стягивался вокруг мертвой петлей. И не было из него выхода. Не было просвета.
Вот оно как все оказалось просто: матерью Еремки была та самая бросившаяся с утеса Оксюта, вслед за которой на днях хотела броситься Грунюшка... А этот каторжник, Еремка кровавый, страшный душегуб, не кто иной, как самый старший брат его, законнорожденного Василия Чураева. все спуталось, переплелось, поймало душу Василия, как маленькую птичку в сети, и бросило под пяту беспощадной истины.
Еремка чувствовал, что вышиб ум у меньшака Чураева, глотнул еще пьяного меда и растянулся на траве, снова равнодушный ко всему, что будет завтра, через месяц или через годы...
Василий тоже лег и долго не хотел открывать глаз и посмотреть на небо с тихо плывущими по нему барашковыми облаками, как будто задевавшими верхушки неподвижных пихт.
Так лежали они оба, немые, разные, по-разному живущие и думающие, но взятые от одного семени и снова брошенные ветром жизни, как плевелы бесплодные, в родную ниву - рядом.
“Брат?.. Да, брат!” - в полубреду или дремоте думал Василий и вдруг услышал тяжелый и могучий храп Еремки. Услышал, и вздрогнул, и в неуловимо короткий миг много-много передумал, - “Нет, он не брат, он враг мне, он преступник. Он меня теперь, как предателя, должен опасаться. Нет, он убьет, он не даст мне уйти.
И обожгло Василия одно горячее желание, казавшееся несбыточным и светлым, как никогда еще не испытанное счастье: “Бежать!”
Но не один мускул не повиновался, Василию казалось, что он пошевелится, Мясник проснется и убьет его одним коротким неумолимо злым движением. Василию казалось даже, что Еремка все равно должен проснуться от своего громкого храпа.
“Все равно проснется и убьет!..” - отчаянно и жалко билась мысль Василия и робко, страстно требовала: “Жить! Жить!.. Бежать!...”
Василий как лежал, так и подался всем телом вниз под косогор, с подвернутым под туловище подолом зипуна, сжимая в одной руке винтовку, а в другой ненужный сухой березовый сучок.
Вот он сполз на тропинку и, радуясь, что бросил лошадь, на которой трудно спрятаться в горах, скользнул с тропинки вниз и затрещал в долину прямо через заросли густых кустарников, как перепуганный медведь.
Потом он затянулся, как лисица, в самое глухое, дикое и жуткое убежище среди прибрежных скал, в пахучий вереск и залег, казалось, на всю жизнь без памяти, без стыда за трусость и без всяких дум, как труп.
Закатилось солнце. Посинели, потемнели горы. Отчетливее снизу доносился несмолкаемый, вечный спор воды с камнями. Надвинулась на землю ночь. Раскинулось над нею небо, обрызганное звездами, мерцающими тихо и спокойно, и только тут, далеко за полночь, к Василию пришла первая законченная мысль: “Ах, звезды, звезды. Безопасно там, у вас, или и вас населяют звери и страшные преследующие друг друга люди?”
Теперь он успокоился, но не потому, что опасность миновала, а потому, что успел привыкнуть к ней и даже как будто переступил какую-то грань, за которой жажда жизни потеряла остроту и ценность.
Он лежал не шевелясь, на спине, как распятый на камнях, в густом вереске, как в надгробных венках, и совсем не думал о завтрашнем дне и о том, куда пойдет, что будет делать и как жить.
Так лежащим неподвижно и покорно на спине и овладел им крепкий, все загородивший мягкими прохладными крылами сон.
Над горами реял предосенний ветер, поглаживал плешивые высоты гор, проваливался в долины и ущелья и, путаясь в лесах и скалах, вздыхал раздумчиво, как загрустивший над землею Бог.
Холодное безмолвие околдовало горы, припало чутким ухом к каменной груди прибрежных скал и вместе с тьмою ночи слушал одну неумолкаемую повесть бегущей в далекий путь речной воды.
О чем говорит эта прозрачная альпийская вода? О чем она поет, о чем без умолку, часы и дни и годы торопится мимоходом рассказать прибрежным скалам и безмолвным камням, устлавшим ее путь? Здоровается или прощается с ними, или делится радостью, что побежала к морю, или тоскует, что рассталась с белоснежной высотой ледников? Или рассказывает все, что видела и слышала, странствуя по небу на легких крыльях облаков, или в узорчатых кружевах снежинок? А не расскажет ли там зыбучей морской волне о том, что мимоходом видела в верховьях рек, у маленьких новорожденных их источников, как грустная и бледная подвижница черничка, поморского толку, по имени Ненила, приходит рано поутру к ручью и, роняя слезы из больших печальных глаз, наказывает им:
Плывите, слезы, плывите горькие.
Несите горе мое, несите тяжкое
Ко тому ли морю синему,
Ко тому ли берегу родимому...
Не расскажет ли кристальная новорожденная вода, что темной ночью к берегу реки подводил и напоил богато убранную лошадь оборванный бродяга и, обнявшись с нею, плакал, как обиженное малое дитя?..
Расскажет ли бирюзовая дочь синих гор, что на прибрежном утесе в ползучем вереске лежит без дум и без сознания, объятый сонным оцепенением юный человек, еще недавно полный сил, как чаша, наполненная искрящимся драгоценным вином, как золотая крабица с самоцветными волшебными каменьями, как клетка, переполненная рвущимися во все дальние цветущие края земли жар-птицами, знающими и о дне морском и о надзвездных царствах?!
Ах, не расскажет, не споет болтливая беспечная струя ни о бледной и больной черничке, ни о плачущем бродяге, ни о юном человеке, ни о том, что он, как зверь от зверя, спрятался то брата и лежит теперь бесчувственным живым комком, завернутым в лохмотья.
Не расскажет, нет!
И хорошо, что не расскажет!..
Стыдливо выдвигало из-за синих гор ясное и непорочное чело свое оранжевое утро. Как будто не хотело захватить врасплох беспомощность и слабость человека и впереди себя послало предутренний холодный леденящий ветер. Он поскакал с горы на гору, спрыгнул в глубину ущелий, зашуршал вершинами пихт, берез, кустарников, стряхнул с пахучих веток вереска серебряную пыль инея и бросил ее в бледное, худое, грустное лицо Василия.
Василий медленно открыл глаза и, чувствуя, что не в силах двинуть ни одним мускулом, не мог сразу понять: где он, и почему так страшно холодно. Или, может быть, он умер и лежит в могиле?
И взгляд его совсем нечаянно нащупал в темно-синей высоте медленными кругами плавающего орла. Там, где он парил, уже поблескивало, должно быть, на перьях птицы, утреннее солнце, и Василию вдруг показалось, что орел следит за ним, Василием, как за своей добычей.
Он с трудом приподнялся, упрямо преодолевая слабость и охватывая памятью все, что пережил за эту ночь.
И задрожал, как в лихорадке, чувствуя, как затекла спина, и не слушаются одеревеневшие руки и ноги.
Стараясь согреться, он растирал руки и ноги и, сгорбленный, осунувшийся, бледно-синий, печальными глазами осматривался вокруг, как бы жалуясь:
“Вот как встретила ты меня, мать-природа!”
Потом он вдруг нахмурился, встал на ноги, поспешно взял винтовку и зашагал по каменным ступеням вниз, к реке. Кровь скоро разогрелась в нем, он освежил лицо водой и опять порозовевший, бодрый, не боясь внезапной встречи с Мясником, пошел вверх, без дороги, берегом, не зная куда и не думая зачем.
Шел он рассеянно и не спеша, укладывая в душе новые сложные вопросы и догадки и примиряя их с той неизбежностью, которая притупила в нем горячую и задорную самоуверенность. Но вместе с тем, где-то далеко, как бы за пределами сознания, намечался путь к тому неведомому выходу, за которым есть-таки успокоение для мятущейся и протестующей души.
“Как это странно!” - грустно размышлял Василий, - “Когда я думаю о том, что уйду из жизни сам по доброй воле - смерть мне кажется прекрасной. Почему же так унизил я себя вчера, позорно испугавшись смерти?..”
Потом он окинул любовным взглядом уже согретые лучами солнца горы и примирено согласился сам с собой:
“Да, это хорошо, что человек всегда, свободно может распрощаться с жизнью
”.Но вдруг его опять кольнула мысль, нечаянно и больно: “А Наденька?..”
Василий зашагал быстро, прыгая с камня на камень, как бы убегая от своих дум и наконец бессильный убежать от них, остановился над преградившей его путь водой у каменного яра и простонал:
“Господи, зачем ты дал мне ум и сердце?..”
Потом он поднялся на яр и оттуда увидал перед собой в уютном горном уголке, в долине шумной небольшой речки, совсем новую маленькую часовенку.
По берегу к ней шла тропинка, и Василий, чувствуя голод, обрадовался, что пришел в жилое место.
Но часовенка была закрыта и пуста, а от нее вилась тропинка вдоль по косогору в темный перелесок, сквозь который скоро запестрел раскрашенным крылечком новый домик с двускатной крышей.
За домиком на открытой, ровной полянке, разбрелись ульи, и как старый гриб стоял омшаник с черной впадиной двери.
Василий постоял, ожидая, что кто-нибудь его заметит, но никто не выходил ему навстречу. Только старая собака, забившись под крыльцо, поблескивала огоньками глаз и хрипло лаяла давно изжитым голосом.
Откуда-то из-под горы, как будто с берега реки, послышался еще собачий лай, но звонкий, молодой и целым хором.
Василий, возвращаясь, заглянул в часовенку. Там на стенке висел потемневший медный складень, а перед ним на новой лавочке лежала книга с деревянными крышками и медными застежками, а под книгой лежало что-то шелковое, разноцветное, похожее на женский нарукавник или венчальный покров.
Печалью одиночества пахнула на Василия часовенка. Он пошел на лай собак, поднялся на вершину холма и с каменного яра внизу на берегу реки увидел целую толпу людей. Они, сосредоточенно и бесшумно окружив сколоченный из новых бревен небольшой плот, совсем не поворачивались к берегу и не замечали, что все собаки, убежав на яр, готовы были разорвать Василия.
Василий, отбиваясь ружьем, спустился вниз и, подчиняясь местному обычаю, снял шапку, разгладил волосы на лоб и уши и протянул, как настоящий старовер, степенно и певуче:
- Бог в помощь, старички! Здорово живете!
Первый оглянулся на него благообразный, как святитель, Марковей Егорыч, а потом, сверкая лысиной, снял шляпу и его всегдашний друг и спутник Фрол Лукич.
- Подит-ко жалуй, милый человек! - сказали они в голос и стали помогать другим нести на плот какую-то, должно быть, ценную живую тяжесть.
Василий подошел поближе, заглянул в тесный кружок, замкнутый озабоченными стариками, и увидел на носилках из жердей мертвенно-бледное, как воск, лицо женщины с огромными печально-строгими глазами. Она лизнула тонкие сухие губы, повернула голову к Василию и слабым грубоватым голосом произнесла:
- И не введи нас во искушенье... - и стала повторять, отвернув лицо к журчащей, сверкающей в лучах утреннего солнца воде, - Во искушение... Во искушение...
День разгорался ясный, красочный и теплый. Василий видел бледные, обтянутые тонкой кожей кисти рук у женщины и, не надевая шапки, притих, как на молитве.
А старики уложили носилки на маленькое возвышение из обрубков бревен и, окружив больную, стали на плоту, так что он от тяжести погрузился в воду.
На берегу остались только три старухи и Фрол Лукич, лепетавший сокрушенно и благовейно:
- Угодница... Угодница благочестивая! Уж тут чего же прямо в место злачное!
А старики на плоту, по почину сухого, бледного и молодого мужика, в котором Василий не мог еще признать Самойлу, запели надтреснутыми, нестройными и слабо звучавшими над бурной рекой голосами:
- А-ай все-е-пе-е-тая ма-а-ати-и Бо-о-огоро-о-о-о...
Только тут Василий догадался, что попал в скит Анкудиныча. И вспомнил вчерашние слова Еремки-Мясника: “Богородицу свою завел...”
Он отыскал в толпе самого Анкудиныча, который ближе всех был около Ненилы и то и дело наклонялся к ней, кивая обнаженной головой и что-то бормоча. Вот он отделился от толпы, молодо спрыгнул с плота и побежал на берег, не замечая Василия и мимоходом бросив Лукичу:
- А кадильницу-то и забыли. Надо ведь кадильницу!..
Василий видел, как белая холщовая рубаха замелькала среди жидких кустарников возле часовенки и изумленно спросил себя: “Что это? Опять в опере? Хованщина какая-то!”
Анкудиныч между тем спустился с горки и, поравнявшись с Лукичем, азартно и угрожающе сказал:
- Вот мы теперича и поглядим: чья возьмет!.. Пускай посмотрят православные: чье святее. Его ли сучка медельянская али моя... - Данило притворно всхлипнул и договорил, - Мученица непорочная!
Потом Данило невзначай остановил острые глаза на лице Василия, не узнавши в нем чураевского сына, мелко захихикал и еще запальчивее сказал:
- Вот мы и посмотрим: кто праведнее?.. Хе-хе... - и, раздувая кадильницу, пошел на плот.
Василий как-то весь осел, точно его придавило каменной глыбой, и снова вспомнил Мясника, который показался ему воплощением самой истины, и подумал:
“Каторжник Еремка все-таки светлее и бесхитростнее этого безбожного сектанта!”
“Ну, да! Ну, да! Еремка не оклеветал его. Еремка правду мне сказал о нем: убил да пятки ей ножом истыкал. Боже мой, Господи!” - взмолился, наконец, Василий и пошел на горку, безразлично наблюдая, как Данило и Самойло, провожаемые пением оставшихся на берегу стариков, отчалили от берега и быстро понеслись вниз по реке с бледнолицей умирающей женщиной.
Когда все поднялись к часовенке, старая хозяйка позвала всех в дом попитаться, чем Бог послал, а Фрол Лукич отшатнулся от толпы и подошел к Василию:
- А что, мил человек, не родственник ли ты Фирсу Платонычу?
- А ты как думаешь? - спросил Василий строго.
- Хе-хе... Видать, што ты сурьезного родителя сынок!.. - совсем узнал Василия Лукич. - Ишь, и одежду приодел такую. Говори-ка прямо: тятька-то тебя небось за нами доглядеть прислал?
Василий рассмеялся и презрительно взглянул в лукавые глаза старика:
- А вы что же, воровское дело тут вершите, что ли?
- Хе-хе, да как тебе сказать? Оно почти што воровское! - И Фрол Лукич отвел Василия подальше от часовенки. - По истине тебе сказать - твой батюшка не Анкудинычу чета... Старик путевый, самосильный. Правильный. А только што... - Лукич засмеялся и забегал глазами.
- Ну, что?
- Да ишь, к Даниле быдто все теперь наведываются. Ну, и мы с Егорычем... Знаешь, - дело суседское... Заимки наши тут вот, недалеко...
- Так что же ты забеспокоился?.. Как будто испугался!
- Да неохота старика-то вашего гневать... - Лукич опять забегал глазками мимо Василия и шепотом прибавил. - Замучили они бабенку-то бедную!.. Заморили голодом, и все она молилась, все молилась день и ночь. Я дак прямо сердцем изболел о ней. Уж думаю: пусть бы поскорее Бог прибрал ее!
- Это для чего же мучили?..
- Да ишь, в угодницы, слышь, приготовляли... Теперь привез, видишь, в Чураевку. Собор опять собирает... - И Лукич совсем беззвучно прибавил. - Фирса-то, вишь, все хочет одолеть.
Василий вновь кольнул старика презрительной усмешкой и спросил:
- А вы, значит, пойдете на ту сторону, которая одолеет?
Фрол Лукич озабоченно развел руками и с простодушной искренностью произнес:
- А как нам, милачок, супротив людей перечить? Куда, слышь, люди, туда и мы!..
Василий молча посмотрел на старика, хотел что-то сказать, но отвернулся и зашагал прочь от часовенки, не оборачиваясь к озадаченному Лукичу.