Третье сказание: Царь Буян
Рассказ четвертый
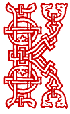 нязи!.. Князи!.. А откуда они князи? - Все из той же скользкой грязи!..
нязи!.. Князи!.. А откуда они князи? - Все из той же скользкой грязи!..
Тот князь новгородский Рорих или Рюрих, может быть тоже неграмотный, а воевал и изворачивался, может быть, еще и хуже. Не было тогда ни пушек эдаких, ни пулеметов, ни машин летучих, ни телефона-дьявола доносчика. А пусть-ка бы он Рурих, в наши времена повоевал! Может и не был бы князем!
... Небось и в те поры в войсках были и босы и голодны, небось, и в те поры ходили с грабежом и с пугом - пугалами бабам да ребятам. А конечно, в драке побивал бесстрашный, а бесстрашным покорялись города и села, а бесстрашным приносили дань и подать, а бесстрашным все прощали, за бесстрашных девушки-боярышни шли замуж. А потом бесстрашных и на княжество сажали!..
Вот тебе и князи! Князи ж были татарва бескрестная. В князи, может, лезли всякими неправдами да покупками, да захватами почти что все, кто имел корчаги с золотом. А откуда золото - оно не скажет!.. Может также от убитых взято, может также вот, по монастырям награблено. Всякий смолокур-снохач-заимочник был князем! Что не правда, что ли? Князи!..
Вот и понастроили церквей - грехи замаливать. Вот и понабрали всякой челяди - продажной, сбродной, лбами об пол бить да кланяться. Оделись в золото и засияли. Стали кушать с блюд серебряных - и кровь другая стала. Князи!..
...А если б не было князей - а ну-т-ко? Были бы монастыри и храмы? Были бы уделы и стольные грады, княжества и царства? Ну, ни князи, так разбойничьи атаманы б были! Назывались бы иначе, а может золото и серебро и челядь имели. И если бы не ели с блюд серебряных, то ели бы из черепов побитых в битвах да в междоусобицах своих же братьев. И не было б прохода по лесным дорогам старцам праведным и не к кому было б пойти с тяжелой думой грешною на поклонение и на покаяние.
... Ну, не к кому же, не к кому и нам пойти в наши годы лютого разбойного междоусобия!
...Да, не к кому, а может быть и ходить на покаяние ни к кому не надо?
- Князь же так? Собакой подыхал без покаяния?
...Фу-у! Дьявол! Голова свинцом налита - тянет книзу. Треснуть бы ее о камень что ли?
... Ну, а дьявол? Есть он, дьявол, - нет ли?
- Ой как скушно, если нету даже дьявола!
Для чего ж и для кого ж солнце ходит по небу? Неужто только для того, чтобы разбойнички виднее видели дела свои и беспросветно мучались?..
Велики были покои княжеского замка. И года полтора уже полупусты, гулко раздавались в них людские голоса. Лишь две комнаты на солнечной стороне были обставлены и сохранились в полном порядке.
В них два года назад княгиня с маленьким сынком жила и князя принимала в отпуск после излечения от ран, полученных в боях германских, приезжал он незадолго перед отречением царя. А оставался сторожить все это старый и уже глухой слуга. Все комнаты не мог охранять, а комнаты княгини как-то удалось, обманом охранил.
Было утро тихое и ясное - начало Августа - пора золотая и прозрачная.
На паркет, давно не вощенный, но чистый, скрипучий и сухой падали узоры тонких и причудливых кружевных оконных занавесей, и солнечные блики с пола отражались в зеркалах и в позолоте огромных во весь рост портретов дедушек и бабушек князя и княгини.
Светло, с радостной улыбкою, смотрели из рамы сам князь Бебутов, срисованный еще в молодости, еще не женатым. Да и была ли княгиня тогда на свете? Ей двадцать было, как женился, а ему пятьдесят. Конечно, не было ее тогда на свете. Но кому-то он уже счастливо улыбался, бравый офицер кавалерист.
Любил слуга здесь шишляться подолгу: мел, вытирал пыль, что-то ворчал и даже напевал. Особенно любил подолгу убирать постели в продолжительные солнечные дни. Развешивал на балконе на солнышко, плывущие в руках одеяла и тюфяки, хлопал мягкие подушки, осторожно расстилал-разглаживал тончайшие простыни, еще хранившие еле уловимый запах, которым всегда пахло от княгини, когда слуга ей руку целовал. Слуга здесь так заботливо все прибирал, как будто князь с княгиней уехали в разгулку в экипаже, либо верхами, либо на охоту, и вернуться только к позднему обеду - торопиться нечего.
Но, замкнувши комнаты, он проходил пустыми гулкими покоями и сразу вспоминал, что что-то деется на свете страшное. Какие-то все люди приезжают, уезжают, прицеливаются в замке жить, но поживут день-два в уютных службах и невидимо скрываются. И всегда что-нибудь увезут с собою, а жаловаться некому. И князь с княгиней не известно: живы, нет ли.
А все-таки он ждал их. Каждый день с утра до вечера и по ночам, когда плохо спалось в своей высокой и большой лакейской комнате, все просыпался и прислушивался, не звонят ли, не стучат ли.
И вот дождался. Прискакал в черкеске офицерик без погон. Вбежал в покои как раз, когда старый слуга был в комнатах княгини.
- Ага, да тут есть и кровати! - весело воскликнул офицер, не здороваясь со стариком и, думая занять именно эти покои для главного начальника, а может быть и для себя.
- Так точно. Имеются, - с достоинством сказал старик.
- А почему же до сих пор постели никто не забрал? Удивительно!
- Потому что охранял я, замыкал, а людям говорил, что потолки падают: опасно.
- А мне бы тоже соврал, если бы я не вошел сюда?
- Уж не знаю, как сказалось бы. Может, и не соврал бы.
- А знаешь, кто я?
- Не могу знать.
- Я адъютант атамана Лихого. Слыхал про такого?
- Все может быть, - уклончиво ответил старичок.
- И мы сейчас княгиню вашу привезли! - сказал офицер, испытующе глядя в глаза слуги. - Рад, небось?
- Все может быть, - опять сказал старик, но голос его дрогнул, а глаза моргнули, спрятались под густыми пышно-желтыми бровями, потому что старик склонил голову, как будто поклонился офицеру, дескать: воля ваша, можете шутить над старым человеком.
Но в глубине покоев гулко застучали тяжелые сапоги и звон шпор. В сопровождении Терентия вошел Лихой. Он был выбрит и одет в белую лохматую папаху и черную кавказскую бурку, и от этого, высокая фигура его казалась огромной.
Адъютант вытянулся, а старик затрясся еще больше.
- Чего трясешься? Разве я похож на князя вашего грозного?
- Все может быть...
- Нет, не может. Не хочу я походить на картавую эту породу. Я есть царь Буян, и хожу - гуляю спьяна!.. Слыхал, али нету?
Лихой пощупал постели на кроватях, поглядел на себя в огромное зеркало, а старик слабо, добродушно ухмыльнулся его шутке и сказал:
- Ну, что же, дай вам Господи здоровья!
- Ну, против Господа мы еще поспорим, - сказал Лихой, - А ты смотри - кулак у меня здоровый, ежели, в чем провинишься - сразу зашибу.
- Наше дело маленькое: всем служить беспрекословно.
- Не мне будешь служить, а барыне своей. Хворает, - ворчнул он тут же, - Ночью, чуть по дороге, не умерла... Да смотри: ежели поправится да сбежит отсюда: подожгу дворец и тебя на вертеле изжарю!
Но слуга, как бы не слышал этих обидных угроз и продолжал покорно:
- Здесь им будет хорошо. Княгиня наша тут жила.
- Приведите пленную, - сказал Лихой адъютанту и когда тот легкой щегольской походкою вышел из комнаты, атаман показал на балкон. - А ну-ка отвори мне дверь туда.
Слуга с трудом с помощью Терентия открыл дверь.
Солнце золотою мягкой струею влилось с балкона и заиграло на позолоте кресел. Легкий ветерок пошевелил на окнах занавески. Лихой толкнул ногою кресло, подкатил его к балкону, сел и, глядя в парк, на сияющий под солнцем синий пруд, сказал:
- Да, брат, Пятков! В эдакой хоромине нам с тобою еще не доводилось бывать. Вот царствовали люди, а?
- Так точно, господин атаман! - ответил Пятков, поправляя сзади некрасиво подвернувшуюся бурку атамана. - А теперь и мы поживем.
- Так точно, говоришь? Поживем-то, поживем, да вот на долго ли?..
- Постараемся! По-солдатски громко выкрикнул Терентий.
- А стоит ли стараться-то?
- Не могу знать! Теперь власть-воля ваша. Куда поведете - туда и мы пойдем, господин атаман!
Слуга стоял у входа, и, услыхав шаги во внутренних покоях, открыл дверь... Челюсть его отделилась, точно отвалилась от густых усов, глаза расширились, а руки не повиновались. Хватал ими стриженый подбородок и не мог достать его.
Княгиня была в черной длинной офицерской бурке. Голова ее была завернута в желтый верблюжий башлык, из-под которого выглядывало землисто-бледное, изможденное лицо, озаренное большими черными глазами, как две звезды.
Войдя в сопровождении адъютанта, медленной усталой походкою, она как бы намеренно не узнавала своего слугу и свою комнату и остановилась посреди. Со стены на полсекунды ей ласково улыбнулся портрет молодого князя, но она быстро опустила взгляд и стала ждать допроса или приказания. Она еле стояла и, шатаясь, взялась за спинку первого попавшегося кресла.
Лихой, залюбовавшись парком и задумавшись, не сразу обернулся. А когда увидел женщину и застывшего, что-то понявшего старика, не посмевшего приветствовать свою госпожу, вскочил с кресла, широко шагнул к княгине, еще шире размахнул вокруг себя рукой и заговорил, стараясь улыбаться:
- Ну, вот живите здеся, в полном спокое! Поправляйтесь. Можете в садах гулять. Одним словом, будьте как бы дома. И все вам будет представлено, - он повернулся к адъютанту. - И штобы их никто не беспокоил.
Адъютант послушно подщелкнул шпорами, и звук их отозвался в пустых комнатах. Так стало тихо после приказания атамана.
Княгиня все еще стояла и, ни слова не сказав, подняла глаза на атамана, презирая и сжигая ими все, что он предлагал ей.
И опять под этим взглядом покоробился, изогнулся в сторону, потом и рассвирепел Лихой:
- Ну? - крикнул он на адъютанта, Терентия и слугу, показывая им на дверь. Сам же отошел к окну и забыл то, что он хотел еще сказать княгине.
Адъютант с Терентием вышли, а слуга, вместо того, чтобы покориться приказанию атамана, бросился к ногам княгини и, хватая ее мозолистые грязные и загорелые неузнаваемые руки, начал целовать их и шептать:
- Ваше сиятельство! Матушка! Да вы ли это? Господи помилуй! Ваше сиятельство!..
Княгиня высвободила у него руку, положила ее на плешину старика и ласково погладила ее. И эта ласка пробежала теплою струей до сердца старика, а от сердца целою волной огня мгновенно возвратилась к сердцу самой женщины и у нее впервые за трое суток появилась на лице улыбка, слабая, кривая, похожая на судорогу скорби.
Атаман искоса взглянул в лицо княгини и, увидав эту улыбку, потерял все свои думы и слова. И медленно, стараясь не стучать сапогами, вышел из комнаты.
И только теперь княгиня оглянулась вокруг и увидела все на своем месте, чудом сбереженное. Но все это великолепие и ширь, и свет, и парк, и пруд, и шевелящиеся кружевные занавески - только еще глубже оскорбило ее тем, что все это существует, чтобы нанести ей последний, самый тяжелый удар.
Она шагнула и, не имея больше сил стоять, неловко повалилась на кресло. А слуга ползал у ее ног, целовал ее одежду и шептал:
- Матушка! Прости ты меня старого дурака! Ведь я вас предал. Ведь они не знают, что вы наша-то княгинюшка, а я взболтнул!..
- Знают, - уронила женщина и набрала в грудь воздуха, чтобы скорее спросить про главное, но не решилась, потому что самое страшное было впереди и, погасивши в себе все надежды, отвернулась от лица слуги.
Но у старика вдруг залучились светло-синие глаза, задрожали брови, и вместе со слезами на княгиню брызнул тихий и уверенный, по-новому окрасивший все земное, свет.
- А князенько-то маленький...
Княгиня зажала ему рот рукою и сказала:
- Замолчи, не надо!..
- Да, ты не сумлевайся... - поняв ее, начал старик снова.
- Не надо лгать! Не надо лгать, Кирилыч! - прервала она. - Теперь мне уже ничего не страшно. Говори: где он схоронен?
- Да, матушка, княгинюшка! Он здоровехонек! На днях видал его своими глазоньками. Только что, конечно, у пастуха растет, в простом быту. Тут, верст пять, не боле...
- Неправда! - крикнула княгиня, но в крике этом была уже робкая радость и мольба последнего отчаяния: зачем ты меня мучаешь? Ведь я хочу еще надеяться!
- Да, матушка! Ваше сиятельство! Он жив-живехонек! На ножках бегает, лопочет уже... - старик слезливо всхлипнул, - Пастуха тятькой зовет, а пастушку - мамкой. Поверьте слову, матушка! Не стану я на старости вам врать.
Но княгиня все еще не верила ему. Не верила, а улыбалась от внезапной радости, но только радость эта окончательно лишила ее последних сил. До сих пор каким-то чудом несла себя, держалась, третьи сутки без еды, без сна, в сплошном кошмаре. А вот дошла до последней сладостной неправды или правды и повалилась на плечо Кирилыча и только прошептала, задыхаясь:
- Пощади меня, Кирилыч! Пощади, голубчик!..
Старый слуга плакал и смеялся и не знал, что делать, но позвать на помощь "этих" не решился. Сам отваживался, раздевал, укладывал и ворковал над нею, как над маленькой заснувшей девочкой.
...А над лесами и далями солнце проходит. Солнце проходит, не считая дней: пусть считают живущие.
Идет оно через леса, через горы и через реки.
И синие дальние лесные гривы, и синее небо, чисто и ласковое, и какое оно хорошее, какое же оно ненаглядно-голубое и неохватно-нежитейское! А на небе? А на небе: есть Бог или нету никакого Бога? Если есть Бог на небе, то, значит, нету Ему никакого дела до нашей земли-планиды!
Ну, есть же хоть какой-нибудь земной главный судья праведный, к которому бы можно прийти запросто, ударить лбом с размаху и просить-молить:
- Господи, Господи! Можно ли когда-нибудь убийце-лиходею душеньку свою из муки-ада вызволить?..
А над лесами солнце играет, ни о чем не думает. Проходит мимо, высокое, чужое солнышко. Чужое и не греющее и не радующее разбойника, едущего по лесной дороге на чужом коне прекрасном и к чужому дому чудно-белому, населенному разбойниками и с княгиней пленницей... Но только не сестрицей-лебедицей всех она встречает, не готовит на сорок приборов стол-трапезу, не щебечет каждому словечко ласки и привета, а безмолвной, замкнутою чародейкой затворяется в своей палате, опускает занавески на день, и одно у нее слово к атаману:
- Что вам нужно? Убивать, так убивайте же скорее!
Ух! Тяжела ты сказка-быль-причуда русская!
И угарна ты болезнь-краснуха-огневица лютая!
Тряхнул лохматой шапкой из тибетского барана, вытер рукавом черкески потный лоб и по-собачьи ухватил себя зубами за руку.
- "Задремал што ль, али спятил?"
Вымылся в княжеской ванне, выбрился, надел на себя малиновые шаровары, лаковые сапоги и белую черкеску - все чужое, и начал дурака валять! И так Терентий с выговором заявился, дескать, все солдаты недовольны, что сам атаман с княгиней нянчится. А там кругом будто бы красные и белые отряды бродят по лесам и по степям. Не скоро с ними справишься!..
Лихой сел на коня, пришпорил лошадь, объехал лесистый холм, вылетел на взблок и увидал над большим прудом отраженный в его зеркале белый замок, весь точно выточенный из светло-голубого льда, почти прозрачный, или нарисованный - такой легкий и до грусти распрекрасный. А по круглым столбам и по перилам, и по всему саду вьются розы, розы, розы...
- "Хорошо жили с-собаки!" - сжав зубы, прорычал Лихой, но остановил коня и еще пристальнее поглядел на замок.
- "Ой, нет, нет! Чую я, что самому мне в нем жить, все-таки не доведется".
И снова вспомнил бедную лачугу, занесенную сибирскими снегами и самого себя на печке и пестренькое одеяло на кровати... И Николину икону на божнице и пятак свой первый, найденный у кабака. И сестру, и бабушку, и тятьку. Снова всех, и все житье-бытье былое...
- "Зато што ль получил вот это?"
И тут же сам себе ответил:
- "Нет, не за это. А за то, что много, много раз убил!.."
Не сказал он этого словами, но показалось, будто эхо по глубине прудов пошло в леса и всюду там звучало - пело, как в пустом великом храме:
- "Уби-ил!.."
- "Ну, што же - вот и получай награду, живи заместо князя в замке! Княгиня отсидится, попривыкнет - замуж за себя возьмешь..."
- "Насмешки это, - сам над собою насмехаюсь - больше ничего!.."
И вспомнил про Илью Иваныча, про зятя: убил ли он еще кого-нибудь на воле? Ведь получил же волю, ежели не умер.
- "А Анисья?.."
- Вот! Вот это самое давно гвоздем вколачивается в голову, да было некогда все вспомнить: ведь у нее ребенок был! Если жив - теперь десятый год. Арестаненочком она звала его. Видал его уже по третьему, как волю получил...
- "А-а!.. Все это прошло - минуло, кровавою стеною отгорожено. Пусть растет - один. Такой отец ему не радость. Да и Анисья - баба уж теперь - немолодая - сердца не согреет и разбойника не сможет обнимать. Нет, не это гложет душу!.."
- "Нет, вот про главное, про главное!.. Кого спросить, кому доверить эту всю изголодавшуюся душу? Нельзя так жить, ничто не радует, не веселит, и нету никакой дороги дальше! Больше идти некуда, и незачем... Край!.. А у края яма - темная, без дна и без скончанья..."
- "Имя што ль опять переменить? Уйти куда-нибудь подальше, жениться на молоденькой поповне и... Что же?.. Разводить свиней, как Евстигней, отдавший жизнь за своего кабана?.."
- Тьфу! - звучно сплюнул атаман, потому что стало самому противно про такое думать. - Грабил, грабил, сколько душ невинных загубил. На днях священника под виселицу подвел, и Евстигней погиб по этому же делу, и Клаву силою Терентий взял, расхвастался вчера под веселую руку, скотина! И вдруг, на свиньях помириться?..
- "Да, што же я за гад, за сволочь такая?"
- Петлю! Вот мне и награда - знак отличия, - сказал он вслух.
Лошадь повела ушами, точно слушая и соглашаясь весело:
- "Вот, дескать, это верно. Животина, лошадь, судит правильно!.."
И снова покосился Лихой на дворец, который теперь казался ему страшным великаном, белым зверем, многоногим, многоглазым - черт его оборет! Вымести все комнаты и то, сколько надо слуг-лакеев. Подожги - еще гореть не станет, - каменный! Живи в нем - бейся головой о каменные стены. Тюрьма великая!
- "А для чего поджечь? Построить-то такой, небось, ума не станет, и трудиться не захочешь, а спалить готов? Люди трудились, строили!.. Тысячи, поди, людей рабочих тут работало!.."
- "Петля! Петля, петля!" - выбивали четкие копыта лошади, шедшей легкой и веселой ступью.
Вспомнил, что и не спится ему в замке. Кажется, что мертвый князь приходит, ищет и зовет княгиню.
Уходил Лихой из гулкой комнаты к Пяткову, спавшему с двумя солдатами в саду, в беседке. Там было немного легче, и хоть под утро он засыпал.
В первый день нашли в замке потайной винный погреб. Пил Лихой много, но вино было какое-то не пьяное. С вина совсем сон потерял. Адъютанту в морду дал. Пяткова чем-то разобидел, но думы тяжкой не заглушил, а только еще больше растравил душу. Ходил по лагерю и заметил, что армия его более чем наполовину расползлась. Оставшихся долго ругал за то, что в парке лошадей пускали на пастьбу. Лишь бы не сторожить! И слышал, как ворчали за спиной:
- "Жалеет сад. Купил его што ль? Завоеватель!"
Хотел найти такого подкопщика, да голова не тем была занята.
Потом старался обмануть себя. Играл с солдатами в городки. Какую-то игру нашли в саду - не поняли, что за игра: долго гадали, обсуждали, не додумались. Со зла пинком сломал ее, как хулиган-подросток.
Катался по пруду на лодке, но, проплывая мимо замка, увидал лицо княгини - или только показалось? - и поспешил заплыть в камыши, бросил лодку, даже к месту не хотел пригнать.
Вникал в штабные занятия, но почуял сразу, что даже штабные писаря были куда доточнее его по части грамоты - нахмурился, сделал вид, что рассердился, крикнул:
- Бестолковщина у вас тут! Дурацкие порядки!
И как-то сразу прошла всякая охота думать про бои, про наступления, про "стратегию". Придет пора - тогда подумает и извернется и, понятно, прежде всего, замок доведется бросить. А пока что на досуге надо главное обдумать. А что главное? Еще и сам сказать себе не мог - что оно такое душу распирает - камень этот стопудовый?
Теперь, второй уж день, с тех пор, как услыхал, что княгиня стала пищу принимать, немножко отлегло. Велел коня себе седлать - стал ездить по имению, прогуливаться. Думать.
- "Дурак! Болван! Наверное, солдаты и все мужики смеются: экой, дескать, новый князь тут завелся!"
- "Петля! Петля! Пули не достоин. Петля! А через петлю в ад ворота! В аду кромешном, нескончаемом, награда ждет на веки-веки-вечные!.."
Вдруг соскочил с коня, ударил его плеткой ни за что, но с силой и, когда конь ускакал куда-то по дороге, Лихой свернул в первые попавшиеся мелкие кустарники, упал грудью на землю и первое, что понял: через много-много лет услыхал запах полыни. Взглянул на землю - так и есть: под самым носом - тоненькая, серо-голубая веточка степной полыни. Вот пахнуло родиною как прекрасно! Это там такие запахи, когда был в ямщиках, на поле спал, на тройках по степи скакал.
- "Ну, Господи же, Господи! За што же Ты судил мне лиходеем сделаться?.."
И собачьим, долгим, безобразным воем завыл он, страшный победитель князя, атаман Лихой - Микула Петрованович...
Года два или более тянулся маскарад княгини. Бегства из страны в страну, скитанья под чужими именами - из села в село или из разбитого монастыря в глухую тайную обитель. И все это - под знаком страха, не только за свою, но главное, за жизнь их, мужа и ребенка. Сколько раз был близок тот или другой, но случаи так фантастичны, а потери нитей и путей к ним были так до ужаса просты или до издевательства случайны. Любовь к отчизне, к ее чести оторвали от нее мужа, а страх потерять сына уводил ее какими-то предательскими, лживыми тропинками все дальше и дальше.
Ах, можно ли все это рассказать? Подобное случилось с тысячами, с тысячами матерей и жен, невест, сестер и дочерей, по лицу земли рассеянных и непрерывно ищущих, и до сих пор, родных и близких, часто без успеха, но всегда - с неугасимою, чуть тлеющею искоркой надежды.
Нужно ли рассказывать, как она рассталась с маленьким ребенком? Рассталась для того, чтобы, если убьют ее, то не убили бы его, малютку. Только на ночь, чтобы в разных местах перейти огневую линию, доверила она его вернейшей няне, но и вернейшая из вернейших няня, испугалась грохота орудий и попутных смертей и не решилась сразу, опоздала на день, а когда решилась и прокралась, то княгини не нашла в условленном месте, и решила, что та предала ее. А княгиня вновь переодетая уже вернулась через ту же огненную линию, искать ребенка, но не нашла ни няни, ни ребенка. А няня бросила ребенка в пастушьей хижине и пропала без вести, а чей, откуда, как попал ребенок - разве он расскажет? Было ему девять месяцев, и одет он был, как одевают своих маленьких беднейшие крестьяне. И вот старик-слуга искал ребенка и нашел, оставил пастуху и пас его пастух два года, а старик наведывался и надеялся, и верил, что вернется мать-княгиня. И вернулась. Но верный ли слуга старик не понял, княгиня ли ему не верила, только два года исканий, и стремлений, и тревог, и оскорблений истощили сердце, надломили веру матери и женщины. Имеет же предел и сила веры и надежды материнской!
И вот упала женщина на плечи старого слуги, потеряла чувства, потеряла память, волю, всякие надежды и желания жить и мыслить, но зато нашла она первый, за два года бестревожный, крепкий сон. А во сне пришла и вера, а во сне явились и желания, и вернулись кой-какие силы. Через полные сутки слишком, в недоуменном возбуждении, под черным бархатным шнурочком усиков, на оживших и порозовевших губах появилась слабая улыбка ласкового материнского доверия.
- Кирилыч! Милый! Ну, где же он?
И помолодели, ожили, порозовели смуглые щеки.
По улыбке хитрой, по знаку строгой осторожности, по грубоватому укору старика - совсем поверила.
- Нельзя же сразу вот сюда тебе и приводить его! - даже передразнил ее голосом и руками разгреб воздух загордившийся слуга. Знал, какую ветку жизни в секрете своем держит, и стегнул этой веткой без страха по княгине. - Потерпи! Сперва сама-то оклемайся...
И вот стала она пищу принимать.
Спустила шторы окон, но свету было так много в комнате, так ослеплял он зрение, что не могла переносить его. И не могла видеть парка, а в парке "этих" людей, не хотела слышать их голосов, но хотела только думать об одном теперь, о нем, о ветке жизни масленичной, об отросточке и продолжении жизни своей бесконечно-вечной. И уже не думала о жизни в замке, а только лишь о тихой, тайной келейке в лесу далеком, в какой-либо чужой-чужой, неведомой стране, но только знать, что есть он и живет ее невинный, беззаботный пастушоночек.
И плакала большими, теплыми, прекрасными слезами полнозвучной, сладкой жертвы материнской.
Пять дней прошло в этом томлении горько-сладостном, а под конец шестого, в парке, на мосту через изгиб пруда показался с пастухом пастушонок подпрыгивающий, бесстрашно лепетавший что-то с атаманским часовым, гладко остриженный мальчонок.
Не выдержала, застонала, а потом захохотала и успела только выкрикнуть:
- Смешно одет как! Бо-оже!..
И закатилась, снова повалилась - силы не хватило.
- Ну и будет! Будет, матушка! - ворчал слуга и вновь укладывал ее и уговаривал, грозил, - Лучше, штоль, если узнают? А у них он в полной безопасности.
А там, у пруда, возле моста на мальчонка наступала целая орава зевак: солдаты и дружинники давно не видели такого и, обступив, допрашивали, потешались, улыбались, трогали корневидными руками за головку, вспоминали своих где-то без отцов растущих Ванек, Мишек, Васек и Матрешек...
А к толпе шел быстрым шагом атаман и тоже ухмылялся, но не мальчонку, а светлой, непокрытой и огромной во всю голову лысине пастуха. Точь в точь Яша - Яков Селиверстыч, приставской рассыльный там, где с Анисьей вместе клад искал. И нос такой же, и зипун такой же, и пояс высоко под самой грудью, и усмешка такая же придурковатая!..
Расступились солдаты, удивились атаманскому усмешливому, непривычно-ласковому взгляду и по-своему все поняли: "с княгиней атаман запутался"...
Но подал с балкона старый слуга знак, и пастух ни слова никому, понятно, что тайно укрывает барское отродье. Шел и слушал меткие солдатские словечки:
- Кто тебе, дедка, смастерил такое дите пригожее? Сам стар, а дите малое...
Бездетная чета пастушья прикормила ребенка, как родного. За два года, как сынок прирос - можно за этакое дитя-забаву и шутку стерпеть... Шел и посмеивался и молчал старик.
Прошел старик через мост и стал дорогу спрашивать куда-то. И атаман сам повел его. А это еще больше навело на разные догадки растревоженных его дружинников...
А между тем, вокруг замка жизнь солдатская сплеталась в крепкие удавки и в узлы. И таяла дружина, хмурились разведчики. Но жизнь брала свое, творила грех и смех и горе.
На седьмой день в комнату княгини ворвалась с безумным криком, с распущенными, наполовину выдранными, волосами молодая женщина и, упавши на колени, требовала диким голосом у пленницы:
- Отдайте!.. Отдайте мне отца и мужа! Честь мою! Мужик!.. Разбойник!.. Кому?.. Кому пожаловаться? Заступитесь!..
Но следом прибежала мать Терентия, по-праздничному принаряженная Наталья, и за волосы схватила женщину и, страшно исказив лицо от злобы, перекрикивала жалобщицу:
- На, дыть! Вот сичас заступятся! Нашла себе заступу!.. Иди, ступай назад! Паскудница!..
Слаба была княгиня, и слаб старый слуга, но бросились к Наталье, и Наталья отступила с тем же криком:
- Дыть самашедшая она, вам говорят! Из-под стражи вырвалась, убегла! - и, угрожающе взглянув на обнявшихся двух женщин, закричала в гулкие покои:
- Терентий! Эй вы, кто там? Помогите!..
Но Клава ухватилась за колени княгини и сиплым голосом безумного отчаяния бессвязно продолжала вопить:
- Беременная я была... Четвертый месяц!.. А он насильно взял меня!.. Потом сюда... Арестовал... Кому же я... К кому пойду?.. Куда же мужа моего девали? Отца отдайте! Ребеночка скинула!..
Поняла княгиня-мать и женщина все сразу, узнала Клаву, позабыла, где она и кем окружена, ласкала женщину, приглаживая вырванные волосы, и лепетала:
- Ну, милая!.. Ну, дорогая!.. Бедная моя!..
А на вопли Клавы прибежал Терентий, а за ним адъютант и двое часовых с винтовками и, наконец, широкими шагами, грозный и безмолвный, вошел атаман.
Княгиня вырвалась от Клавы, дикой кошкой бросилась к его лицу, подпрыгнула и тоненькою, жиденькой рукой щелкнула его по сизой, плохо выбритой щеке.
Но, точно не заметив этого удара, атаман двумя руками взял Наталью и Терентия и молча бросил их под ружья часовых, а адъютанту рявкнул:
- Рыбам!..
Адъютант давно не слыхал этого неумолимого приказа от Лихого и даже не поверил ему, тем более что лучше атамана знал о настроении дружины. Ее доверие к Терентию росло по мере возрастания подозрения к атаману.
Но атаман поднял кулак над головами часовых и адъютанта, и видевшие все это дружинники нехорошо блеснули белками глаз и неохотно повели Наталью и Терентия.
Княгиня стала у кровати и почуяла, как сильно ныла вся рука и пальцы от удара по лицу Лихого, а на щеке его она заметила три розовых полоски. Но ничего этого сам Лихой не замечал. Забыл ли он про удар или думал о том, куда идут и что думают и говорят часовые и Терентий и сам оскорбленный адъютант, и что скажет весь штаб его, отлично знавший, как был верен атаману старый друг его Терентий.
Не стал выслушивать Лихой и безумных жалоб Клавы Клепиной. Но приказал слуге:
- Уведи ее и постереги за дверью. Сейчас я выйду.
Слуга заколебался и посмотрел на княгиню.
- Кому я говорю? - заорал Лихой на старика.
Но старик, молча подошел к княгине и сказал чуть слышно:
- Не могу оставить с вами их сиятельства.
Тогда Лихой сказал княгине:
- Ну, скажите вы ему, што ли, сами! - и он прибавил торопливо, новым, незнакомым голосом. - Сам я знаю, што здесь уже почти что не начальник...
И в этом слове прозвучало что-то человеческое, почти скорбное. И вместе с тем какие-то упали стены, как бы разбушевалась великая тюрьма, выпали железные решетки, отвалились все затворы и замки, разрушились все казематы и замаячили руины чего-то бывшего, быть может, и прекрасного. Не была ли эта страшная тюрьма когда-нибудь дворцом чудесным, как этот Бебутовский замок - мечта и сказка наяву юной княгине?
А Клава Клепина с приходом атамана стихла и, шепча что-то бессвязное, уползла в угол между дверью и окном и молящим, но безумным взглядом продолжала глядеть оттуда на княгиню и на старика и на атамана.
Молча подала слуге княгиня знак, чтобы он подчинился требованию атамана. Слуга немедленно подошел, склонился к затрепетавшей в страхе женщине, сказал ей что-то ласковое и та послушала, встала покорно, сгорбленной старушкой вышла под руку со стариком.
И вот остались они только двое: атаман разбойничий Микула и княгиня.
Они долго молчали и смотрели друг на друга, из глаз их на близком расстоянии рассматривали один другого два непримиримых мира: снизу вверх - огромный, звездно-огненный, как из алмазов, смело глядевший в лицо смерти, в лицо надвинувшейся последней опасности, даже опасности лишиться сына - мир владыческий. А сверху вниз тоже огромный, тоже горящий, но виновато-робкий, почти воровской - мир рабий.
- Что вам нужно?
Губы его покривились и выронили, точно стон больного:
- Не знаю...
И снова острия их взглядов скрестились, но уступал и покрывался облаком смутного неведения взгляд атамана. А вместе с тем, его левая щека, обращенная к окну, побледнела так, что три полоски от удара тонких пальцев сделались бледно-лиловыми и показались княгине каким-то жутким, но магически-священным знаком, повернувшим в ее сердце никогда не открывавшийся потайной затвор в какой-то еще новый мир.
- Хочешь, я ослобожу тебя?.. - наконец спросил Микула и веки глаз его сморгнули накатившиеся из тумана капельки.
Княгиня удивленно поглядела на его дрогнувшую правую руку и в этом движении огромной багрово-волосатой лапы, убившей князя и все остальное, - открылось для княгини что-то несудимое, как не судим тот деревянный крест, которым эти руки нанесли последний удар князю. Но получить свободу из этих самых рук? Да еще тогда, когда она уже увидела и кровью матери узнала сына?!
- Нет, не хочу! - презрительно и вызывающе сказала она атаману.
И снова уронили покривившиеся губы:
- Как хотишь...
Он медленно снял и надел шапку, нехотя повернулся и ушел тяжелыми, чужими, бороздящими шагами.
Бесшумно и испуганно вошли старик и Клава, и все молча встали в разные места, только слышно было всхлипывание Клавы, все еще трясущейся от истязания. Княгиня подошла к ней, приласкала, постояла рядом, а потом уложила на свою кровать. Села на кресло, опустила руки и не слыхала, не понимала, что ей говорил старик-слуга.
Но слышала шаги в пустых внутренних покоях. Они удалялись, затихали, умолкали, потом снова приближались, нарастали, останавливались за дверями, и опять, не торопясь, размеренно, позванивая шпорами, удалялись, отдаваясь в тишине огромной пустоты замка.
Уходил из комнаты старик и приходил опять. Стоял недвижно у двери, робко покашливал, стерег княгиню от шагов, но шаги ее уже нисколько не пугали. Напротив: было что-то к ним тайно влекущее и беспокойно отдающееся в сердце или в том новом, потайном углу души, где зазвучал какой-то ранее неведомый мотив.
Перестала плакать Клава. Сказала только:
- Умереть хочу я!.. - и уснула также крепко, как шесть дней назад спала сама княгиня.
Спустились сумерки, и ночь настала темная, безлунная.
Спустил старик-слуга тяжелые щиты над окнами, но и сквозь наглухо закрытые ставни изредка доносились какие-то взрывы-вскрики, всплески голосов. Что-то делалось неладное в дружине, расположенной в лесистой части парка.
Но ходили и позванивали шпорами шаги в пустых покоях, уже темных, наглухо затворенных снаружи.
Шагал по пустым и темным залам атаман и шагала за ним вся жизнь его. Как рыба, пойманная неводом, он попался сразу во множество петель, и какую нить ни тронет - весь невод тянется: тяжелый и неодолимый. Невыразимо, нет!.. Невыразимо и неодолимо для думы главное!..
Неотвратимо и всегда из сети петель смотрит на него испитое, загорелое и мужественное лицо юного офицера, собственноручно им убитого... Никто из солдат не захотел тогда стрелять в отважного и непокорного пленника, дерзко крикнувшего атаману:
- Ни-ког-да!..
С усмешкой, привычно выстрелил Микула в грудь молодчика, но тотчас же увидел на задрожавшей в смертной судороге щеке его, между подбородком и ухом, пятнышко родимое, с детства знакомое: у сестрицы Дуни было точно такое... А ее маленького Ванюшку, первенца Ильи Иваныча, он сам, Микула, целовал в это пятнышко, когда нянчился с любимым маленьким племянником... Тогда на утре жизни!..
Так и было: подпоручик Иван Ильич Лукичев, по приемному отцу Сакулин...
Вот кого убил он, атаман Лихой-Микула...
Вот почему бросил атаманство, и с бумагами Ванюши сам назвался его именем, чтобы больней и памятнее было, что убил, убил, убил родное, кровное... Единственную ветку рода-племени убил.
А через Ванюшку сестру свою родную убил и мать свою, и отца, и бабушку, и себя убил... Убил все самое родное, самое последнее и самое святое: кровь свою и дух свой... Веру и надежду - Господа убил навеки!..
И рад теперь вот этой петле-памяти, рад ей, как дороге в ад и жажда ада... Господи! Пусть ад да будет! Страшнее, если нету ада!..
И прошептал Микула в темноту покоев:
- Пошли, о, Господи, ад, как милость окаянному разбойнику!
И шагали шаги по пустым покоям, роняя жалобные слезы шпор, искали путь-дорогу в ад кромешный, чтобы не пройти мимо какой-то, хоть какой-то самой страшной казни - справедливости... Чтобы через казнь эту узнать, что есть Кто-то Карающий и вечно праведный, кто пожалел бы Ванюшку, и заступился бы за правду на земле!..
...Не одолел старик дремоты, свесился в углу со стула, засопел.
Тихо и бесшумно спала на кровати Клава. Еще бесшумнее сидела в своем кресле, без огня, княгиня.
Тихий мир спустился в ее душу и вся ее короткая, полная услад и радостей жизнь и любовь к князю, и даже любовь к сыну - показалась ей призрачно-далекой, почти не бывшей.
Слишком быстрым беззаботным шагом шла она по саду жизни и ушла из него куда-то за далекие долины, за широкие, непроходимые реки, и вот пришла на туда, где ничего нет, и не было, а только есть вот эти тяжелые, стерегущие ее шаги...
Чуть слышно, робко постучали в дверь. Княгиня встала, подошла, открыла и увидела, что атаман, держа в руках огарок свечи, смотрит на нее большими, молящими и виноватыми глазами, красиво блещущими отраженным в них от свечи светом. Или иным каким светом?
Что вам нужно? - спросила она тихо, стараясь не разбудить слугу.
И уже не было в душе ее ненависти и презрения, а была тишина и настороженное желание слушать и молчать.
И понял это атаман, как перемену гнева на милость, прошел на цыпочках, тихо сел в кресло и, накапав на крышку стола стеарину, прикрепил свечной огарок.
Кресло под ним затрещало, и от этого треска проснулся старик. Встал и снова сторожил княгиню, следя за каждым движением атамана. Знал, что в случае чего, все равно помочь не сможет: такого побороть нельзя, а все-таки хотел хоть умереть прежде госпожи своей.
У Микулы высоко поднялась грудь под серебряными газырями черкески.
- Армия моя против меня бунтует. К красным многие передались... - сказал он глухо, привычно улыбнулся и прибавил: - Ну, это для меня теперь без внимания.
Княгиня стояла у кровати, рядом со спящей Клавой, и смотрела на атамана с нарастающим любопытством. Его спокойствие, с которым он говорил о бунте в армии, было поистине спокойствием богатыря, уверенного в несокрушимости своей власти и силы.
- И еще, - вздохнул он, и добавил шепотом, с той же непривычной, глуповатою усмешкой: - Никому я, никогда, про жизнь свою не рассказывал... Вчера тут старика одного встретил... Пастухом он ходил... А в судьбе моей, как есть, старик такой встречался. Яшей его звали...
Атаман замолчал... Когда ходил там, в пустоте покоев, все складывалось в сильные, все объясняющие слова, а здесь все сразу и позабылось.
- Да и некогда все было!.. Да и некому было!.. - глухо прибавил Лихой.
Первая мысль, которая пришла княгине от этих слов: у атамана от содеянных злодейств началось тихое помешательство. А вторая - холодною змеей, а потом жгучим железом охватила ее сердце: жалость появилась к этому огромному, внезапно к ней пришедшему и непонятному, чужому-чужому человеку.
Но атаман, точно поняв ее мысль, твердо и сурово вымолвил:
- Да и не поймешь ты нашего простого сердца... Ты, ведь, княгиня!.. Сиятельство!
И крикнуло в ней сердце, как обида, как вопрос обидный:
- Почему же?
- А так што в шкуре нашей не бывали... - он крутанул вокруг себя рукою широко и сильно. - Про сестру бы вам мою все рассказать!.. Вот жизнь была, судьбина...
В тоне его голоса, в оттенке короткого воспоминания о себе и о сестре услышала княгиня нотку такой горькой и такой глубокой жалобы. А он опять же угадал.
- А за што нам обоим с ней судьба такая выпала? Кого спросить?
И снова замолчал. Потом тихими слезами, не стыдясь, заплакал и добавил чуть слышно:
- Вот и тебя сперва замучил да потом к тебе же каяться пришел.
- Каяться? - переспросила она, и приложила руки к сердцу, к которому подкатился жгучий клубок, и всю ее зажег такой непереносной болью так сильно, что она вскрикнула: - Мне, каяться?!
- А то?.. - уныло вымолвил Микула. - К кому больше?.. Со стариком этим заговорил - он испугался. А куда-то надобно прийти перед кончиной... - и, после запинки, совсем ровно и спокойно досказал: - Покончится и порешил...
- Господи, Господи, Господи... - зашептала княгиня и вспомнила, что до сих пор ни разу не обратилась к Богу, и в голову не приходило кому-то каяться, а он, разбойник и убийца, ей напомнил! Невыразимо маленькой почуяла она себя теперь перед этим человеком и не знала, что сказать, но сильно стискивала руки возле сердца и уминала или еще больше разжигала ими огненную боль в себе:
- "Ударила его!.. Плюнула в лицо ему!.. А он пришел!.."
А за стенами замка, в парке все нарастал какой-то шум и гул. И приближались к дому голоса, окружали шумы и стуки. Доносились какие-то глухие клики. Но странно тихо, безмятежно сидел атаман, устремив взгляд на догорающую свечу. А за этим его спокойствием даже старик, настороженный ко всему опасливо, почувствовал себя, как будто в тихом безопасном месте, хотя и поворачивал тугие уши к голосам и гулам за стенами.
И вдруг поднялся атаман и подошел к княгине, наклонился, чтобы лучше видеть ее взгляд и умоляющим, робким, тихим голосом мучительно сказал:
- Вот только знать бы... - всхлипнул и задавленным голосом потребовал: - Ну, кто скажет: есть он, Бог-то, али нет Бога?!
Руки княгини переместились к ее лицу и, потрясая ими, она вскрикнула искривленными от скорбной и невыразимой горечи губами:
- Есть!.. Есть Бог!.. Есть Господь! Есть!
Он отступил и не поверил. И тогда она сама стала доказывать ему, хватая его за руки и уверяя:
- Есть!.. Есть Господь! Потому что вижу Его! Вижу... Вижу Его в этом взгляде твоих глаз, палач мой! Несчастный мой мучитель!..
испугался этого крика госпожи своей слуга, но ничего не понял. Проснулась Клава и посмотрела на княгиню и на атамана, и на старика, и тоже ничего не поняла.
Но воистину смотрел из глаз разбойника Бог великой скорби и глубокого раскаянья.
И смотрел из глаз княгини Бог прощения и мольба о всепрощении.
Увидала она, что через недавний рабий взгляд его смотрела на нее всесильная, бесстрашная, карающая власть Владыки несудимого.
И поняла - познала, что все полученное - мера Его воздаяния.
За что? За все!.. За то, что никогда не знала, не слыхала и не желала знать и слышать ни скорбей, ни сил, ни глубин души рабов безмолвных и бунтующих...
А, между тем, в соседние покои ворвались дружинники, и послышался крик освобожденного часовыми Терентия Пяткова:
- Чего его бояться? С двумя бабами замкнулся! Из-за бабы и дружину загубил... Имайте и вяжите, больше никаких!
Вспыхнула в Лихом былая воля и отвага. Как тигр он выпрыгнул за дверь и крикнул:
- Гни-иды-ы! Гну-усы!..
И защелкали его выстрелы, завыли пули, застонали люди, и мелкой трелью высыпали вон из покоев шаги бежавших.
- Оцепляйте! Оцепляйте! В окна гляди, в окна прыгнет!..
Поняла княгиня, что пришла и ей кончина с атаманом, и поспешно зашептала своему слуге:
- Кирилыч! Беги!..
Слуга угадал по дрожанию ее голоса, что вся печаль-забота о малютке, но не мог ее оставить в страшную минуту и ответно утешал:
- Ничего! Не беспокойтесь за него... Он в безопасности. А я уж лучше с вами, матушка...
- Не выпускайте никого! Глядите!.. - кричал Терентий, стороживший под балконом. А вскоре раздались какие-то удары, стуки топоров и выстрелы, и крики:
- Сена сюда!.. Сена больше! Хворосту несите!
- Уходи Кирилыч! Уходи же! - заметалась княгиня. - Беги же, сбереги его... Пойми ты: если ты с ним будешь, я умру спокойнее!..
Старый слуга покорился, побежал, а за ним вышел Лихой, и выбежала Клава. Но тотчас же закаменела княгиня у кровати, слушая выстрелы и вопли Клавы, кем-то схваченной и уводимой.
Вернулся старик и зашептал:
- Пожар там, матушка! Дворец горит...
Выпустил последние пули атаман, вошел и подтвердил:
- Зажгли...
Отчаянно и строго закричала старику княгиня:
- Иди же! Кирилыч! Маленького моего!..
Услыхал это, метнулся к ней Микула... Понял - и тоже заметался. Загорелся львиной жаждой жизни для нее, для маленького... Ведь и у него где-то есть маленький арестаненочек...
И понял еще большее. Главное понял! Нашел, Главное увидел! Ведь это у него, у старика, у пастуха ее ребеночек? А пастух, ведь, тот же самый Яша, воскрес да пастухом явился безвинного малютку спасти... А Яша?.. Яша, ведь, Никола Милостивый, тот самый, который сторожил и пас его, Микулу маленького, на печи, в той лачуге убогой Петровановой... За его спиной, за Николиной лежал на сохранении первый найденный у кабака зацвелый пятачок Микулки малого...
- "Боже - Господи, как просто все, как чудно!.. И Дунюшка же, Дуня говорила: - Господь-от тут возле нас ходит, а мы его не видим".
Так вот же, как все видимо и чудно! Чудно!..
Нашел Микула Бога, воочию опять его увидел по земле ходящих, детей малых между гроз и пламени пасущим...
А княгиня, между тем, силой выпроваживала старика за двери.
И ушел старик, и тотчас же послышались выстрелы и крики:
- Не пускай! Бей эту старую собаку!
И не слышно было голоса старого слуги, но хорошо послышалось паданье тела его на пол. Не успел и от дверей отойти - умер на пороге дома госпожи своей, как верный страж и гордый воин.
Зашатались, подкосились ноги женщины.
Подбежал к ней, подхватил ее Микула на руки и заметался, ища выхода, но опять был отрезан: всюду ждали его ружья, штыки и пламя.
Положил княгиню на кровать, подбежал к балкону, прислушался: под балконом слышался треск загоравшегося хвороста.
Пнул ногой в раму, уронил щит-ставень, распахнул окно, но в комнату повалил дым, черный и удушливый. А вскоре показались языки огня, живые, теплые, шипящие знамена. Но хотел спасти княгиню и сам хоть день хотел пожить, к пастуху сходить и поклониться в ноги. Рассказать все, пастуху покаяться... Но послышались выстрелы, ударили по потолку, зазвенели разбиваемые стекла на балконе, зазвенело и посыпалось огромное стенное зеркало, поранило осколком бледное, как бы застывшее лицо княгини.
Подбежал, склонился к ней Микула-атаман и всею силой души загубленной, всею остротой минут последних жизни, смерть и Бога узревший, полюбил ее, как любит пламя смолу. Снова схватил на руки, качнул, как малое дитя, но не пробуждалась, распустилась, тоненькая, легкая, покорная, доверчивая, как жена или невеста, любовью опьяненная. Прижал ее, почуял сладость обладания и горькую, великую тоску и жалость и спешил упиться трепетом ее последнего дыхания, наклонился к самому лицу ее, увидел маленький полуоткрытый рот и усики чуть видные, те самые, в которых видал тогда, у Евстигнея под навесом крошечку от трудового хлеба, с нею разделенного... Чувствовал все тело, маленькие груди, тоненькие руки, ноги, и все это показалось ему столь родным и столь прекрасным и бессмертным, что побежал с княгиней мимо ярко озаренных окон к выходу, а, выбежав на лестницу, вспыхнул пламенем и вспыхнула княгиня, и показался на ступенях тем, внизу, живым, ярко пылающим, огромным крестом. А на кресте горящего неслась последняя, радостная и неумолимая команда атамана своей армии:
- А ну!.. Стреляйте же!..
Но смолкли голоса и прекратились выстрелы.
Дрогнули, закаменели взбунтовавшиеся сотоварищи Терентия. Видели, но глазам своим не верили.
Прижав к груди своей столь дорого оплаченную добычу, атаман Лихой сгорал стоя, заживо, и криком громовым и радостным, обращенным через головы дружины к зарумянившей Восток заре предутренней, прокричал, как песню:
- Вижу, Господи, Твой лик пречистый, огненный! Вижу суд Твой праведный!..
И поднял и тряхнул бестрепетно лежащую на его руках княгиню и, задыхаясь в дыму, встряхивая вспыхнувшей папахой, ссыпая с себя искры, еще громче прокричал, пропел молитвенно, Микула-богатырь:
- Господи! Прими же этот дар из окаянных рук моих! И не прошу я у Тебя прощения! Знаю - не достоин...
И живо искрящейся головнею повалился со ступней княжеского замка.
...Так точно показали многие из видевших и слышавших все это. И были накрепко покорены этим видением верные и вероломные дружинники его, бесстрашного Лихого атамана, Микулы Петровановича, по отцу-царю: Буяновича.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО СКАЗАНИЯ
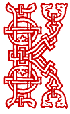 нязи!.. Князи!.. А откуда они князи? - Все из той же скользкой грязи!..
нязи!.. Князи!.. А откуда они князи? - Все из той же скользкой грязи!..