Г.Д.Гребенщиков
В ДОРОГЕ
(По одному из Сибирских проселков)
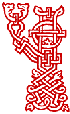 уткую тишину светлой осенней ночи нарушает одинокое гудение колокольцев и бойкий топот тройки маленьких сибирских лошадей, впряженных в проходную повозку моего чиновного спутника, который, развалившись на мягком, относительно удобном сиденье, сладко похрапывает, убаюканный прохладным веяньем прекрасной осенней ночи и мягким покачиванием повозки.
уткую тишину светлой осенней ночи нарушает одинокое гудение колокольцев и бойкий топот тройки маленьких сибирских лошадей, впряженных в проходную повозку моего чиновного спутника, который, развалившись на мягком, относительно удобном сиденье, сладко похрапывает, убаюканный прохладным веяньем прекрасной осенней ночи и мягким покачиванием повозки.
Ночь воистину волшебная. С темно-голубого неба, усеянного светлыми мерцающими точками, спокойно и величаво смотрит луна. Ее бледный свет обливает широкие степные поляны и высокие, точно зачарованные в своем безмолвии горы с их седыми древними скалами. Серебристый иней на поверхности пожелтевшей травы играет тысячами огней, а окружающая, как бы торжественная тишина, внушает невольное уважение к царице-природе и будит страстные и в то же время грустные думы… Трудно забыть эти редкие минуты. Каким благородством веет тогда от невинных желаний: как хочется любить всех и все, кому-то простить, или пробудить кого-то к лучшим истинно благородным стремлениям... И все это кажется так возможным и исполнимым! Это именно те минуты, когда в человеческом сердце отсутствуют тяжелые сомнения, и особенно, когда он, будучи среди природы почти одиноким, находится в соприкосновении с ее Божественным чарующим величием, всегда спокойным, вечно неизменным и непобедимым. Но, увы, эти минуты обыкновенно продолжаются недолго…
Колокольцы замолкли и лошади, тяжело дыша, остановились у деревянной избы с надписью над крыльцом: “Земская квартира”. Я очнулся от своего минутного мысленного увлечения и вижу, что, залитая лунным светом деревня, крепко спит… Косые тени от старых и мрачных избенок черными чудовищами растянулись по улице… Все избенки, почему-то покосившиеся, полуразваленные, без крыш… Некоторые окна без стекол и заткнуты грязными подушками и тряпицами… Вон под окном зачем-то навалена куча навозу, и на ней спит собака. А вот, среди улицы, валяется дохлая собака: голова раздавлена телегой, зубы оскалены, глаза остекленели и зловеще смотрят на луну… “Отчего же такая грязь и нищета кругом?” – закрадывается в голову вопрос, но не может найти ответа… Я закрываю глаза…С другого конца деревни вдруг послышалась дикая деревенская песня, а вслед за ней грубые ругательства: это деревенская молодежь расходится с вечеринки. С той же стороны слышится затем пронзительный женский крик с мольбой о пощаде… Как бы в ответ этому крику с соседней крыши раздается отчаянное мяуканье кошек… Затем снова все смолкло и деревня погрузилась в сон. В душу закралось какое-то тяжелое чувство, похожее не то на жалость к кому-то, не то на безотчетную тоску.
Наконец, лошади перепряжены, колокольчик звякнул и жалобно завыл, точно разделяя мое настроение. Мелькнули серые избы, и лай встревоженных собак был нам прощальным приветом.
И снова мы в поле, снова жадно вдыхаю я в себя свежий воздух и закрываю глаза, стараюсь скорее прогнать от себя нехорошие думы, но попытки мои остаются тщетными: минутная остановка в этой спящей деревне испортила мое настроение, вспугнула отрадные мысли. Свежие кони быстро уносят нас дальше от этой спящей неприветливой деревни. Луна опустилась ниже к горизонту, и кажется мне, что теперь ее круглый мертвенно-бледный диск посылает на землю какой-то холодный и презрительный взгляд… Жутко становится перед этим вечным, безмолвным взглядом, перед этим отражением Божественного света и величия…
Скоро восточный небосклон стал светлее, а затем зарумянился: это вспыхивает заря. В другое время я любовался бы ее красотой и свежестью и благословлял бы нарождающееся утро, но теперь мне не до того… Я был занят другим: осуждал людей… Я знал, что приближается следующая, уже проснувшаяся деревня. Не та деревня, которою когда-то славилась Русь… Не та, в которой простота нравов чиста и невинна как майское утро, которая богата наивным добродушием патриархальных старцев, скромностью юношей и стыдливостью красивых девушек… Нет! Это наша Сибирская деревня, заброшенная далеко от культурного центра, лишенная всякого нравственного тепла и света.
Вот навстречу нам едет мужик, в серой сермяженке и войлочной шляпе, маленький ростом, белокурый, с мочалоподобной бородкой и маленькими синими глазами… В ветхую скрипучую тележонку впряжена еле живая кляча неопределенной масти, по которой с невозмутимым спокойствием, мурлыча себе под нос песню, ее повелитель ежеминутно ударяет жидким прутом, беспрестанно дергая вожжами. Он пристально и злобно взглянул на нас и для чего-то сплюнул…
“Почему же он так зверски зол, - невольно спрашиваю я себя, - и лошадь бьет, точно дело делает и в первом встречном видит врага?..”
А вот небольшая грязная речка, через которую перекинут жидкий, животрепещущий мостик, обильно посыпанный свежим навозом. По берегам ее уныло стоят старые полуизгнившие пни, когда-то могучих тополей, а между ними, печально покачивая жидкими верхушками, ютится чаща тальнику и черемухи. Вблизи дороги, в жалких остатках этой чащи, стоят два мужика с топорами в руках и, ожесточенно жестикулируя, стараются перекричать один другого. И в эту минуту ямщик зачем-то остановил лошадей…
Я слышу…
- Горлохват!.. Пучеглазый!..
- Нет, ты сам горлохват: я только три воза привез, а ты уже девять нахватал!.. Жри, хватай!.. Если тебе мало…
- А не зевай!.. Мне-ко на обществе подикость выделили это место, а ты лезешь!.. Уйди лучше…Это мне полагается вырубить…
- Не тронь лучше, а то я те топором заеду, вот те Христос… Уйди от греха!..
В душе моей заклокотало острое чувство негодования, и я уже совсем приготовился злобно им крикнуть: Что вы делаете? Ведь вы делите последнюю шкуру, последний прут крадете у себя же, у вас скоро пересохнут и без того испорченные вами речки и тогда ваша богатые хлебородные поля превратятся в песчаную пустыню!..”
Но в это время мой чиновный спутник, пробудившись, крикнул ямщику: “Что ты остановился?”.
Лошади бойко подхватывают и уносят нас дальше, а негодование в груди растет и переходит в жалость к чудовищно-грубому истребителю: “Он, сын и внук себе подобного, как справят с него?!.”
Но вот другая деревня. Собаки громким лаем приветствуют нас. Притомленные лошади пошли мелкой рысью. Из косых позеленевших окошек низеньких полуразвалившихся избенок выглядывают сморщенные лица старых домоседок… Пузатый мальчуган, лет шести, в отцовском старом картузе и материной кацавейке, обрадованный случаю, схватывает с земли камень и, запустив его в ноги нашим лошадям, спешит спрятаться в воротах… Пьяный мужик зигзагами плетется по улице и кому-то внушительно грозит грязным кулаком. Поравнявшись с нами и остановившись, он издает неприличное словоизвержение, неизвестно к кому относящееся… Мелькнули колья огородов, украшенные скелетами конских голов, а на одной из поветей, на длинной палке, висит дохлый петух, исполнявший очевидно еще весною должность хранителя капустной рассады. Пересекающая деревню грязная улица, извивающаяся между старыми косыми избами, кажется нескончаемой.
В одном из косых переулков две соседки-бабы, в высоко подтыканных юбках, размахивая руками, визгливо о чем-то спорят. Одна из них держала на руках курицу, которая громко кудахтала… Среди улицы там и тут валяются кучи навоза, смешанного с отбросами арбузов и дынь, и поломанными стеклами… У одной из избушек, лениво почесывая разные места своего тела, бродит с топором в руках мужик, очевидно не для того, чтобы что-нибудь сделать, а для того, чтобы находиться у дела. Лицо у него сердито-нахмуренное.
Лошади остановились опять у земской квартиры. Мы захотели есть и попросили чаю. Толстая баба с подбитыми глазами подала нам самовар.
- Кто это тебя, баба, так отчихвостил? – с ненавистью спросил мой спутник.
- А признаться… Ваше почтение, выпили вчерась… А муж-то мой и рассердился на то, что за парнишка я заступилась… Он это парненку-то водки подносит, а парненок плачет. Я и гырю: че же ты мол, Савелич, делаешь? Ребенок он ведь еще… А он меня хвать раз, да и вдругорядь… Не твое, гыть, дело…
- Да, что у вас праздник что ли вчера был?
- Да хушь не праздник, а так… сотским он, муж-от мой, ну дак угостили: знаешь, дело наше христианское…
- Ну, вот вам… - обратился мой спутник уже ко мне, насмешливо и ядовито улыбаясь, - заслуживают они хоть сотую долю сочувствия или любви, или нет? Ну, скажите, что в них осталось святого?.. А Посты Великие и все прочее они исполняют вероятно исправно… Пожалуй, и молитву читать умеют!.. Ребенка пить водку заставляют и за доброе слово жене глаза выбивают… Э, да ни к чему не ведет эта самая ваша любовь к ним!
И он отчаянно махнул рукой. Я не хотел возражать ему.
Лошади перепряжены и снова загудел колокольчик. Разгорелось тихое ясное утро, каких мало бывает осенью, и ослепительными теплыми лучами ласкало широкую степь с увядшей пожелтевшей травою и поблекшими отжившими цветами. Мы быстро ехали дальше.
“Когда придет весна, как красиво разоденется эта степь, в каком изобилии зацветут цветы на ней, зазеленеет трава, - размышлял я. – Хорошо должно быть тут, - с горечью прибавил: – Не кому оценить это хорошее. Среди такого простора, такой природы, так жалок, так зол человек и некому научить его сознаться в этом, некому пробудить его к живой, интересной жизни… Некому напомнить ему о его нищете духовной… Сам же он не в силах понять этого… Он способен лишь проклинать свою судьбу и всеми силами стараться ненавидеть то, в чем заключается не только спасение, но вместе с ним и благосостояние всей России… Он нехотя из-за куска хлеба, через силу, тянет свою тяжелую лямку… Тяжела она для него потому, что ненавистна, ненавистна не потому, что он не умеет любить природу, не может и даже не пытается понять ее великого назначения!.. Для него непонятно также, что истинно плодотворный труд, - есть жизнь живая и что труд, который нравится, перестает быть тяжелым и становится потребностью жизни”.
Мчится тройка, повозка покачивается, звенит колокольчик… Далеко и широко раскинулась Сибирская девственная степь, местами взволнованная холмами и увалами и лишь изредка испещренная квадратами осиротелых крестьянских пашен.
И сотни верст будешь ехать также и нигде не встретит тебя уютная, разумно устроенная усадьба, только разбитый палисадник и правильно организованное хозяйство… Нигде не выйдет к тебе навстречу приветливо улыбающийся гостеприимный хозяин, довольный своею судьбою, благодарный Царю-Царей за Его неисчерпаемые блага на этих привольных местах богатой, но дикой страны… Некому устраивать ее, разумно обрабатывать ее плодородные тучные нивы, некому не только взлелеять сад, но и сберечь последний кустик!.. В душу закрадывается горькое сознание, что мы неспособны помочь этому страшному горю, ни живым участием в деле, ни желанным примером, ни даже посильным словом… Мы способны пока только ненавидеть этого грязного невежду-мужика и отчаянно, безнадежно махать рукой… Еще с большей горечью ощущается в глубине души опасение, что пока элита едет, явится сюда (если уже не явился) расчетливый еврей, или аккуратный немец, а то и сам предприимчивый англичанин и, ругая нас же, над нами же насмехаясь, будет умело эксплуатировать наши родные богатства, ты, всегда бедный и вечно ноющий мужик, засоня, пойдешь к нему в батраки и как покорный пес будешь подбирать крохи, падающие со стола его…
Лошади по-прежнему бойко скачут. Постукивает тарантас, а колокольчик жалобно плачет…
“Отголоски сибирских окраин”
Семипалатинск. 1906 г.
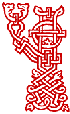 уткую тишину светлой осенней ночи нарушает одинокое гудение колокольцев и бойкий топот тройки маленьких сибирских лошадей, впряженных в проходную повозку моего чиновного спутника, который, развалившись на мягком, относительно удобном сиденье, сладко похрапывает, убаюканный прохладным веяньем прекрасной осенней ночи и мягким покачиванием повозки.
уткую тишину светлой осенней ночи нарушает одинокое гудение колокольцев и бойкий топот тройки маленьких сибирских лошадей, впряженных в проходную повозку моего чиновного спутника, который, развалившись на мягком, относительно удобном сиденье, сладко похрапывает, убаюканный прохладным веяньем прекрасной осенней ночи и мягким покачиванием повозки.